Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
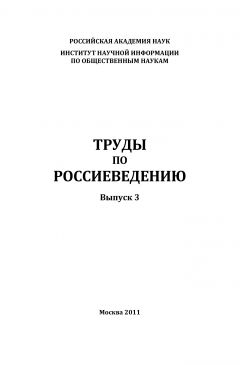
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Естественно возникал вопрос: что будет дальше? И здесь следует учитывать несколько обстоятельств. Советские люди предвоенного «образца», привыкшие к чрезвычайщине, репрессивности, к существованию на грани жизни и смерти, воспитанные войной и для войны, выдержали ее нечеловеческое напряжение. И надорвались – после Великой Отечественной война для нас возможна только как воспоминание. В рамках послевоенного порядка запустился процесс разложения раннесоветской мобилизационной системы.
В войне и войной закончился «развитой сталинизм» (1929–1941); послевоенная политика, выглядевшая как его апофеоз, в действительности – лишь арьергардные бои. Их смысл – задавить, скрыть внутреннее перерождение режима163163
О характере этого перерождения см.: 49, с. 76–91.
[Закрыть]. После смерти Сталина социальная «демобилизация» пошла полным ходом; ее сдерживала только холодная война, милитарная гонка двух систем. Но вектор режимной трансформации вполне определился: от военного интереса – к гражданскому, от системного – к частному, от общего – к личному (мещанско-обывательскому обустройству), который в той системе мог реализоваться только как антиобщественный. Послевоенное советское общество перестало понимать себя как единый военный лагерь – вооруженную «эсэсэрию» в кольце врагов. Оно хотело не выживать, готовясь к войне и жертвуя собой во имя победы, а просто жить. Но логика социальной самореализации осталась прежней: каждый сам за себя – и против всех. В мирной жизни, потребительско-обывательской реальности действовали «понятия» гражданской войны.
В то же время в Отечественной накопился и ждал реализации эмансипационный потенциал. Это неизбежно: войны такого масштаба и накала не выигрывают люди-«винтики», серая масса под дулом заградотрядов. (Карательно-принудительный инструментарий, созданный личной инициативой Сталина, не способен сыграть решающей роли в такой войне. Нельзя принудить воевать, как невозможно сконструировать Отечественную «сверху» – это показал опыт Первой мировой.) Во «вторую Отечественную» народонаселение («популяция», по терминологии «Русской Системы»164164
Речь идет о работе Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова «Русская Система» (см.: Политическая наука. – М., 1997. – № 2, 3).
[Закрыть]) выросло в народ; из подлинно патриотического порыва родился гражданин. Народ-победитель/солдат-гражданин, ощутив себя субъектом истории, вершителем исторических судеб мира, естественно захотел свободы, сужения зоны властного контроля и насилия. В конечном счете двойной социальный запрос – на свободу и потребление – и уничтожил сталинский порядок.
В связи с войной возникла и проблема культурного, ментального характера: как о ней помнить. Ощущение себя победителями определяло послевоенную – живую, «участническую» – память советских людей. Но она вовсе не была победной, не центрировалась на все объясняющий и оправдывающий результат. Напротив, нестерпимая боль войны, а также тяжесть и беспросветность (не экономическая только) послевоенной ситуации заставляли обостренно, мучительно переживать проблему цены Победы. Кроме того, то была память, как бы «стремившаяся» к забвению (что, видимо, инстинктивно чувствовала и использовала в своих интересах сталинская власть). Пережившие войну ощущали ее как ужас, трагедию, главную травму своей жизни. Они хотели забыть – перекрыть войну миром.
И наконец, это пример памяти победителя, которому не воздали по заслугам. Послевоенное двадцатилетие прошло под знаком недооцененности народной Победы – власть «забыла» о том, что имеет дело с народом-победителем, отказала в достойной его награде. Видимо, прежде всего потому, что боялась быть призванной этим победителем к ответу за те непомерные военные жертвы, что ему пришлось принести, в том числе по ее вине. Это подвергало эрозии военное единство народа и власти, естественное и неизбежное в эпохи наших отечественных.
Сталинский официоз: народ или вождь
Следует отдать должное массово-мобилизационному, сталинскому режиму. Разлагаясь и преобразуясь под напором перемен и проблем, порожденных войной, он не сдавался. В чем-то уступил, став только прошлым, в другом победил, оставшись нашим настоящим. Одна из главных его побед – ментальная, культурная: над мировоззрением и памятью позднесоветского и постсоветского человека. Сталинский режим задал нам алгоритм воспоминаний, сформировал наш образ мыслей, надолго, видимо, заперев в особую мировоззренческую, ценностную систему (своего рода охранную зону, ментальную тюрьму/лагерь, которую – в отсутствие Сталина – мы сами охраняем от вторжения, от перестройки). Наша «особость», «отдельность» от других (в том числе от бывших союзников, современного сообщества развитых стран) – в этих алгоритме и образе. И память о войне занимает здесь едва ли не главное место.
Именно в области памяти режим и вождь взяли реванш у истории, «выправив» ее в свою пользу. При этом воспользовались всеми находками патриотического масскульта, вписавшего «материал» войны в матрицу национального культурного мифа, скрыв их подлинный источник, приписав себе. Результатом «выправления» и присвоения стал сталинский официоз, сформированный в военные и первые послевоенные годы165165
Его основу составили речи, доклады и приказы Сталина (55; 56 (еще в годы войны этот сборник 1942 г. широко внедрялся в систему партийного просвещения); 57); материалы второго издания его биографии (29); речи и выступления политического и военного руководства СССР, публиковавшиеся к 70-летию вождя (см., например: 5; 7). Основные положения сталинской концепции войны тиражировались в исторических трудах, школьных и вузовских учебниках истории, периодической печати, имея для них значение «Краткого курса»-2.
[Закрыть]. В его основе – образ священной (великой, всенародной) войны. Такое определение не только придавало войне высшую ценность (качество священной истории), вписывало в российско-советское прошлое (само его единство выстраивалось через героико-патриотические события, вершиной которых была советская Отечественная), национальную культурную традицию и позитивно высвечивало настоящее. Концепция Второй мировой войны как Отечественной позволяла объяснить ситуации и темы, крайне опасные для режима и лично вождя: «предвоенную политику», вступление страны в войну и методы ведения военных действий. Отечественная обладала неистощимым оправдательным потенциалом, который власть беззастенчиво и последовательно эксплуатировала.
В соответствии с официальной концепцией четко выстраивались логика, сценарий, даже хронологические рамки войны. Весь предвоенный период объяснялся «сверхзадачей» подготовки к войне и сдерживания агрессора. По Сталину, коллективизация и индустриализация (курс вождя с конца 1920-х годов) явились необходимыми условиями обороноспособности страны; Советский Союз всегда придерживался политики коллективной безопасности; пакт о ненападении с гитлеровской Германией от 23 августа 1939 г. был единственно правильным для СССР решением в безвыходной ситуации, когда его «предали» западные «демократические» державы; это «инструмент мира», исключительно «мирный акт», имевший целью «облегчение напряжения в международной обстановке»166166
Правда. – М., 1939. – 24 авг.
[Закрыть]; грубое и подлое нарушение пакта немецкой стороной, имевшей к тому же численное превосходство над Красной Армией в боевой технике и живой силе и опыт ведения крупных военных операций в Европе, а также отсутствие второго фронта против Германии, стали основными факторами успеха немцев (см.: 56, с. 10–12, 20–26, 42–44, 79–80, 92, 116, 167 и др.)167167
Сталинский проект детально восстановлен в исторических исследованиях (см., например: 37, с. 275–277; 63, с. 88).
[Закрыть]. В сталинской трактовке нет темы вины режима; более того, она ее не предполагает. Сама война (вероломное нападение, к которому, кажется, нельзя быть готовым, сила немецкой армии, двусмысленная позиция союзников) дала режиму возможность обелить себя: свести начало исключительно к жертвам и героизму, списать все свои вины на внешние силы.
Весь негативный для режима исторический материал был вытеснен в предысторию Отечественной. Общие с европейским агрессором военные программы, завоевательные походы в сталинской концепции войной не считались. Для СССР как бы не было Второй мировой – Сталин вычеркнул ее из советской истории. Война началась 22 июня 1941 г. с внезапной, вероломной агрессии – как Отечественная. История конца 1930-х – начала 1940-х не просто была переработана так, что СССР выглядел в ней исключительно жертвой. Из культурно-исторической посылки, зафиксированной в массовом сознании, – только оборонительная и справедливая война может быть Отечественной – официоз делал свой вывод: раз война была Отечественной, значит, справедливо все, что с ней связано. СССР изначально был нацелен на оборонительную войну; когда не оборонялся – освобождал, но не завоевывал (см., например: 55, с. 7–9, 13). Сталинской Отечественной фактически подтверждалась советская формула: по своей природе СССР не мог вести несправедливых войн.
Это не единственный пример того, как доведенная до абсурда логика священной войны позволяла извратить историю Отечественной. В сталинском официозе удалось предельно минимизировать интернациональный план войны, придать ему в основном негативный смысл. Война у Сталина выглядит не единым антифашистским фронтом, а, скорее, прологом противостояния двух систем168168
Следует отметить, что в период поражений Сталин подчеркивал и общий европейский контекст Отечественной, и значение для СССР военного союзничества. В первом же обращении к народу (3 июля 1941 г.) он сказал, что в своей освободительной войне советский народ не будет одинок: «…мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки… Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения…» (55, с. 13). В приказе народного комиссара обороны 1 мая 1942 г. указывалось: «против немецкого империализма объединились все свободолюбивые народы»; первое место среди них занимают Великобритания и США, с которыми «мы связаны узами дружбы и союза и которые оказывают нашей стране все большую и большую военную помощь» (там же, с. 43–44, 47). Тональность сталинских высказываний меняется уже в «эпоху» побед; с начала 1943 г. все больше подчеркивается одиночество СССР в войне (56, с. 80, 89). В 1944 г. Сталин опять говорит о «великих союзниках» СССР и признает, что «враг не выдержал совместных ударов Красной Армии и союзных войск» (там же, с. 143, 157). Однако после 1945 г. история союзничества была принесена в жертву официозу, использовавшему прошлое для «подкрепления» текущей политики и определения задач на будущее.
[Закрыть]. СССР в ней представлен жертвой – причем не только немецкой агрессии, но по существу – враждебного внешнего мира (прежде всего будущих союзников, которые в канун войны фактически «сдали» его захватчику)169169
Показательно, как сталинские положения были развиты в брежневское время. В исторических исследованиях и научно-популярных изданиях 1970-х годов указывалось на решающую роль СССР в разгроме фашистского блока; политика США и Великобритании представлялась противоречивой и непоследовательной. Утверждалось, что США и Великобритания «стремились повергнуть своих империалистических противников и занять их место в Европе и Азии, а также максимально ослабить войной Советской Союз и превратить его во второстепенную державу». Тема антигитлеровской коалиции в популярных изданиях вообще обходилась (37, с. 301).
[Закрыть]. Именно общая враждебность «окружения» в соответствии с этой неявной, но вполне внятной установкой, и прорвалась немецкой агрессией.
Вывод очевиден: СССР (конечно, вслед за Россией, которую за победу над Наполеоном Европа «отблагодарила» «титулом» европейского жандарма) одинок в мире; наша историческая судьба – оборона, изоляционизм, закрытость. В этом наша сила; мы – особый мир; с тем, что отдельно от нас, можно только бороться за доминирование. Здесь очевидна апелляция к массовому (т.е. крестьянскому) изоляционистскому сознанию (его основная установка: враждебен весь мир за деревенской околицей), а также к выращенной из него режимом глубокой убежденности простого советского человека в том, что его страна окружена «кольцом врагов». Это своего рода завещание, сталинский посыл в будущее: оставаться одинокими и вести справедливую борьбу с «враждебным окружением» за «национальные интересы» – формула нашего исторического существования.
Во многом благодаря мифологии Отечественных Сталину удалось, казалось бы, невозможное: вписать поражения в логику побед и тем самым оправдать их, дать им приемлемое объяснение. Катастрофа начала войны была для вождя личной темой и главной травмой, ставившей под сомнение его властную полноценность. Проблема разрешилась концепцией «активной обороны»: поражения и оккупация выглядели в ней управляемым процессом, подчиненным стратегическим и тактическим планам верховной власти, – необходимой подготовкой к победоносному контрнаступлению. Во время войны Сталин в самом общем виде сформулировал эту идею, ссылаясь при этом на опыт разгрома русской армией Наполеона. «Активная оборона», по вождю, – это «контрнаступление после успешного наступления противника, не давшего, однако, решающих результатов, в течение которого обороняющийся собирает силы, переходит в контрнаступление и наносит противнику решительное поражение… Хорошо организованное контрнаступление является очень интересным видом наступления» (цит. по: 37, с. 278)170170
В приказе народного комиссара обороны 1 мая 1942 г., вероятно, впервые публично прозвучало: «Нельзя считать случайностью тот общеизвестный факт, что после временного отхода, вызванного вероломным нападением немецких империалистов, Красная Армия добилась перелома в ходе войны и перешла от активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска» (55, с. 48).
[Закрыть].
Эта «формула» была немедленно подкреплена историческим материалом, став основой трактовки периода поражений в сталинской науке. «Авантюристической германской стратегии “молниеносной войны” товарищ Сталин противопоставил мудрую стратегию активной обороны.., – утверждалось, например, в типичной для своего времени работе 1952 г. – Советская армия должна была жестокой обороной в сочетании с непрерывными контрударами заставить разбросать силы своих ударных группировок, измотать и ослабить вражеские войска, затормозить их продвижение, выиграть время для развертывания главных сил Советского государства» (цит. по: 37, с. 280). Этой версией, совершенно извращавшей историю, весь первый, неудачный, проигранный режимом период сводился к оборонительной войне, сценарий которой хорошо известен по культурному мифу: от вероломного нападения и героической обороны – к победоносному наступлению, освобождению оккупированных территорий, уничтожению агрессора. Все жертвы и потери начала войны приобретали высокую осмысленность, «работая» на Победу.
Милитарно-имперско-победная логика придавала войне внутренние связность, стройность и осмысленность, настаивала на изначальной неизбежности – несмотря ни на что – спасительного исхода. Второй (и главный) этап Отечественной в сталинском официозе центрирован на Победу; фактически это история не о войне, а о Великой Победе и ее всемирно-историческом значении. Причем не о мистической, чудесной и потому рационально необъяснимой Победе, какой она представала в мифологии «первой Отечественной» и отчасти выглядела в сталинских обращениях к народу периода поражений. Победа у Сталина-победителя закономерна не только с военно-стратегической, но и с исторической точки зрения. Из нее исключены факторы стихийности, самодеятельности, случайности; она не является предметом веры, но подчинена действию той «исторической закономерности», знание которой отличало ленинцев-сталинцев и монопольно принадлежало их партии.
Победа, по Сталину, есть прежде всего доказательство превосходства советской системы – не над Германией даже (это очевидно), а над всем остальным (т.е. и тем, вместе с которым мы победили) миром. Она важна не сама по себе, а как историческое подтверждение преимуществ социализма, построенного в СССР под руководством Коммунистической партии и лично Сталина (см.: 56, с. 69–70, 136–137, 158–159 и др.)171171
Отчетливее всего положение о превосходстве советского социализма сформулировано в речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа 9 февраля 1946 г. (см.: 37, с. 278–281).
[Закрыть]. Победоносная Отечественная, как это уже бывало в русской истории, стала основой легитимирующего мифа о «правильности» власти и созданного ею социального порядка. (Это, помимо прочего, свидетельствовало против их реформирования: залог будущих советских побед как бы полагался в неизменности власти/порядка, что делало победу своего рода историческим оправданием советского «застоя».) Но в «работе» над ней Сталин пошел дальше предшественников. Победа у него не субстанциальна, а функциональна: служит питательной средой представления о превосходстве социалистической системы над империалистическим Западом. В отличие от начала XIX в., где мифология превосходства над Западом была краткосрочна и конкурировала с другими мифологемами, этот постулат стал мировоззренческим основанием всей послевоенной политики. Сталинский военный официоз, обеспечив режиму великое прошлое, задал ему задачу на будущее, которая его и сгубила: «перманентная» война с капиталистическим Западом за мировое господство. Она обосновывалась идеологией несовместимости двух систем и преимуществ собственной. Верой в превосходство, подкрепленной Великой Победой, во многом объясняется самомнение советского руководства, переоценка им сил и возможностей страны в годы холодной войны172172
«Односторонняя некритическая оценка итогов Отечественной войны, игнорирование и замалчивание людских потерь в войне оказало негативное воздействие на послевоенную политику советского руководства, – отмечает современный исследователь. – Сознание стоящих у кормила власти руководителей партии и государства находилось долгие годы в плену “обобщенного” таким образом опыта войны. Самодовольство и самовосхваление, “сознание превосходства” социализма как системы (в экономическом, политическом и социальном плане) и уверенность в неизбежности его победы над империализмом, усилившаяся под влиянием победы СССР над фашистской Германией и ее союзниками, мешали ему (руководству) реалистично оценивать международную и внутреннюю обстановку и главный ее элемент – соотношение и расстановку сил в мире, питали его авантюризм во внутренней и внешней политике» (37, с. 309).
[Закрыть].
В конечном счете все усилия сталинского официоза были сконцентрированы на том, чтобы «перекрыть» войну победной логикой, с помощью Победы вывести «за скобки» (в непубличное и потому как бы несуществующее пространство) сложнейшую, трагически невыносимую военную реальность. Единственным ответом официоза/режима на непростые вопросы, неизбежно возникавшие в связи с войной, была Победа («а все-таки мы победили»). Так решалась и главная проблема Отечественной – цены/жертв. Табуизируя историю потерь173173
Опять же справедливости ради отметим, что это очень напоминает историю о другой Отечественной. Современный исследователь так характеризует послевоенную (начала ХIХ в.) «политику памяти»: «Память и сознание современников формируются не только наличествующим, но и отсутствующим – “зонами умолчания”. Раздавая награды живым, Александр I явно желал забыть смерть, сопровождавшую войну. Правительство “прятало” убитых. Не было ни больших, ни малых кладбищ павших на войне, не было воздвигнуто значительных памятников и мемориалов. Захоронения погибших не опознавались и не идентифицировались: они производились на полях сражений в массовых могилах с единым крестом или камнем. И это касалось не только рядовых, но и офицерского состава… Поведение власти объясняется тем, что кладбища с идентифицированными могилами позволяют утвердить память о потерях. Само по себе их наличие способствует осознанию современниками размеров национальной жертвы, платы за победу. Но именно это и не “вписывалось” в александровскую концепцию священной войны, где Господь вел и защищал только “правых”, сохранял для жизни благоверных… Поэтому Александр I не допускал ритуального оплакивания жертв войны – ведь нельзя же, в самом деле, скорбеть об избранниках Господа. Можно лишь молиться за их души и прославлять их ратный подвиг» (6, с. 222, 223). Нейтрализация темы жертв/цены вполне оправдана с режимной точки зрения, а ее актуализация – совершенно в интересах общества, будит его самосознание.
[Закрыть], режим установил приемлемую (т.е. ту, с которой хоть как-то можно было смириться) цену Победы – 7 млн. жизней; жертвы не просто героизировались – жертвенность вводилась в норму.
Через победно-освободительную призму рассматривалась вся связанная с войной агрессивно-экспансионистская история СССР. Значение «освободительного похода» приписывалось не только действиям Красной Армии в 1939–1940 гг., но и поглощению Восточной Европы. В официозе оно выглядело так, как об этом сказал Сталин в радиообращении к народу 6 ноября 1941 г.: цель союзных армий – помочь «порабощенным народам Европы и СССР» «в освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов!» (55, с. 29, 30)174174
«У нас нет и не может быть таких целей войны, – указывал Сталин, – как навязывание своей воли и своего режима славянским и другим народам Европы, ждущим от нас помощи» (55, с. 30). Наша война, говорил он, «освободительная, справедливая» (там же, с. 29, 49–50).
[Закрыть]. Создание из этих народов «соцлагеря» трактовалось (а потом и воспринималось) не как завоевание, а как продолжение Отечественной. Освободительная логика войны позволяла придать высокий смысл имперской экспансии, «прочитать» ее в эмансипационном ключе.
Правда, «европейский поход» Советской армии и союзничество с западными державами, связанные с узнаванием Запада советским человеком (и его «искушением» Западом), создавали для режима проблему, неразрешимую только символическими средствами: не допустить появления новых декабристов и февралистов. Справлялись с ней старыми методами – активизацией гражданской войны. «Враг» в ней идентифицировался уже не по социальному признаку (Отечественная обеспечила поравнение/единство народа), а по отношению к внешнему миру, по внешнеполитической ориентации: подвержен влиянию «капиталистического Запада» (хотя бы потенциально) – значит космополит, шпион, несоветский/нечеловек. Репрессии получали мировоззренческое основание и были направлены против «неустойчивых» (подозрительных для режима и социального большинства) в этом смысле сил – интеллигенции (космополитической по своей природе), отдельных представителей «масс» и целых народов175175
Особый мобилизационный эффект имело придание статуса врага еврейскому народу. Это выглядело особо цинично на фоне разоблачений нацистского антисемитизма, но именно из-за своего цинизма являлось сильнейшим вызовом Западу. Внутри же страны служило самым эффективным средством подъема националистической, погромно-черносотенной волны, изоляционистских, конфронтационных и великодержавных настроений.
[Закрыть].
Внутренние репрессии, как и рост агрессивной идеологии победоносного великодержавия, имевшие целью покончить с «тлетворным влиянием» Запада, уберечь от расширения/космополизации идентификацию советского человека – это вполне естественная реакция власти на вынужденное открытие советской автаркии. В то же время намеренное разжигание социального противостояния, дестабилизация послевоенного народного единства доказывают, что сталинизму был противопоказан «режим» стабильности. Его питала и поддерживала гражданская война (в тех или иных масштабе, формах) – только так он мог существовать.
Сталинская версия войны, послужившая опорной конструкцией позднесоветского исторического официоза, представляла собой цельную, логическую и весьма примитивную (что облегчало ее усвоение массовым сознанием) схему. Но это была именно версия, лишь отчасти соотнесенная с историей, строившаяся на чрезвычайно ограниченной фактической основе176176
Так по существу строилась в 1930-е годы и сталинская «история» революции. Как показывает Е. Добренко, «Октябрь стал частью советского “опыта”, но не прямого, а “опыта исторической памяти”, которая явилась “продуктом сознательных исторических манипуляций”». При этом «реальный… травматический опыт революции… стирался» (16, с. 383). Исследователь выводит точную формулу: «…единственное, что не приемлет сталинизм, так это “живое прошлое”» (там же, с. 23).
[Закрыть]. Ее нельзя было проверить, адресуя ей вопросы, – в нее можно было только верить, ища в ней «правильные» ответы177177
То есть относиться к ней следовало так, как к сталинской истории партии. Урок такого отношения дал сам Сталин. В конце сентября – начале октября 1938 г. в Кремле состоялось совещание пропагандистов и руководящих идеологических работников Москвы и Ленинграда по вопросу об организации изучения истории ВКП(б). В ответ на попытку некоторых ораторов высказать критические суждения о «Кратком курсе» вождь заявил, что «задачей совещания является не обсуждение и критика… а одобрение этого учебника» (43, с. 257). Это стало руководством к действию для всех пропагандистов сталинизма.
[Закрыть]. По существу, это не история, а идеология войны, не знание – мировоззрение (материал для формирования ценностей и идентичностей).
В узости и антиисторичности – не только сила, но и уязвимость сталинской концепции. Она могла «работать» только в условиях изоляции – в отсутствии других интерпретаций, исторической критики (поэтому была изоляционистской не только содержательно, но и по технологии продвижения/внедрения в массовое сознание). Не случайно ее сразу стали защищать – причем даже не от иных версий (внутри страны их попросту не могло быть; «внешние» – западных историков – игнорировались, о них не знали), а от исторического поиска, естественно предполагавшего расширение базы фактов и документов178178
Особой защите подлежал предвоенный период, наиболее уязвимый в сталинской версии. Основой для такой защиты стала брошюра «Фальсификаторы истории: Историческая справка» (М., 1948; тираж 5 млн. экз.), изданная в ответ на американо-англо-французскую публикацию 1946 г. «Нацистско-советские отношения, 1939–1941 гг.» с документами из архива МИД Германии (см. об этом: 37, с. 276–277). Концепция и аргументация сталинской брошюры воспроизводились в исторических исследованиях и научно-популярных работах вплоть до распада СССР.
[Закрыть]. В отношении войны (как прежде – революции) обычная историческая работа расценивалась как фальсификация. Она действительно была способна фальсифицировать сталинскую схему, подорвать ее изнутри – ставя вопросы, указывая на противоречия. В рамках официоза было тем труднее удержаться, чем больше становилось известно о войне179179
Не случайно уже в конце 1942 г. Центральная комиссия по истории Великой Отечественной войны, которую возглавил начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров, приняла решение: «Поставить хранение материалов по истории Великой Отечественной войны так, чтобы никто не мог бы ими воспользоваться в ущерб делу, не разглашать сведений и по возможности допускать к материалам меньше людей» (цит. по: 64, с. 277). Этот принцип «использования» документов войны действовал фактически до конца СССР. Они являлись не основой исторического поиска, а инструментом агитации и пропаганды.
[Закрыть]. Собственно, он лишь утверждал, что мы победили, а факты (и вслед за ними – историк, даже невольно, не желая того) рассказывали о том, как победили. Защита/очищение Отечественной от «фальсификаций» (иначе говоря, от историзации – изучения и осмысления) стала своего рода миссией власти.
Норматив идеологической защиты официоза от истории дал, конечно, Сталин. «Пожалуй, историки ни одной войны в прошлом не имели столь законченной концепции истории войны, столь конкретных и категорических социальных установок по поводу того, как писать историю войны и как оценивать ее важнейшие события, какие имели советские историки, – указывает современный исследователь. – Эти установки нельзя было игнорировать в первое десятилетие после войны… Самые общие высказывания и замечания Сталина, с одной стороны, декретировались, а с другой – воспринимались историками как откровения, высшие достижения научной мысли и не подвергались сомнениям или критике. Они становились непререкаемыми постулатами в написании истории Великой Отечественной войны… Для их подтверждения ученые подбирали факты, документы и другие материалы, а нередко и подгоняли их… Большинство работ о войне того времени представляли набор цитат из книг Сталина и его сподвижников или перефразирование их с использованием незначительного по содержанию и объему фактического материала для их иллюстрации» (37, с. 280).
Историки фактически превратились в популяризаторов сталинской концепции Отечественной. Они сами защищали ее от «исторических фальсификаций» – причем в некоторых случаях подправляли самого вождя. В историографии, к примеру, не получило развития сталинское положение: у советского правительства «было немало ошибок, были… моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала»180180
Это фраза из выступления Сталина 24 мая 1945 г. на кремлевском приеме в честь командующих войсками Красной Армии со знаменитым тостом «за здоровье русского народа» (56, с. 196).
[Закрыть]. Видимо, опыт и чутье подсказали популяризаторам, что такие признания могут исходить только от «первоисточника» и не нуждаются в фактическом подтверждении. Но в целом стараниями «служилых» историков (а также журналистов, писателей, работников искусства) сталинская концепция войны была проведена в жизнь, подменив историю Отечественной.
Очевидно, что официоз подчинен в первую очередь интересам режима. Условием его послевоенного выживания было возвращение советского человека в границы системы (иначе говоря, победа режима над народом-победителем). Необходимо было восстановить прежнюю (довоенную) социальную диспозицию: власть (партия/государство) – субъект советской истории, народ – объект, ведомый и направляемый «сверху»; в этом – сила и непобедимость системы. Трактуя в этой логике Отечественную, режим поставил ее себе на службу (как и вся сталинская история, она приобретала «служебный» характер). Прекратилась «демократизация» памяти о войне (ее главным героем стал не человек из народа181181
Так, например, одной из центральных фигур кино военных лет была «женщина» из народа («партизанка»), защищавшая Родину (см.: 28, с. 383–387). В этом – очевидное сходство с репрезентацией «первой Отечественной» со множеством вариаций образа Василисы Кожиной (см.: 6, с. 258–260). Партизанская война, легализованная в брежневской версии Отечественной, полностью контролировалась партией/властью и играла роль своего рода внутреннего «второго фронта».
[Закрыть], а человек системы – вождь, солдат, полководец), ей придавался исключительно управляемый характер: все решалось не стихией «народной войны», а партийно-государственным руководством. Сталин «выдал» народу такую войну, какой она должна была быть; она использовалась для моделирования тех народных качеств, которые требовались режиму. В этом, собственно, и состояло ее значение для «военно-патриотического воспитания» советских людей.
Такая перекодировка народной памяти в официозе означала только одно. Если Отечественная вынудила власть на «социальный контракт» во имя защиты Отечества, то после войны «Сталин-режим» отказался от «договора» с народом, лишив его даже тех незначительных свободы и самостоятельности, которые у него имелись в военное время. Людям была предложена иная (послеотечественная) «платформа» для объединения. В идеологическом отношении режим эволюционировал к агрессивно-милитарному великодержавию, основу которого составила презумпция «естественного превосходства» своей («советско-имперской») «нации» над другими. Закончил сталинизм крайней формой национализма*182
Здесь будет уместно сказать еще несколько слов о сталинском национализме. В ноябре 1941 г., объясняя и оправдывая свой союз с фашистской Германией, Сталин говорил: «Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т.п., их можно было с известным основанием считать националистами» (цит. по: 8, с. 452). Националист, по вождю, это создатель сильного централизованного государства (эффективный государственник), победоносный собиратель «национальных» земель. Сначала с Гитлером, а потом в борьбе против него Сталин открыто явился таким националистом. А так как «собирал» он земли бывшей Российской империи, то явился именно русским националистом. С этим, кстати, связана старая сталинская идея «панрусистской империи» (31, с. 223). Сталин – русский националист, потому что всегда апеллировал к имперскому большинству (причем тем более определенно, что сам принадлежал к «нацменьшинствам»). Не стоит заблуждаться относительно особой любви вождя к русскому народу; все свои народы Сталин любил одинаково, что подтверждает факт их общей и значительной убыли к концу его правления.
[Закрыть] с характерным реакционно-черносотенным оттенком, хотя и использовал социальную и интернациональную риторику. Сталинский же патриотизм, исторической базой которого являлась теперь война, требовал безусловного подчинения народа власти, воспитывал готовность служить ей и умереть за нее (это род «тягла», безусловная обязанность, не связанная с внутренним личным выбором). Единственным фактором мобилизации служил здесь образ врага (не история или культура). «Режим–Сталин» был органически неспособен синтезировать патриотическую идею с интересами человека, гуманизмом.
Тем не менее официальная (сталинская) версия Отечественной стала «важнейшей частью коммунистической идеологии и одним из наиболее эффективных средств воздействия на массы» (37, с. 282). Причем, вошла она в массовое сознание не только из-за особенностей распространения (тиражирования), хотя они и были таковы, что не оставляли возможностей от нее защититься183183
Исследователи войны указывают на чрезвычайную навязчивость, «неистребимость» советской пропаганды, исторического мифотворчества: «По мере накопления знаний о войне, более полного ее освещения в исторической науке возникли проблемы, разрешение которых было необходимо и для познания сущности самой войны, и для обобщения ее опыта. Но серьезным препятствием на этом пути стала уже сложившаяся концепция истории Великой Отечественной войны, составлявшие ее догмы, мифы, стереотипы. Однажды возникшие и вошедшие в печатные работы, а через них и в массовое сознание, они, конечно, преодолеваются с трудом. И дело не только в них самих. Они составили органическую часть идеологии КПСС, одно из важнейших ее направлений и охранялись партией и контролируемым ею государством» (37, с. 288).
[Закрыть]. Сталинский военный официоз был принят массовым сознанием не в последнюю очередь потому, что в нем воспроизводились логика и сценарий мифа священной войны. Недавний военный опыт – настолько тягостный, что ему невозможно было найти аналоги в нашей истории, стал новой основой культурного мифа, дал ему новую жизнь. С середины ХХ в. нашей священной Отечественной является уже не война 1812 г. (это, скорее, ее прообраз, ее «предчувствие»), а события 1941– 1945 гг.: те нашествие, иго (т.е. оккупация), сопротивление (в том числе народная, партизанская война), его герои и жертвы, его вожди (от власти/идеологии и от армии), «Великий перелом» (Сталинградская битва и сражение на Курской дуге) и Победа. Сталинская версия Отечественной нашла естественный отклик в народном сознании, так как имела точки соприкосновения с архетипическим образом священной войны. Все, что этому образу не соответствовало, несовпадением тревожило и травмировало, отвергалось или получало приемлемое – в рамках мифологического сценария – объяснение. Попаданием в самое народное естество, использованием образов и смыслов, давно утвердившихся в национальной культуре, и силен сталинский официоз.
При всей полезности сталинской версии войны режиму, ее адекватности массовым представлениям она не могла составить основу режимной легитимности и народной идентичности. Стержнем сталинского официоза был миф о Сталине – гениальном полководце, который спас страну от смертельной опасности и привел народ к Победе. Главным действующим лицом войны (как, впрочем, и всей советской истории) для Сталина был сам Сталин – не народ, полководцы, солдаты, рабочие и крестьяне. Это утверждают, например, первые послевоенные фильмы о войне, где она показана так, как мечталось вождю – не Великой Отечественной <Оборонительной и Освободительной>, а Великой Сталинской <наступательной и завоевательной>184184
Триумф власти – главная тема, например, «Падения Берлина» (1950) М. Чиаурели, главного придворного кинорежиссера. Здесь характерно само название – падение, а не «освобождение». Свобода – это не про вождя; она не имела для него ценности. Он ведь и так был свободен (в доступном ему смысле: обладал всей полнотой власти), а в отношении других эта тема исключалась – свободному человеку не был нужен Сталин. Победа/Освобождение закономерно превратилась в его руках в раздел мира, порабощение народов Европы (по примеру народов СССР), в военно-силовое доминирование. Причем субъектом такого доминирования был лично И.В. Сталин: он полностью отождествлял себя со страной, которая ему принадлежала и служила. Точны в этом смысле слова, сказанные о нем Б. Окуджавой: «…суть его – пространство и разбой…».
[Закрыть]. Об этом говорилось в биографии Сталина, вышедшей к его главному (70-летнему) юбилею: «Сталин вдохновил советский народ на отпор врагу, Сталин привел советский народ к победе… На разных этапах войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учитывающие особенности обстановки» (29, с. 225, 231). И п.т. Такая претензия – вполне в духе этого лидера, совершенно соответствовала его амбициям.
Война служила тем историческим материалом, из которого вождь лепил образ Сталина – Творца и Спасителя Советской Вселенной. Именно на эту роль он и претендовал, в ней был залог тотальной власти – над людьми, пространством, временем. Земной бог как египетские фараоны185185
Символично, что для бальзамированного тела вождя поначалу предполагалось построить на Красной площади мини-пирамиду. Уже потом останки родоначальников решили совместить в Мавзолее.
[Закрыть], культ которых, кстати, предусматривал поклонение самим себе (фараон-человек поклонялся фараону-божеству), – вот чем должен был быть Сталин «по-Сталину». Этим страстным желанием быть богом Сталин отличался от Ленина с его революционно-партийным вождизмом и разночинным демократизмом.
В мае 45-го Сталин получил больше, чем когда-либо надеялся. Теперь для самоутверждения ему не нужно было прошлое (все исторические звезды, засиявшие в войну, как-то потускнели, ушли на периферию; и это понятно: теперь вождь сам был героем-спасителем Отечества); не имело такого, как прежде, до войны, значения будущее. Отныне Сталин видел источник легитимности своей власти не в режиме и не в народе, а в себе, в своей победе. Победоносная Отечественная окончательно превращала Сталина не в «самозванца» от революции, а в народного царя. В таком качестве он и хотел остаться в памяти. История войны – это его (царская) история186186
Исходил при этом Сталин из той же посылки, что когда-то Грозный, утверждавший: под стенами Казани победили не русские воины, а царская воля (см.: 3, с. 250, 251). Представление о том, что всеми великими делами народ обязан своему царю, традиционно входит в мировоззренческий ряд тиранической, т.е. по-прежнему идеальной (в том числе потому, что «пару» ей составляет безвластие), русской власти. Тот же Грозный открыл другую важнейшую установку из этого ряда: «Когда один немец сказал… что он слывет у всех чужестранцев за тирана, он ответил, что чужеземным властителям легко обвинять его: “те, де, повелевают людям, а он – скотам”» (52, с. 116–117). Очень логично: приобщиться к величию, войти в историю «скоты» могут только через своего грозного властителя. И методы приобщения оправданы: с «ними», «рабами ленивыми, лукавыми», иначе нельзя. Грозненской логикой руководствовался наш великий преобразователь, рубя «окно в Европу». Не был ей чужд и вождь советских народов: воспитывал их в страхе террора, бездумной покорности, жестоком понуждении к «службе», никогда им не доверял (отсюда подозрение в измене и наказание – только по подозрению – целых групп – и социальных, и этнических), но лишь пользовался.
[Закрыть]. Сталинский официоз – это не народная и даже не режимная, а сталинская война. Что естественно: в «Сталин-системе» все (и прежде всего лучшее) должно было принадлежать Сталину. И «разговоры» о «всенародном» характере Отечественной велись им вокруг этого.
Но народ, этот привычно-податливый материал в руках Творца, пройдя войну, преодолев все ее тяготы, разбил сталинскую мечту. Он стал не объектом сталинского «руководства», а субъектом Отечественной, отодвинув вождя с передовой истории в тыл (туда, где он и был всю войну). Сталин не мог смириться с тем, что война не стала только его войной (что отчетливо продемонстрировал Парад Победы, после которого Г.К. Жуков вошел в память миллионов советских – и не только – людей как Маршал Победы, причем с подачи самого вождя, у которого попросту не было другого выхода), солдаты – послушными исполнителями его воли, реализаторами его полководческого гения, а победа – только его триумфом в истории. Это демонстрируют послевоенные сталинские репрессивная политика и историческое мифотворчество.
Особый, очень личный характер имели два позднесталинских дела – «военных» и «врачей». Они явно выделяются из репрессий как общесоциальных («космополиты» – это история о борьбе с Западом, о «приведении в чувство» интеллигенции; террор против рабочих/крестьян/служащих имел перманентный характер, принуждая их к покорности), так и против «элит» (снятие «слоями» партийного «боярства», «перебор людишек» «наверху» для Сталина – просто инструмент управления). Здесь же – нечто бо́льшее: так абсолютная власть реагировала на свою ограниченность природой и историей.
«Дело врачей» – совершенно «дворцовое» («кремлевское»): его развязала тотальная и всесильная, но умирающая Власть против тех, кто должен был, но не помог ей победить Время. Только так, репрессией, мог отреагировать Сталин на вдруг открывшееся ему противоречие русской власти: между ее метафизической природой и его, персонификатора, неумолимо физиологическим естеством. Вождь уходил – и борьбой с «врачами»-убийцами отрицал неизбежное. Если «дело врачей» было о том, что Сталин не мог быть всегда, то «дело военных» – о том, что он не мог быть всем. Вождь «придумал» главные «легитимационные мифы» советской власти – о революции/гражданской войне и об Отечественной, выправив в «нужном» направлении историю этих событий. И если первый он готов был «делить» с Лениным (см. концепцию «двух вождей партии и революции» в «Кратком курсе»), то отдавать вторую никому не собирался. Борьбой против Жукова Сталин показывал: не может быть двух победителей в одном Отечестве. Однако эта проблема оказалась для вождя такой же трагически неразрешимой, как и проблема смертности/бессмертия.
Реальность народной войны с ее вождями и героями Сталин пытался «переделать» в мифе «вождистской Отечественной». Видимо, как интуитивно гениальному мифотворцу, вождю было понятно, что мифа священной войны со Сталиным, но без Народа-Победителя не получится. В нем не было правды, поэтому он не имел шансов реализоваться в советской культуре. Но от своего проекта Сталин не отказался: покончил с победными парадами, культами маршалов и ветеранов, вернул страх (не погибнуть за Родину, а быть стертым в тюремно-лагерную пыль – тот унижающий и уничтожающий страх, от которого не высовываются, предают, теряют способность к творчеству), немного отступивший в войну. Свое дело в смирении народа сделали послевоенные нищета, разруха, голод. Вождь не отдал Победу, пока был жив.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































