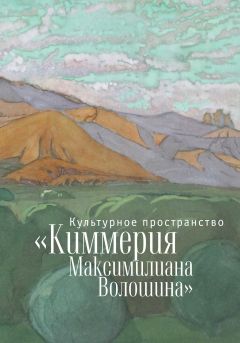
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
[…]
Из критических моих статей под названием «Лики творчества» вышел только первый том о Франции (в изд [ательстве] Аполлона, СПб., 1912. Остальные же, посвященные Театру, Живописи, Рус[ской] Литературе и Парижу – 4 тома, остались неизданными.
<Брошюра о Репине 1913. Изд<ание> Оле Лук-Ойе.>
До меня доходили слухи ещё о многих иных изданиях моих книг, но я их не видел.
ИКОНОГРАФИЯ
Кошелев. Портрет маслом во весь рост. 1901.
Е. С. Кругликова. Поясной порт [рет] маслом. 1901. Много карикатур, рисунков и силуэтов разных годов.
Слевинский. Порт [рет] маслом с книгой. 1902.
Якимченко. Голова, масло. 1902.
В. Харт. Голова углем. 1907.
А. Я. Головин. Портрет поясной. Темпера. 1909. Голова, литография. 1909.
Э. Виттиг. Бюст в виде герма. 1909.
Е. С. 3ак. Голова, сангина. 1911.
Диего Ривера. Мал [ый] порт [рет], вся фигура. 1915.
Колоссальная голова. Масло. 1915. (Кубизм)
Баруздина. Порт [рет] маслом. 1916.
Рис [унок] головы. 1916.
Бобрицкий. Сангина. 1918.
Мане-Кац. Поясной, масло. 1918.
Хрустачев. Сангина. 1920.
А. П. Остроумова-Лебедева. Голова акварелью. 1924.
Поясной портрет. Масло. 1925.
Кустодиев. Масло. 1924. (Поясной портрет).
Костенко. 2 грав[юры] на линолеуме. 1924 и 1925.
Верейский. 2 литографии и 1 рисунок 1924.
М. Зайцев. 2 рис[унка] углем головы 1925.
Каррикатуры: Кругликовой, Б. Матвеева, Ре-Ми, Моора, Преславского, А. Габричевского.
Из фотографий наиболее удачные: из детских – Мозера, Курбатова, Асикритова, из взрослых – Денара (СПб), Наппельбаума (СПб), Дилевского (Париж), Маслова (Одесса).
О самом себе4444
Рассказ написан М. А. Волошиным в сентябре 1930 года как предисловие к каталогу выставки его акварелей, планируемой в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинграде) по предложению коллекционера И. И. Рыбакова. Выставка не состоялась, а очерк впервые был напечатан с купюрами В. А. Мануйловым в издании: Пейзажи Максимилиана Волошина. – Л., 1970.
[Закрыть]
Автор акварелей, предлагаемых вниманию публики под общим заглавием «Коктебель», не является уроженцем Киммерии по рождению, а лишь по усыновлению. Он родом с Украины, но уже в раннем детстве был связан с Севастополем и Таганрогом. А в Феодосию его судьба привела лишь в 16 лет, и здесь он кончил гимназию и остался связан с Киммерией на всю жизнь. Как все киммерийские художники, он является продуктом смешанных кровей (немецкой, русской, итало-греческой). По отцовской линии он имеет свои первокорни в Запорожской Сечи, по материнской – в Германии. Родился я в 1877 году в Киеве, а в 1893 году моя мать переселилась в Коктебель, а позже и я здесь выстроил мастерскую.
В ранние годы я не прошел никакого специально живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе, и теперь рассматриваю это как большое счастье – это не связало меня ни с какими традициями, но дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы, сообразно с сознательными своими устремлениями и методами.
Впервые я подошел к живописи в Париже в 1901 году. Я только что вернулся туда из Ташкента, где был в ссылке около года. Я весь был переполнен зрительными впечатлениями и совершенно свободен в смысле выбора жизни и профессии, так как был только что начисто выгнан из университета за студенческие беспорядки «без права поступления». Юридический факультет не влек обратно. А единственный серьезный интерес, который в те годы во мне намечался, – искусствоведение. В Москве в ту пору -+– в конце 90-х годов прошлого века – оно еще никак не определилось, а в Париже я сейчас же записался в Луврскую школу музееведения, но лекционная система меня мало удовлетворяла, так как меня интересовало не старое искусство, а новое, текущее. Цель моя была непосредственная: подготовиться к делу художественной критики.
Воспоминания университета и гимназии были слишком свежи и безнадежны. В теоретических лекциях я не находил ничего, что бы мне помогало разбираться в современных течениях живописи.
Оставался один более практический путь: стать самому художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства.
Поэтому, когда однажды весной 1901 года я зашил в мастерскую Кругликовой и Елизавета Сергеевна со свойственным ей приветливым натиском протянула мне лист бумаги, уголь и сказала: «А почему бы тебе не попробовать рисовать самому?» – я смело взял уголь и попробовал рисовать человеческую фигуру с натуры. Мой первый рисунок был не так скверен, как можно было ожидать, но главными его недостатками были желание сделать его похожим на хорошие рисунки, которые мне нравились, и чересчур тщательная отделка деталей и штрихов. Словом, в нем уже были все недостатки школьных рисунков, без знания, что именно нужно делать. Словом, я уже умел рисовать и мне оставалось только освободиться от обычных академических недостатков, которые еще не стали для меня привычкой руки. На другой же день меня свели в Академию Коларосси. Я приобрел лист «энгра», папку, уголь, взял в ресторане мякоть непропеченного хлеба и стал художником. Но кроме того я стал заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и танцующих на публичных балах. Образцами для меня в то время были молниеносные наброски Форена, Стейнлена и других рисовальщиков парижской улицы. А когда три месяца спустя мы с Кругликовой, Давиденко и А. А. Киселевым отправились в пешеходное путешествие по Испании через Пиренеи в Андорру, я уже не расставался с карандашом и записной книжкой.
В те годы, которые совпали с моими большими пешеходными странствиями по Южной Европе – по Италии, Испании, Корсике, Балеарам, Сардинии, – я не расставался с альбомом и карандашами и достиг известного мастерства в быстрых набросках с натуры. Я понял смысл рисунка. Но обязательная журнальная работа (статьи о художественной жизни в Париже и отчеты о выставках) мне не давала сосредоточиться исключительно на живописи. Лишь несколько лет спустя, перед самой войной, я смог вернуться к живописи усидчиво. В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине. Я был предан российскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов.
Оказавшись в Коктебеле, я воспользовался вынужденным перерывом в работе, чтобы взяться за самовоспитание в живописи. Прежде всего я взялся за этюды пейзажа: приучил себя писать всегда точно, быстро и широко. И вообще, все неприятности и неудачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи.
Я начал писать не масляными красками, а темперой на больших листах картона. Это мне давало, с одной стороны, возможность увеличить размеры этюдов, с другой же, так как темпера имеет свойство сильно меняться высыхая, это меня учило работать вслепую (то есть как бы писать на машинке с закрытым шрифтом). Это неудобство меня приучило к сознательности работы, и тот факт, что [в] темпере почти невозможно подобрать тон раз взятый, – к умеренности в употреблении красок и чистоте палитры.
Акварелью я начал работать с начала войны. Начало войны и ее первые годы застали меня в пограничной полосе – сперва в Крыму, потом в Базеле, позже в Биаррице, где работы с натуры были невозможны по условиям военного времени. Всякий рисовавший с натуры в те годы, естественно, бывал заподозрен в шпионстве и съемке планов.
Это меня освободило от прикованности к натуре и было благодеянием для моей живописи. Акварель непригодна к работам с натуры. Она требует стола, а не мольберта, затененного места, тех удобств, что для масляной техники не требуются.
Я стал писать по памяти, стараясь запомнить основные линии и композицию пейзажа. Что касается красок, это было нетрудно, так как и раньше я, наметив себе линейную схему, часто заканчивал дома этюды, начатые с натуры. В конце концов, я понял, что в натуре надо брать только рисунок и помнить общий тон. А все остальное представляет логическое развитие первоначальных данных, которое идет соответственно понятым ранее законам света и воздушной перспективы. Война, а потом революция ограничили мои технические средства только акварелью. У меня был известный запас акварельной бумаги, и экономия красок позволила мне его длить долго. Плохая акварельная бумага тоже дала мне многие возможности. Русская бумага отличается малой проклеенностью. Я к ней приспособился, прокрывая сразу нужным тоном, и работал от светлого к темному без поправок, без смываний и протираний.
Эту эволюцию можно легко проследить по ретроспективному отделу моей выставки. Это борьба с материалом и постепенное преодоление его.
Если масляная живопись работает на контрастах, сопоставляя самые яркие и самые противоположные цвета, то акварель работает в одном тоне и светотени. К акварели больше, чем ко всякой иной живописи, применимы слова Гёте, которыми он начинает свою «теорию цветов», определяя ее как трагедию солнечного луча, который проникает через ряд замутненных сфер, дробясь и отражаясь в глубинах вещества. Это есть основная тема всякой живописи, а акварельной по преимуществу.
Ни один пейзаж из составляющих мою выставку не написан с натуры, а представляет собою музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа. Среди выставленных акварелей нет ни одного «вида», который бы совпадал с действительностью, но все они имеют темой Киммерию. Я уже давно рисую с натуры только мысленно.
Я пишу акварелью регулярно, каждое утро по 2–3 акварели, так что они являются как бы моим художественным дневником, в котором повторяются и переплетаются все темы моих уединенных прогулок. В этом смысле акварели заменили и вытеснили совершенно то, что раньше было моей лирикой и моими пешеходными странствованиями по Средиземноморью.
Вообще в художественной самодисциплине полезно всякое самоограничение: недостаток краски, плохое качество бумаги, какой-либо дефект материала, который заставляет живописца искать новых обходных путей и сохранить в живописи лишь то, без чего нельзя обойтись. В акварели не должно быть ни одного лишнего прикосновения кисти. Важна не только обработка белой поверхности краской, но и экономия самой краски, как и экономия времени. Недаром, когда японский живописец собирается написать классическую и музейную вещь, за его спиной ассистирует друг с часами в руках, который отсчитывает и отмечает точно количество времени, необходимое для данного творческого пробега. Это описано хорошо в «Дневнике» Гонкуров. Понимать это надо так: вся черн [ов] ая техническая работа уже проделана раньше, художнику, уже подготовленному, надо исполнить отчетливо и легко свободный танец руки и кисти по полотну. В этой свободе и ритмичности жеста и лежат смысл и пленительность японской живописи, ускользающие для нас, – кропотливых и академических европейцев. Главной темой моих акварелей является изображение воздуха, света, воды, расположение их по резонированным и резонирующим планам.
В методе подхода к природе, изучения и передачи ее я стою на точке зрения классических японцев (Хокусаи, Утамаро), по которым я в свое время подробно и тщательно работал в Париже в Национ [альной] Библиотеке, где в Галерее эстампов имеется громадная коллекция японской печатной книги – Теодора Дерюи. Там [у меня] на многое открылись глаза, например, на изображение растений. Там, где европейские художники искали пышных декоративных масс листвы (как у Клода [Лоррена]), японец чертит линию ствола перпендикулярно к линии горизонта, а вокруг него концентрические спирали веток, в свою очередь окруженных листьями, связанными с ними под известным углом. Он не фиксирует этой геометрической схемы, но он изображает все дефекты ее, оставленные жизнью на живом организме дерева, на котором жизнь отмечает каждое отжитое мгновенье.
Таким образом, каждое изображение является в искусстве как бы рядом зарубок, сделанных на коре дерева. Чтобы иметь возможность отличать «дефекты» от нормального роста, художник должен знать законы роста. Это сближает задачи живописца с задачами естественника. Раз мы это поняли и приняли, мы не можем отрицать, что в истории европейской живописи в эпоху Ренессанса произошел горестный сдвиг и искажения линии нормального развития живописи. Точнее, этот сдвиг произошел не во времена Ренессанса, а в эпоху, непосредственно за ним последовавшую. При Ренессансе опытный метод исследования был прекрасно формулирован Леонардо. Но на горе живописцев этот метод не был тогда же воспринят наукой, а был принят два поколения спустя в формулировке не художника, а литератора Фр. Бэкона. Это обстоятельство обусловлено, конечно, самим складом европейского сознания.
Таким образом, экспериментальный метод попал из рук людей, приспособленных и природой и профессией к эксперименту, к опыту и наблюдению, в руки людей, конечно, способных к очень точному наблюдению, но никогда не развивавших и не утончавших своих естественных чувств восприятия, что привело прежде всего к горестному дискредитированию «очевидности», но через это и к неисправимому разделению путей искусства и науки.
Правда, в области научного познания это навело к созданию различных механических приспособлений для точного определения мер и веса.
В свое время Ренессанс еще до раздвоенности науки и искусства создал различные дисциплины для потребностей живописцев: художественную перспективу и художественную анатомию. Но в наши дни художник напрасно будет искать так необходимых ему художественной метеорологии, геологии, художественной ботаники, зоологи, не говорю уже о художественной социологии. Правда, в некоторых критических статьях, например, у Рескина, [есть] нечто заменяющее ему эти нехватающие дисциплины (в статьях о Тернере), но ничего по существу вопроса и детально разработанного еще не существует в литературе.
Точно так же, как и художник не имеет сотрудничества ученого, точно так же и ученый не имеет сейчас часто необходимого орудия эксперимента и анализа – отточенного тонко карандаша, потому что научный рисунок – художественная дисциплина, которую еще не знает современная живописная школа.
Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать, то есть в пейзажах должна быть такая грань горизонта, через которую хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, а в небе те восходящие токи, по которым можно взлететь на планере.
Вся первая половина моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям, я обошел пешком все побережья Средиземного моря, и теперь акварели мне заменяют мои прежние прогулки. Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимая естественно сквозь призму Киммерии, которую я знаю наизусть и за изменением лица которой я слежу ежедневно.
С этой точки зрения и следует рассматривать ретроспективную выставку моих акварелей, которую можно характеризовать такими стихами:
Выйди на кровлю. Склонись на четыре Стороны света, простерши ладонь…
Солнце… Вода… Облака… Огонь…– Все, что есть прекрасного в мире…
Факел косматый в шафранном тумане… Влажной парчою расплесканный луч… К небу из пены простертые длани… Облачных грамот закатный сургуч…
Гаснут во времени, тонут в пространстве Мысли, событья, мечты, корабли… Я ж уношу в свое странствие странствий Лучшее из наваждений земли…
P. S. Я горжусь тем, что первыми ценителями моих акварелей явились геологи и планеристы, точно так же, как и тем фактом, что мой сонет «Полдень» был в свое время перепечатан в Крымском журнале виноградарства. Это указывает на их точность.
Стихотворения М. А. Волошина
Коктебельские берега
Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер
Пушкин на них поглядел с корабля по дороге в Гурзуф.
25 декабря<1926, Коктебель>
* * *
Как в раковине малой – Океана
Великое дыхание гудит,
Как плоть ее мерцает и горит
Отливами и серебром тумана,
А выгибы ее повторены
В движении и завитке волны, –
Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерии темная страна,
Заключена и преображена.
С тех пор как отроком у молчаливых
Торжественно-пустынных берегов
Очнулся я – душа моя разъялась,
И мысль росла, лепилась и ваялась
По складкам гор, по выгибам холмов.
Огнь древних недр и дождевая влага
Двойным резцом ваяли облик твой –
И сих холмов однообразный строй,
И напряженный пафос Карадага,
Сосредоточенность и теснота
Зубчатых скал, а рядом широта
Степных равнин и мреющие дали
Стиху – разбег, а мысли – меру дали.
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой!
6 июня 1918,<Коктебель>
Карадаг
Преградой волнам и ветрам –
Стена размытого вулкана,
Как воздымающийся храм,
Встает из сизого тумана.
По зыбям меркнущих равнин,
Томимым неуемной дрожью,
Направь ладью к ее подножью
Пустынным вечером – один.
И над живыми зеркалами
Возникнет темная гора,
Как разметавшееся пламя
Окаменелого костра.
Из недр изверженным порывом,
Трагическим и горделивым,
Взметнулись вихри древних сил –
Так в буре складок, в свисте крыл,
В водоворотах снов и бреда,
Прорвавшись сквозь упор веков,
Клубится мрамор всех ветров –
Самофракийская Победа!
14 июня 1918<Коктебелъ>
2
Над черно-золотым стеклом,
Струистым бередя веслом
Узоры зыбкого молчанья,
Беззвучно оплыви кругом
Сторожевые изваянья,
Войди под стрельчатый намёт,
И пусть душа твоя поймет
Безвыходность слепых усилий
Титанов, скованных в гробу,
И бред распятых шестикрылий
Окаменелых Керубу.
Спустись в базальтовые гроты,
Вглядись в провалы и в пустоты,
Похожие на вход в Аид…
Прислушайся, как шелестит
В них голос моря – безысходней,
Чем плач теней… И над кормой
Склонись, тревожный и немой,
Перед богами преисподней…
…Потом плыви скорее прочь.
Ты завтра вспомнишь только ночь,
Столпы базальтовых гигантов,
Однообразный голос вод
И радугами бриллиантов
Переливающийся свод.
17 июня 1918<Коктебель>
Из цикла «Париж»
Адел. Герцык
Перепутал карты я пасьянса,
Ключ иссяк, и русло пусто ныне.
Взор пленeн садами Иль де-Франса,
А душа тоскует по пустыне.
Бродит осень парками Версаля,
Вся закатным заревом объята…
Мне же снятся рыцари Грааля
На скалах суровых Монсальвата.
Мне, Париж, желанна и знакома
Власть забвенья, хмель твоей отравы!
Ах! В душе – пустыня Меганома,
Зной, и камни, и сухие травы…
1909
Из цикла «Звезда Полынь»
Александре Михайловне Петровой
Быть чёрною землeй. Раскрыв покорно грудь,
Ослепнуть в пламени сверкающего ока,
И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко
В живую плоть, ведёт священный путь.
Под серым бременем небесного покрова
Пить всеми ранами потоки тёмных вод.
Быть вспаханной землёй… И долго ждать, что вот
В меня сойдёт, во мне распнётся Слово.
Быть Матерью-Землeй. Внимать, как ночью рожь
Шуршит про таинства возврата и возмездья,
И видеть над собой алмазных рун чертёж:
По небу чёрному плывущие созвездья.
Сентябрь 1906 Богдановщина
Сатурн
М. А. Эртелю
На тверди видимой алмазно и лазурно
Созвездий медленных мерцает бледный свет.
Но в небе времени снопы иных планет
Несутся кольцами и в безднах гибнут бурно.
Пусть тёмной памяти источенная урна
Их пепел огненный развеяла как бред –
В седмичном круге дней горит их беглый след.
О, пращур Лун и Солнц, вселенная Сатурна!
Где ткало в дымных снах сознание-паук
Живые ткани тел, но тело было – звук,
Где лился музыкой, непознанной для слуха,
Творящих числ и воль мерцающий поток,
Где в горьком сердце тьмы сгущался звездный сок,
Что темным языком лепечет в венах глухо.
1907 Петербург
Солнце
Б. А. Леману
Святое око дня, тоскующий гигант!
Я сам в своей груди носил твой пламень пленный,
Пронизан зрением, как белый бриллиант,
В багровой тьме рождавшейся вселенной.
Но ты, всезрящее, покинуло меня,
И я внутри ослеп, вернувшись в чресла ночи.
И вот простерли мы к тебе – истоку Дня –
Земля – свои цветы и я – слепые очи.
Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,
Лучи призывные кидая издалека.
Но я в своей душе возжгу иное око
И землю поведу к сияющей мечте!
1907Петербург
Луна
Бальмонту
Седой кристалл магических заклятий,
Хрустальный труп в покровах тишины,
Алмаз ночей, владычица зачатий,
Царица вод, любовница волны!
С какой тоской из водной глубины
К тебе растут, сквозь мглу моих распятий, –
К Диане бледной, к яростной Гекате,
Змеиные, непрожитые сны!
И сладостен и жутко безотраден
Алмазный бред морщин твоих и впадин,
Твоих морей блестящая слюда –
Как страстный вопль в бесстрастности эфира…
Ты крик тоски, застывший глыбой льда,
Ты мертвый лик отвергнутого мира!
1907
Грот нимф
Сергею Соловьеву
О, странник-человек! Познай Священный Грот
И надпись скорбную «Amori et dolori».
Из бездны хаоса, сквозь огненное море,
В пещеры времени влечет водоворот.
Но смертным и богам отверст различный вход:
Любовь – тропа одним, другим дорога – горе.
И каждый припадёт к сияющей амфоре,
Где тайной Эроса хранится вещий мёд.
Отмечен вход людей оливою ветвистой –
В пещере влажных нимф, таинственной и мглистой,
Где вечные ключи рокочут в тайниках,
Где пчелы в темноте слагают сотов грани,
Наяды вечно ткут на каменных станках
Одежды жертвенной пурпуровые ткани.
1907 Коктебель.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































