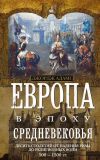Текст книги "Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации"

Автор книги: Крис Уикхем
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
А значит, можно считать, что в событиях V века ничего сверхъестественного не было. Король остготов Теодорих (474–526) правил Италией и землями к северу от старой римской границы по Дунаю. Он одолел вестготов в Испании, пользовался мощным влиянием в королевствах вандалов и бургундов, и органы управления при нем мало изменились по сравнению с прежними римскими. Ему ничто не помешало бы называться римским императором, и в наших источниках он нередко именно в этом качестве и выведен[42]42
Например: Anonymus Valesianus, pars posterior, c. 60. Об остготах см. J. Moorhead, Theodoric in Italy (1992); P. Heather, ‘Theoderic, king of the Goths’ (1995); а также вдохновляющий ревизионистский материал P. Amory, People and identity in Ostrogothic Italy, 489–554 (1997). Сравнительный анализ происходившего в Италии V века при небольшом количестве вторжений см.: P. Delogu and S. Gasparri, Le trasformazioni del V secolo (2010).
[Закрыть]. После его смерти император восточной части Юстиниан (527–565) явно не рассматривал западные провинции как утраченные безвозвратно, поскольку попытался отвоевать сперва вандальскую Африку в 533–534 годах, а затем, в 534–540 годах, Италию. Восстание в Италии вернуло остготским правителям власть, и заново подчинить Апеннинский полуостров Юстиниану удалось только в 554 году, но к тому времени он успел завоевать заодно немалую часть испанского побережья. В руках Рима вновь оказалось почти все Средиземноморье, а среди крупных провинций из прямого подчинения выпадали только Галлия и центральная часть Испании[43]43
Обзор см. у J. Moorhead, Justinian (1994), 63–88, 101–9.
[Закрыть].
Однако при всей романизации «варварских» королевств в первое столетие их существования некоторые принципиальные перемены все же происходили, причем, как покажет история, необратимые. Первая состояла в том, что германские народы уже не называли себя римлянами. Они явно обособлялись от тех, кого завоевывали и кем правили, отличаясь в этом отношении от всех прежних военачальников и организаторов переворотов, включая Рицимера и других полководцев V века, у которых можно проследить родственные «варварские» связи. Да, покоренные остготы и вандалы, судя по всему, сливались с населением римских провинций, поскольку больше они в наших источниках не появляются – и то же самое относится почти ко всем завоевываемым «варварским» народам, – но германцы, одержавшие верх, к римлянам себя причислять не собирались. В устойчивых королевствах, таких как вестготское в Испании и франкское в Галлии, происходило прямо противоположное: римляне начинали воспринимать себя готами и франками. Иными словами, менялась самоидентификация, и звание римлянина, столетиями выступавшее надежным показателем положения и культуры, это свойство утрачивало[44]44
Подробный обзор см. у H.-W. Goetz, Regna and gentes (2003); о Франкской державе см.: Reimitz, History, Frankish identity; дальнейшие сведения см. в E. Buchberger, Shifting ethnic identities in Spain and Gaul, 500–700 (2016).
[Закрыть]. Вторая перемена заключалась в том, что прежнее единство Запада, от Адрианова вала до Сахары, исчезло безвозвратно. Даже Юстиниану – и тем более никому после него – не удалось завоевать Средиземноморье целиком (на побережье Галлии он не посягнул вовсе, а в Мавритании властвовал с переменным успехом). Возникали обособленные политические образования с собственными политическими центрами: Парижский регион у ранних франков (и этот центр, возникший около 500 года, своего статуса не утрачивал ни разу), Толедо в центральной Испании у вестготов, область Павия – Милан у еще одних захватчиков, лангобардов, вторгшихся в Италию в 568–569 годах, после повторного завоевания Юстинианом[45]45
Общие сведения см. в G. Ripoll and J. M. Gurt, Sedes regiae (ann. 400–800) (2000).
[Закрыть]. Все три центра были для римлян окраиной. И хотя Милан соперничал за звание столицы империи в IV веке, на закате римского правления центрами в Италии считались Рим и Равенна.
Третья перемена была, пожалуй, самой важной. Римской империей управлял разветвленный чиновничий аппарат, финансируемый за счет развитой налоговой системы, включавшей множество сборов, первостепенным среди которых был высокий и сложно формируемый земельный налог. Система работала – несмотря на поразительную коррумпированность, непопулярность среди подданных империи и множество возможностей для злоупотреблений. У нас имеется масса указов, изданных императорами, которые были недовольны нерадивостью традиционных сборщиков податей – членов городского совета, из чего следует, что, даже если со сбором налогов возникали заминки, надзор и контроль над ним был строгий. Это подтверждают, в частности, итальянские и египетские исторические источники – методичный учет передачи прав собственности на землю, обеспечивавший государству возможность исправно взимать налог с нового хозяина. Судя по египетским документам, даже богатые и влиятельные землевладельцы налоги действительно платили. В основном эти сборы шли на содержание армии – самая большая расходная статья для римского государства (гражданский чиновничий аппарат занимал второе место с большим отрывом), а это означало регулярную переправку денег и товаров через Средиземное море из богатых южных провинций вроде Африки и Египта в северные приграничные области, где в основном сосредоточивались войска, а также в Рим и Константинополь – крупные столичные города, которые кормились за счет остальной империи. Наемная армия частично обособлялась во всех землях империи от других основных высших слоев – имперской (сенаторской) знати, а также городских и провинциальных властей, представители которых были, прежде всего, землевладельцами, а кроме того, гражданскими.
Таким образом, налогово-бюджетная система структурировала все римское государство, и в начале V века ей ничто не угрожало. Однако, когда западная часть империи начала дробиться на королевства, резко оборвалось перераспределение налоговых поступлений, что серьезно сказалось на Риме как городе и на многих северных армиях. Более того, интересы новой германской элиты не совпадали с интересами ее предшественников – римских военачальников-бунтарей. Те гнались в основном за деньгами, которые давала политическая власть, а сменившим их германцам нужно было другое – владеть землей, как владела ею та самая провинциальная знать, с которой они теперь соседствовали и над которой властвовали. Это вполне римское желание имело самые неблагоприятные для Рима последствия: постепенно исчезала необходимость содержать осевшую на землю армию. Отпадала потребность в налогообложении, а поскольку сбор налогов и так вызывал трудности и неприятие, рано или поздно власти от него отказывались. Впрочем, «варварские» короли собирали налоги до тех пор, пока им это удавалось. Об этом свидетельствуют источники, относящиеся к остготскому правлению и дошедшие до нас в «Вариях» – сборнике посланий правителей и должностных лиц, составленном долго служившим готским королям государственным деятелем Кассиодором Сенатором (ум. ок. 580 года), а также многочисленные случайные упоминания и жалобы в хрониках той эпохи. Но даже Юстиниан, отвоевавший земли вандалов и остготов, решил, что восстанавливать прежнюю систему налогообложения трудно и чревато недовольствами. Во франкской Галлии к 580-м годам, когда появились сочинения историка Григория Турского, налоги уже заметно сократились, а короли использовали освобождение от податей как стандартную политическую привилегию. К 640-м земельный налог исчез почти по всей Галлии и лишь в долине Луары собирался время от времени. Короли начали рассчитывать на доход со своих земель – весьма обширных (как и положено при имперском землевладении), а не на сборы и налоги (за исключением торговых пошлин). Экономической основой политической деятельности перестало быть налогообложение, и на смену ему пришло владение землей[46]46
Обзор см. в Wickham, Framing, 62–124; специальное исследование римского налогообложения и управления см., например, в: Jones, The Later Roman empire, 450–69; C. Kelly, Ruling the later Roman empire (2004), 107–231 – два очень разных подхода; об остготах см.: S. Barnish, ‘Taxation, land and barbarian settlement in the Western empire’ (1986).
[Закрыть]. Эти перемены знаменовали разрыв не только с прошлым, но и с настоящим – с современными этим королевствам государствами Восточного и Южного Средиземноморья, Византией и арабами, о которых пойдет речь в следующей главе. К этому разрыву мы еще не раз вернемся в нашем повествовании, ведь, как нам уже известно из предыдущей главы, политика, опирающаяся на землевладение, менее стабильна и обычно менее доходна, чем опирающаяся на налоги. Кроме того, в главе 11 мы увидим, что даже возрождение налоговых режимов в Западной Европе позднего Средневековья последствия этой перемены не преодолело. Справиться с ней полностью на Западе удалось лишь в совершенно иных экономических условиях эпохи промышленной революции.
Одно из важных последствий заключалось в упрощении экономики западных провинций. Даже короли – разве что кроме франкских – не могли тягаться богатством с прежними властями (впрочем, и расходы у них были существенно ниже). Вельможам раннего Средневековья тоже было далеко до богатейшей сенаторской аристократии Рима, владевшей обширными имениями по всему Средиземноморью (тем более что в этом раннесредневековой знати препятствовал политический раскол империи). В большинстве регионов – опять же за исключением франкской Галлии – мало кто из землевладельцев обладал собственностью более чем в одной-двух городских областях. Система налогообложения отчасти компенсировала расходы на торговые сделки в поздней Римской империи, а без этого межрегиональный торговый обмен стал неуклонно сокращаться и к началу VIII века почти во всем западном Средиземноморье ограничивался предметами роскоши. В то же время, поскольку аристократия стала беднее, а торговля внутри регионов и вся торговля предметами роскоши опиралась на спрос среди знати, торговые обороты снизились на всех уровнях почти повсеместно. Во всех западных провинциях, как свидетельствуют археологические раскопки, сокращался товарообмен и материальные запросы знати становились скромнее. Так происходило и в Италии, разоренной военной кампанией Юстиниана, хотя остготское государство по своему устройству было близко к Римской империи. В Британии же, сильно зависевшей от системы военного снабжения, экономический кризис после ухода римских войск в начале V века – то есть еще до прибытия англов и саксов – ощущался особенно остро: города и сельские виллы пришли в запустение, кустарное производство сохранилось только на уровне натурального деревенского хозяйства. Ни в Галлии, ни в Испании, ни в Италии такого упадка не наблюдалось, однако и они не избежали упрощения экономики. Это не значит, что обеднение высших слоев имело исключительно пагубные последствия. Если земли и богатства знати сокращались, а крестьян-арендаторов (в том числе юридически несвободных, о чем я писал в главе 1) по-прежнему хватало, крестьяне-землевладельцы, менее зависимые или вовсе независимые от высшего сословия, должны были стать многочисленнее – и зажиточнее. Однако товаров они приобретали меньше и экономику от упрощения не спасали. Каждому, кто пытается доказать преемственность между Римской империей и новыми государствами, придется учесть эти резкие экономические перемены, о которых свидетельствует археология. Любая преемственность (а она существовала в разных областях и направлениях) накладывалась на гораздо менее сложную систему производства и обмена, которая упростилась в результате политического дробления на Западе и «оседания» армии на земле. Структурными причинами падения Западной Римской империи эти перемены назвать нельзя – однако на структурные результаты они могут претендовать со всей определенностью[47]47
Wickham, Framing, 711–59, 805–14 and passim; B. Ward-Perkins, The fall of Rome and the end of civilization (2005); Halsall, Barbarian migrations, 320–70; A. S. Esmonde Cleary, The Roman west, AD 200–500 (2013), 303–482. О Британии см.: A. S. Esmonde Cleary, The ending of Roman Britain (1989); R. Fleming, ‘Recycling in Britain after the fall of Rome’s metal economy’ (2012).
[Закрыть].
Итак, падение западной части империи свидетельствовало о кризисе, а также о резких социально-экономических переменах. Но не только. В оставшейся части главы мы рассмотрим три основных государства-преемника Римской империи, сформировавшихся после краха неофициального владычества остготского правителя Теодориха в начале VI века, – франкскую Галлию (все чаще и тогда, и сейчас называемую Франкским государством, Франкией), вестготскую Испанию и лангобардскую Италию. (Британию мы оставим для главы 5.) И каждый раз будем разбирать, что осталось от римского уклада и что появилось нового[48]48
Общие обзоры всего изложенного см. в NCMH, vol. 1; P. Sarris, Empires of faith, 500–700 (2011); Innes, Introduction, 214–313.
[Закрыть]. Однако начнем с некоторых общих культурных и социополитических структурных особенностей римского прошлого, которые, перейдя к преемникам почти полностью, определяли функционирование раннесредневековых политических образований. В число этих особенностей входят устройство римского провинциального общества, христианская Церковь, а также культура и ценности государственной власти.
Римская империя начиналась как сеть самоуправляемых, по сути, государств, связанных, прежде всего, армией. К концу ее существования этот уклад ощутимо изменился. Городские советы постепенно утратили свое значение и перестали действовать в V–VI веках почти повсюду, как на востоке, так и на западе Европы; власть стала более централизованной примерно после 500 года не только в Восточной Римской империи, но, как ни странно, и в более слабых западных королевствах. Однако верность городскому укладу сохранилась везде, где были города, – то есть по всему Западу, за исключением Британии, северо-западной Испании, а также галльских и южногерманских областей вдоль старой границы империи[49]49
Wickham, Framing, 635–81.
[Закрыть]. Сплоченные объединения местной знати существовали в городах южной Галлии, восточной и южной Испании и Италии, они составляли сохранившееся римское общество, которым теперь правили пришлые германцы, и, как мы уже имели возможность убедиться, две эти стороны притирались друг к другу достаточно быстро. Представителями городских сообществ – как во внутренней политике, так и перед королевской властью – все чаще выступали епископы. На всей территории бывшей Западной Римской империи христианизация завершилась к VI веку; особняком стояли только еврейские общины в некоторых областях Галлии, Италии и в первую очередь Испании. Какое преломление получало христианство у местных жителей – это уже другой вопрос. Как отмечалось выше, церковные авторы, почти все до единого несгибаемые в своих взглядах, постоянно сетовали на «языческую» составляющую в местных культах, то есть на элементы, которые им казались языческими, а местному населению – самыми что ни на есть христианскими, как, например, встреча Нового года или пьянство на церковных празднествах[50]50
Wickham, The inheritance, 170–7; см. дополнительно, под другим углом: V. I. J. Flint, The rise of magic in early medieval Europe (1991). Ключевой обзор см. в: P. Brown, The rise of western Christendom (1997).
[Закрыть]. Но повсеместно признавалось, что во главе Церкви стоят епископы, институт которых в каждом городе империи учреждали еще римляне, и среди них существовала своя иерархия, на верхней ступени которой находились митрополиты (позднее их стали называть архиепископами), а выше всех – пять патриархов империи, одному из которых, папе римскому, принадлежала духовная власть над всем Западом. Падение Римской империи эту структуру почти не затронуло, разве что влияние папы на протяжении нескольких столетий почти не ощущалось за пределами Италии.
Епископы обладали авторитетом и на закате империи, но крупными политическими игроками они стали именно в начале Средневековья. Кафедральные соборы обрастали землями, приносимыми в дар прихожанами, и потому сан епископа давал могущество. Кроме того, духовным авторитетом епископов наделял культ святых реликвий, складывавшийся с V века, поскольку именно епископы являлись настоятелями соборов, в которых эти святыни хранились. Епископы не только возглавляли городские религиозные церемонии, их все привычнее воспринимали как местных политических руководителей (в большинстве случаев они происходили из местной знати), и их назначение нередко давало повод для соперничества[51]51
О Галлии см., например: R. Van Dam, Leadership and community in late antique Gaul (1985), 202–29; предпосылки времен позднего Рима см. в P. Brown, Power and persuasion in late antiquity (1992); C. Rapp, Holy bishops in late antiquity (2005); о реликвиях – в первую очередь P. Brown, The cult of the saints (1981). В дальнейшем преимуществами владения святынями пользовались на Западе и правители, см.: J. M. H. Smith, ‘Rulers and relics c. 750–950’ (2010).
[Закрыть]. Они представляли свои общины перед королем и придворными, короли относились к ним как к руководителям этих общин и были готовы внимать критике со стороны епископов, к которой тех обязывал сан. Политическое возвышение епископов отчасти объяснялось исчезновением светских муниципальных институтов, а отчасти тем, что как к организованной влиятельной группе в более слабых по сравнению с рухнувшей империей королевствах к ним прислушивались больше, чем в прежде существовавшем государстве.
Наглядным примером активности и роли епископов может служить Григорий Турский (ум. в 594 году), происходивший из знатного рода города Клермон в центральной Галлии, но имевший родственников в Туре на Луаре, где он и стал епископом в 573 году. (Местные претенденты на епископскую кафедру считали его чужаком, его же такое отношение возмущало.) По объему оставленных свидетельств, как исторических, так и житийных, с Григорием Турским не может сравниться почти никто из остальных авторов раннего Средневековья. В основном он описывает события, в которых сам принимал участие, и рисует на редкость подробную, пусть и однобокую, картину королевской и местной политики, общества и культуры 570–580-х годов. Григорий Турский был епископом во Франкском королевстве и, несмотря на римское происхождение, хранил верность франкским правителям (в его сочинениях не чувствуется ностальгии по римскому прошлому, а своих королей он считал законными преемниками римской власти). Однако в то время государство франков было поделено между тремя королями – братьями, а затем дядей и племянниками. Григорий служил при дворе одного из братьев, Сигиберта (561–575), был близок к другому, Гунтрамну (561–593), и враждебно настроен по отношению к третьему, Хильперику (561–584). Таким образом, его едва ли можно считать нейтральной политической фигурой. Хильперик, как и следовало ожидать, питал к нему ответную неприязнь и осыпал угрозами – которые во Франкии тех времен были далеко не пустыми, поскольку короли запросто расправлялись с противниками, зачастую самыми изощренными способами. Один из ярких эпизодов этой конфронтации, произошедший в 577 году, описан Григорием с нетипичным вниманием к месту действия: Хильперик, с двумя епископами по бокам, стоял у шалаша, сплетенного из ветвей, перед ним находился стол с яствами, и через этот стол король и епископ обменивались словесными выпадами. Из того, в каких подробностях это запомнилось Григорию, видно, насколько он был тогда напуган. Куда больше по душе ему был Гунтрамн, всегда готовый внимать ему за обеденным столом. Григорий был снобом, врагов своих он часто характеризовал как пришедших к власти из низов – например, харизматичную супругу Хильперика Фредегонду, правившую королевством от имени их сына Хлотаря II (584–629). При этом он всячески расхваливал свой город, в том числе принятые в нем налоговые послабления, и превозносил местного святого и своего предшественника, епископа Мартина (ум. в 397), подробно описывая чудеса, происходившие на могиле последнего у границы римского города. Кроме того, как мы видели в предыдущей главе, он брал на себя роль миротворца в междоусобицах, а также поддерживал других епископов, если у них возникали разногласия с королями – даже тех, кого недолюбливал, – и готов был защищать их перед самим Хильпериком (именно это он и делал в 577 году). Наконец, Григорий был нравоучителем – сан обязывал, а короли и другие политические деятели понимали, что должны, по крайней мере, прислушиваться к нему. Несмотря на отсутствие военной поддержки (свита для епископов тех времен была редкостью, хотя позже стала делом обычным), он действительно обладал политическим весом в глазах королей, поскольку Тур имел стратегическое значение и часто переходил из рук в руки при территориальном переделе, в котором все эти короли участвовали. Возможно, устоять как политической фигуре Григорию помогла и бесспорная наблюдательность («История франков» поражает подробностью описаний). И при всей его предвзятости, на которую приходится и приходилось делать скидку и нам, читателям, и королям, имевшим с ним дело, он явно умел улаживать проблемы. В этом и заключалась роль епископов, и он с нею справлялся, зачастую в очень непростой обстановке, в течение 20 лет – долгий срок для франкского политического деятеля[52]52
Gregory of Tours, Decem libri historiarum (5.18 for 577); idem, De virtutibus sancti Martini episcopi (1885). О Григории Турском см. W. Goffart, The narrators of barbarian history (A. D. 550–800) (1980); M. Heinzelmann, Gregory of Tours (2004); I. Wood, Gregory of Tours (1994); K. Mitchell and I. Wood, The world of Gregory of Tours (2002); Reimitz, History, Frankish identity, 27–123. О более поздней роли епископов в военных действиях см.: F. Prinz, Klerus und Krieg im früheren Mittelalter (1971).
[Закрыть].
Еще один элемент римского наследия, о котором нужно упомянуть отдельно, – понятие политической легитимности, которое можно назвать культурой «публичного». Во времена империи в сферу publicum попадало налогообложение, имперская собственность, чиновничий аппарат, общественные блага – все то, что сейчас относится к «государственному сектору». Исчезновение налоговых поступлений, на которые этот сектор опирался, не означало исчезновения самого понятия. Короли по всему послеимперскому Западу пользовались этим термином регулярно, подразумевая принадлежащие им права, а также своих чиновников, суды, дорожную сеть и так далее. Поддерживаемое новой властью разделение на публичное и частное (тоже римский и послеримский термин) подтверждает, что мы не ошиблись, назвав послеримские королевства государствами, пусть зачастую и слабыми. В этот период к образу общественного блага короли в своих указах апеллировали нечасто, этим займутся Каролинги в VIII–IX веках, как мы увидим в главе 4. Но отождествление королевской власти с публичной сферой было явным – и временами наглядным: в частности, правосудие отправлялось publice, «публично», на глазах у всех.
Публичность на постримском пространстве имела большое значение. Здесь publicum бывшей империи соединялось с одной совершенно неримской особенностью всех раннесредневековых королевств – общественным собранием. Собрания политических представителей, общенациональные или местные, были неотъемлемым элементом легитимизации королевской власти, указов и судов по всей постримской Европе, к северу и югу от римской границы. Назывались они по-разному – conventus, placitum, в англосаксонской Англии – гемот, в Скандинавии – тинг – и существовали как в кельтских и славянских общинах, так и в германо– и латиноязычных. Начало им положило бытовавшее к северу от границы представление об ответственности короля перед всеми наделившими его законной властью свободными мужчинами (не женщинами) своего народа и о коллективной основе политической деятельности. В большом постримском государстве все это было неосуществимо (да и прежде всегда граничило с условностью), но даже тогда короли правили – по крайней мере номинально – «в присутствии всего народа, в общем совете с нами» (как выразился лангобардский король Лиутпранд в 713 году), и с 500 года образ обширного народного пласта, легализующего верховную власть и устраивающего публичные собрания, был уже достаточно распространен[53]53
Более подробно рассматривается в: C. Wickham, ‘Consensus and assemblies in the Romano-Germanic kingdoms’ (2016). Цитата: Лиутпранд, предисловие к Закону 1 в Leges Langobardorum 643–866 (1962). В Вестготском королевстве, где силен был римский стиль правления, роль собраний была не столь значима.
[Закрыть]. То есть сама идея принадлежала не Риму, однако она вполне естественно слилась с римским понятием публичности, и эти концепции подпитывали друг друга. Пусть практическая власть правителей постримских государств была временами сильно ограничена, однако в публичной сфере они господствовали безраздельно, и это в корне отличало их от альтернативных сил в любом королевстве. Такая картина наблюдалась по всему Западу до самого конца правления Каролингов и даже позже, а когда – начиная с X века – культура публичности стала исчезать вместе с законодательными народными собраниями, характер политической власти резко изменился, что мы увидим в последующих главах.
Культура публичности, политика собраний, христианство и епископат, исчезновение налоговой системы и становление феодальной политики, обеднение аристократии и рост независимости крестьянства, упрощение экономики – вот что отличало постримские королевства. А еще осевшая на земле армия, которой командовала уже не гражданская аристократия, и значит, аристократические ценности становились крайне военизированными и оставались такими до конца Средневековья и далее. Гуманитарное же образование римской гражданской знати утрачивало значение. Римского происхождения не имели только собрания, хотя и они во многих случаях появились благодаря расколу империи и краху налоговой системы: иными словами, они сильно отличались от римского уклада, хотя из него и вырастали. Вот из таких составляющих складывались условия, в которых действовали правители на постримском пространстве, и таковы были параметры этого пространства. Давайте посмотрим, какие формы они принимали в тех или иных постримских королевствах.
Франки входили в число наименее романизированных германских племен, отвоевавших себе в V веке кусок римской территории, а северная Галлия, которой они завладели, была сильно разорена. Поначалу ни о какой сплоченности между ними не было и речи, и до конца V века разрозненные франкские королевства перемежались землями независимых военачальников, правивших по римскому обычаю. Однако королю Турени Хлодвигу (481–511) удалось завоевать владения остальных франков, а также алеманнов в долине среднего Рейна. В 507 году он двинулся на юг, где, разгромив и уничтожив вестготского короля Алариха II, сына Эйриха, занял и юго-западную Галлию. Перед кончиной Хлодвига его земли простирались от Рейна до Пиренеев. Его сыновья завоевали Бургундское королевство (в Галлии неподвластными франкам остались только Бретань и пока еще вестготский Лангедок на средиземноморском побережье) и контролировали обширные области центральной Германии, никогда не входившей в Римскую империю. К 530-м годам они уже вторгались в Италию, пользуясь войной Рима с готами, и в течение столетия с переменным успехом удерживали господство над северными частями полуострова. Благодаря этим впечатляющим завоеваниям двух поколений франкских королей их государство оказалось самой могущественной державой постримского Запада. Кроме того, в результате этих завоеваний франки стремительно приобщались к укладу более романизированных областей бывшей империи. Еще Хлодвиг успел стать католиком (не арианином, в отличие от готов) и начал издавать указы на латыни. К середине VI века различия между франками и другими преуспевшими германскими племенами начали сглаживаться, и теперь основная разница заключалась в том, что лишь франки правили землями по обе стороны старой римской границы. Помимо этого, Хлодвигу удалось провозгласить собственный род – династию Меровингов – единственными законными королями франков. В этом статусе Меровинги – с небольшим перерывом – продержались четверть тысячелетия, до 751 года. Начиная с 670-х годов они были не более чем фигурами, легитимизирующими стоявших за их спинами могущественных сановников-майордомов, но все равно обладали достаточным для этой легитимации весом. Хлодвиг разделил свое огромное королевство между сыновьями, и в дальнейшем эта практика (непривычная для постримского пространства) продолжилась. За 150 лет правления Меровингов достаточно долгий промежуток без дробления наблюдался лишь единожды, с 613 по 639 год, при Хлотаре II и его сыне Дагоберте. Каролинги, сменившие Меровингов у власти в 751 году, также делили земли между наследниками. Тем не менее Франкское государство не раз действовало как единая держава, братья и кузены оказывали друг другу политическую и военную поддержку, и со стороны оно виделось единым. Эта территория сохраняла статус ведущей европейской державы, пока в конце X века результаты дальнейшего дробления не закрепились окончательно[54]54
Основы истории Меровингов см. в Wood, The Merovingian kingdoms, 450–751 (1994).
[Закрыть].
На королей конца VI века мы уже имели возможность посмотреть – глазами Григория Турского. Богатые и могущественные, они отличались буйством и своенравием, и никто из перешедших им дорогу на этом свете не задерживался. Вся политика знати и епископата вращалась вокруг их двора. Законность власти Меровингов означала, что король мог взойти на престол и ребенком, и в 580-х таких детей было двое. За каждого правила мать-регент – невзлюбившая Григория Фредегонда, а в старом королевстве Сигиберта – его вдова Брунгильда, Григорию покровительствовавшая. Брунгильда правила и за внуков после ранней гибели сына, и даже за правнука, пока в 613 году ее не убил вновь объединявший франкские земли сын Фредегонды Хлотарь II, единственный на тот момент взрослый представитель мужского пола в династии Меровингов. Королевы-регенты правили от имени внуков и правнуков Хлотаря в 640-х и 650-х годах. Для сильной династии средневековой Европы правление королевы-матери было в порядке вещей, однако в рассматриваемый период подобная сильная династия имелась лишь у франков, поэтому их пример наиболее нагляден. Женская власть традиционно вызывала противоречивое отношение. Григорий, например, явно ее не жаловал и очень скупо отзывался о своей покровительнице Брунгильде – по принципу «если не можешь сказать ничего хорошего, лучше помолчать» (пожалуй, единственный раз, когда Григорий его придерживался), – но при этом упоминал, что правила она viriliter, «по-мужски»[55]55
J. L. Nelson, Politics and ritual in early medieval Europe (1986), 1–48; цитата из Григория Турского, Decem libri historiarum, 6.5.
[Закрыть].
Размеры Франкского государства обеспечивали богатство и могущество не только королям, но и крупной знати. У богатейших ее представителей было больше земель, чем у аристократов любого другого европейского государства того периода, включая Восточную Римскую империю, то есть Византию. Для франкской знати само собой разумеющимся было превосходство не только в могуществе, но и в благочестии: святые меровингского периода в основном имели благородное происхождение; подкрепляло образ благочестивого аристократа и преобладание выходцев из местной знати среди епископов. Знатные семьи основывали богатые монастыри – чтобы укрепить могущество рода и привлечь пожертвования, но также и потому, что подобное покровительство было закономерным с точки зрения добродетелей высшего сословия. Так, основательницей монастыря в Нивеле (нынешняя Бельгия) в 640-х годах была Итта, вдова Пипина I, представителя Пипинидов – одного из влиятельнейших франкских родов, а первой настоятельницей – Гертруда, его дочь. Меровингские монастыри VII века – под покровительством королей и знати – составляли политический костяк на сельских землях Франкского государства до появления новой опоры в середине Средневековья[56]56
О Гертруде см.: the Vita sanctae Geretrudis (1888). Об аристократах в общем см.: R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (Vlle – Xe siècle) (1995), особ. 387–401 гг. о меровингском периоде; P. Depreux, Les sociétés occidentales du milieu du VIe à la fin du IXe siècle (2002), 115–24, 131–41; F. Irsigler, Untersuchungen zur Geschichte des frühfränk-ischen Adels (1969); H.-W. Goetz, ‘“Nobilis” ’ (1983); Wickham, Framing, 168–203; и в первую очередь о раннесредневековом периоде в целом серию о Les élites, в R. Le Jan’s Collection haut moyen âge series. О знати и власти над монастырями см.: S. Wood, The proprietary church in the medieval West (2006).
[Закрыть]. Кроме того, представители знати превращались в самостоятельных политических игроков. Когда Хлотарь заново сплачивал Франкию, он объединил только земли, а не три королевских двора, и каждый из них – в частности северо-восточное королевство, называвшееся Австразией, и северо-западное под названием Нейстрия – стал отдельной ареной политических маневров местной знати вокруг самого могущественного местного вельможи, выступавшего, по сути, вице-королем, – майордома. Одним из таких майордомов и был Пипин I.
После очередного раздела земель – между сыновьями Дагоберта в 639 году – могущество майордомов усилилось еще больше. К середине VII века они конкурировали за власть с королевами-регентами, пока короли были еще детьми, и временами даже выбирали, кого из Меровингов сажать на трон. Тягаться с ними могла лишь небольшая группа по-настоящему могущественных епископов, тоже в большинстве своем аристократов, таких как Аудоин Руанский (ум. ок. 684), один из ставленников Дагоберта, и Леодегарий Отёнский, низложенный и убитый в 678 году майордомом Эброином. Последний из самостоятельных Меровингов, Хильдерик II, был убит в 675 году, и, когда его гибель поставила печальную точку в этой череде событий, знати оставалось только сражаться. В битве при Тертри в 687 году победили Пипиниды, и с тех пор Франкское королевство возглавляли майордомы из их рода. Битвой завершился пришедшийся на середину столетия период смуты, который в итоге продлился всего четверть века. Но победитель битвы при Тертри Пипин II (ум. в 714 году) уже не мог тягаться могуществом со своими предшественниками. За время смуты франки утратили владычество над германскими племенами – баварами, алеманнами и тюрингами, а также герцогами Аквитании на юго-западе Галлии. Даже некоторые из епископов начали выкраивать себе полуавтономные территории. После смерти Пипина междоусобица началась и в его семье: в 715–719 годах вдова Пипина Плектруда, ставшая регентшей при своем внуке-майордоме, выступила против незаконного сына Пипина Карла Мартелла, и, казалось, все вернулись в 670-е. Однако победа Карла продемонстрировала, что это не так. Как единственный майордом (717–741) с единственным двором он отвоевал изрядную долю недавно отколовшихся земель до самого Прованса, а его сыновья Пипин III и Карломан I, династия которых впоследствии стала называться Каролингами, вернули под власть франков Аквитанию и Алеманнию. Таким образом, франкские земли и господство, несмотря на перипетии предыдущего периода, снова сосредоточились в одних руках, а значит, фундамент Франкского государства был достаточно прочным[57]57
О VII в. см.: Wood, The Merovingian kingdoms, 140–272; P. Fouracre, Frankish history (2013); о более поздних временах см.: P. Fouracre, The age of Charles Martel (2000).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?