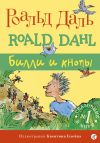Текст книги "Бойня номер пять. Добро пожаловать в обезьянник"

Автор книги: Курт Воннегут
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.
Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.
И возмутителя черни распяли.
Такие дела.
* * *
В книжной лавке хозяйничали пять человек, похожих, как пять близнецов, маленьких, лысых, жующих потухшие мокрые сигары. Они никогда не улыбались. У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали. И Билли Пилигрим тоже. А другие испытывали. Смешная это была лавка – все про любовь да про младенцев.
Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь – покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть. Были и такие покупатели, которые глазели не на товары, а друг на дружку.
Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз.
– Это не то, что вам надо, черт возьми, – сказал он Билли. – То, что надо, там, дальше.
И Билли прошел немного дальше, в глубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по рассеянности захватив с собой книжку Траута – ту, где рассказывалось о Христе.
Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи: действительно ли Христос умер на кресте или его живым сняли с креста и он продолжал жить. Герой книги захватил с собой стетоскоп.
Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу – он был одет, как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто не увидел его стетоскоп, и стал выслушивать его.
В исхудалой груди все молчало. Сын Божий был совершенно мертв.
Такие дела.
Путешественнику во времени – его звали Лэнс Корвин – удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в пять футов и три с половиной дюйма.
К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал: да, пожалуйста. Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные извращения, от Древнего Египта до наших дней, и приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, увидав, что именно читает Билли.
– Фу-ты черт, да где вы ее откопали? – ну и так далее, а потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказчики уже знали про Билли. Они тоже наблюдали за ним.
Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми малопристойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журналов и увидал вопрос на обложке: «Куда девалась Монтана Уайлдбек?»
И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана. Она была далеко, на Тральфамадоре, и нянчила их младенца, но журнал, который назывался «Киски-полуночницы», уверял, что она, одетая камнем, лежит на глубине ста восьмидесяти футов в соленых водах залива Педро.
Такие дела.
Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения одиноких мужчин, поместил эту статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривых фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура – сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно.
Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханный морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок – а там одна, в постели, лежала Монтана Уайлдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотелось смотреть, что будет дальше, а тут еще к нему пристал приказчик, уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки – их особо прятали для любителей и знатоков.
Билли заинтересовался, что они могли там прятать такое уж особенное. Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография – женщина с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью меж двух дорических колонн, на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками.
В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал табличку на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там, у входа, уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик. Они пришли участвовать в дискуссии – жив роман или же он умер. Такие дела.
Вместе с другими Билли уселся за стол мореного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программы спросил, как его фамилия и от какой он газеты. Билли сказал: от «Илиумского вестника».
Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там Бешеного Боба!» – сказал он себе.
В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда один виргинец, через сто лет после битвы при Аппоматоксе, снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него в голове из печатных строчек складывались волнующие картины, и потому писателям приходится поступать, как Норман Мейлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал: «Дать цветовые пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал: «Художественно описывать взрыв». Третий сказал: «Научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских ресторанах».
Потом дали слово Билли. И тут он своим хорошо поставленным голосом рассказал и про летающие блюдца, и про Монтану – словом, про все.
Его деликатно вывели из студии во время перерыва, когда шла реклама. Он вернулся в свой номер, опустил четверть доллара в электрические «волшебные пальцы», подключенные к его кровати, и уснул. И пропутешествовал во времени на Тральфамадор.
– Опять летал во времени? – спросила его Монтана. У них под куполом стоял искусственный вечер. Монтана кормила грудью их младенца.
– М-мм? – спросил Билли.
– Ты опять летал во времени. По тебе сразу всегда видно.
– Угу.
– А куда ты теперь летал? Только не на войну. Это тоже сразу видно.
– В Нью-Йорк.
– А-а, Большое Яблоко!
– А?
– Так когда-то называли Нью-Йорк.
– Ммм-мм…
– Видел там какие-нибудь пьесы или фильмы?
– Нет. Походил по Таймс-сквер, купил книжку Килгора Траута.
– Тоже мне счастливчик! – Монтана никак не разделяла его восхищения Килгором Траутом.
Билли мимоходом сказал, что видел кусочек скабрезного фильма, где она снималась. Она ответила тоже мимоходом. Ответ был тральфамадорский – никакой вины она не чувствовала.
– Ну и что? – сказала она. – А я слыхала, каким шутом ты был на войне. И еще слыхала, как расстреляли школьного учителя. Тоже сплошное неприличие – такой расстрел. – Она приложила младенца к другой груди, потому что структура этого мгновения была такова, что она должна была так сделать.
Наступила тишина.
– Опять они возятся с часами, – сказала Монтана, вставая, чтобы уложить ребенка в колыбель. Она хотела сказать, что сторожа зоопарка пускают часы под куполом то быстрее, то медленнее, то снова быстрее и смотрят в глазок, как себя поведет маленькая семья землян. На шее у Монтаны висела серебряная цепочка. С цепочки на грудь спускался медальон, в нем была фотография ее матери-алкоголички – грубая фактура: сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Сверху на медальоне были выгравированы слова:

10
Роберт Кеннеди, чья дача стоит в восьми милях от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела.
Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад. Он тоже умер. Такие дела.
И ежедневно правительство США дает мне отчет, сколько трупов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела.
Мой отец умер несколько лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек. И помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они ржавеют.
* * *
На Тральфамадоре, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуются Христом. Из земных образов тральфамадорцев больше всего привлекает Чарльз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела.
Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска» Килгора Траута. Существа с летающих блюдец, похитившие героя книги, расспрашивают его о Дарвине. Они также расспрашивают его о гольфе.
Если то, что Билли узнал от тральфамадорцев, – истинная правда, то есть что все мы будем жить вечно, какими бы мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много.
В последнее время одним из самых приятных событий была моя поездка в Дрезден с О’Хэйром, старым приятелем еще с войны.
В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку. Он был похож на Адольфа Менжу. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не попросил нас пристегнуть ремни.
Когда мы поднялись в воздух, молодой стюард подал нам ржаной хлеб, салями, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюард пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным ножом. Этим ножом он открыл столик.
Кроме нас, было еще шесть пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала Восточная Германия, там было светло. Я представил себе, как на эти огни, на эти села, города и жилища бросают бомбы.
Ни я, ни О’Хэйр никогда не думали разбогатеть – и, однако, мы стали очень состоятельными.
– Попадете в город Коди, в Вайоминге, – лениво сказал я ему, – спросите Бешеного Боба.
У О’Хэйра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправлений, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было, зато он там нашел и дал мне прочесть вот что:
В среднем на свете ежедневно рождается триста двадцать четыре тысячи младенцев. В то же время около десяти тысяч человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела.
Кроме того, сто двадцать три тысячи умирают от разных других причин. Такие дела. В результате чистый прирост населения во всем мире ежедневно равняется ста девяноста одной тысяче человек. Бюро учета народонаселения предсказывает, что до двухтысячного года население Земли увеличится вдвое и дойдет до семи миллиардов человек.
– И наверно, все они захотят жить достойно, – сказал я.
– Наверно, – сказал О’Хэйр.
Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в третий день после разрушения Дрездена. Билли вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там. И О’Хэйр там был. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе.
На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне.
А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте, в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались.
Билли оказался в паре с другим копачом – маори, взятым в плен при Тобруке. Маори был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированы спиральные узоры. Билли и маори раскапывали бездушный и косный щебень Луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы.
Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались – упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности.
Потом Билли с маори и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто. Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было.
Такие дела.
Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене.
Постепенно такие шахты стали насчитывать сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музеи восковых фигур. Но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа. Маори, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того как он по приказу спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки.
Такие дела.
Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали подымать на поверхность, солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня.
Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он вынес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли.
Такие дела.
А где-то была весна. Добыча трупов прекратилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали взаперти в сарае, на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе закончилась.
Билли со всеми вместе вышел на тенистую улочку. Деревья распускались. Ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один пустой фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб.
Разговаривали птицы.
Одна птичка спросила Билли Пилигрима:
«Пьюти-фьют?»
Добро пожаловать в обезьянник
Посвящается Ноксу Бергеру. На десять дней меня старше, он стал мне прекрасным отцом.
От автора[7]7
© Перевод. Екатерина Романова.
[Закрыть]
Итак, перед вами ретроспектива рассказов Курта Воннегута, хотя сам Воннегут еще жив и, между прочим, пишет эти строки. В Германии есть речушка под названием Вонна – от нее и пошло мое диковинное имя.
Я пишу с 1949 года. Я самоучка и не выдумал ни одной складной теории о своем ремесле, чтобы помочь другим людям научиться писать. Взявшись за перо, я просто становлюсь тем, кем вроде бы должен становиться. Во мне шесть футов два дюйма росту, вешу я примерно двести фунтов и очень неуклюж (только плаваю хорошо). Вот эта бренная плоть, представьте себе, и пишет книги.
Впрочем, в воде я прекрасен.
Мой отец и дед работали архитекторами в Индианаполисе, Индиана, – там я и родился. У дедушки со стороны матери была собственная пивоварня. На Парижской выставке он получил за свое пиво (сорт назывался «Либер лагер») золотую медаль. Секретным ингредиентом был кофе.
Мой единственный брат – на восемь лет старше меня – выдающийся ученый. Он изучает физику туч и облаков. Зовут его Бернард, и у него отменное чувство юмора, куда лучше моего. Помню, после рождения первенца, Питера, он написал мне письмо, которое начиналось такими словами: «Вот сижу и оттираю какашки со всего, что попадается под руку».
Моя единственная сестра – старше меня на пять лет – умерла сорокалетней. Тоже выше шести футов ростом (примерно на ангстрем), она была божественно красива не только под водой, но и на суше. Она была скульптором. Крестили ее Алисой, но она всю жизнь отрицала, что это ее настоящее имя. Я соглашался. Все соглашались. Когда-нибудь – во сне, быть может, – я узнаю, как ее звали по-настоящему.
Перед смертью она сказала: «Уже не больно». По-моему, лучше перед смертью не скажешь. Мою сестру убил рак.
Недавно я осознал, что темы всех моих романов можно свести к этим вот самым словам: «Сижу и оттираю какашки» и «Уже не больно». А в этой книге собраны образцы моей писанины, которые я продавал, чтобы как-то прокормиться и писать романы. Вот они, плоды свободного предпринимательства.
Раньше я работал специалистом по связям с общественностью в «Дженерал электрик», а потом стал свободным художником и писал «легкое чтиво» – главным образом научную фантастику. Сделался ли я от этого лучше, судить не берусь – спрошу у Господа в Судный день (и заодно узнаю, как же звали мою сестрицу).
Это запросто может случиться уже в следующую среду.
Я успел спросить об этом одного университетского профессора, когда тот залезал в свой спортивный «мерседес-бенц-гран-туризмо». Он ответил, что работать специалистом по связям с общественностью и писать легкое чтиво – одинаково скверно, ведь и то и другое означает поступаться истиной ради денег.
Я спросил его, какой литературный жанр достоин наибольшего презрения, и он без колебаний сказал: «Научная фантастика». Тогда я спросил, куда он так торопится, и ответ был: «Опаздываю на реактивный самолет». Наутро он собирался выступать с докладом для Ассоциации современного языковедения в Гонолулу. А до Гонолулу было добрых три тысячи миль.
Моя сестра очень много курила. Мой отец очень много курил. И мать. И сам я курю до ужаса много. Брат тоже смолил без конца, а потом вдруг бросил, и это настоящее чудо из разряда библейских.
Однажды на коктейльной вечеринке ко мне подошла девушка и спросила:
– Чем вы теперь занимаетесь?
– Убиваюсь сигаретами, – ответил я.
Она сочла мой ответ смешным. Я – нет. Мне показалось, это ужасно – настолько не любить жизнь, чтобы каждый день травиться канцерогенными палочками. Курю я одну марку: «Pall Mall». Настоящие самоубийцы называют их «Полл-Молл». Дилетанты – «Пэлл-Мэлл».
У меня есть родственник, который втайне от всех пишет историю нашей семьи. Однажды, показывая мне черновики, он сказал про моего деда-архитектора: «Он умер молодым, после сорока. И по-моему, рад был наконец вырваться из всего этого». Под «этим» родственник имел в виду Индианаполис, но дедов страх перед жизнью, видно, передался и мне.
Министерство здравоохранения ни за что не признается, почему американцы так много курят. Все просто: курение – относительно верный и относительно благородный способ покончить с собой.
Стыд мне и позор за то, что когда-то я тоже хотел «вырваться», – больше не хочу. У меня шестеро детей, трое собственных и трое достались от сестры. Все они прекрасно устроились в жизни. Мой первый брак удался – и до сих пор меня радует. Моя жена все еще очень красива.
Вообще-то я ни разу не видел, чтобы у писателей были некрасивые жены.
В честь нашего удачного союза включаю в сборник отвратительно приторную любовную историйку, написанную для «Дамского журнала», где ее озаглавили – прости, Господи! – «Долгой прогулкой в вечность». Помнится, я-то называл ее иначе: «Черт знает что такое».
В ней описан один день, выпавший нам с будущей женой. Позор, позор! – в моей жизни действительно было место историям из женского журнала.
Как-то раз в «Нью-йоркер» про мою книгу «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» написали следующее: «Не роман, а сплошное самовлюбленное зубоскальство». Возможно, с этой книгой вышло иначе. А возможно, читателю лучше сразу вообразить меня девицей с рекламного плаката «Уайт-рок», которая присела на камень в одной ночной сорочке и не то высматривает пескариков в озере, не то любуется собственным отражением.
Где я живу[8]8
© Перевод. Екатерина Романова.
[Закрыть]
Однажды в здание старейшей американской библиотеки – библиотеки Стерджеса в Барнстейбл-Виллидж, что на северном берегу Кейп-Кода, – заглянул один коммивояжер, торгующий энциклопедиями. Ознакомившись с каталогом, он обратил внимание озабоченного библиотекаря на то, что самые современные справочные издания в нем – это «Британника» 1938 года и «Американа» 1910-го. А ведь с 38-го года случилось немало важного: изобрели пенициллин, Гитлер вторгся в Польшу и так далее.
Коммивояжеру посоветовали выразить свое недоумение руководству библиотеки, даже продиктовали имена и адреса. В списке значились господа Кабо, Лоуэлл, Киттредж и другие. Библиотекарь намекнула, что ему, возможно, удастся поймать всех директоров разом: они обычно собираются в Барнстейблском яхт-клубе. Едва не сломав шею на ухабах – призванных, видимо, охлаждать пыл лихачей и по возможности их уничтожать, – коммивояжер спустился по узкой дороге к яхт-клубу.
Ему очень хотелось мартини, но он не знал, обслуживают ли в баре посторонних. Вскоре коммивояжеру открылось ужасное зрелище: яхт-клуб представлял собой ветхий сарай шириной четырнадцать футов и тридцать длиной – эдакий кусочек Озарка в Массачусетсе. Внутри стоял рассохшийся до неприличия стол для пинг-понга, плетеная корзина для потерянных вещей с вонючим пропыленным содержимым да несчастное пианино, несколько лет подряд служившее тазом для сбора воды с прохудившейся крыши.
Ни бара, ни телефона, ни электричества. Да и членов клуба нигде не было видно. Вдобавок в гавани не осталось ни капли воды: знаменитые кейп-кодские волны, достигающие порой четырнадцати футов в высоту, сгинули с отливом и возвращаться, по-видимому, не собирались. Так называемые «яхты» – древние дощатые «Род-18», «биттлкэт» и парочка «бостон-уэйлер» – лежали в синевато-коричневой жиже на дне гавани. Над жижей вопили и хлопали крыльями чайки с крачками, безудержно радуясь каждой новой лакомой находке.
Были там и люди: несколько человек выкапывали огромных, с куропатку, моллюсков из песка Санди-Нек – косы длиной десять миль, отделяющей гавань от ледяного залива. Утки, гуси, цапли и всевозможные водоплавающие копошились в большом соленом болоте с западной стороны гавани. А у самого входа в гавань лежал на боку шестифутовый марблхедский ял, дожидавшийся возвращения воды. С таким килем ему вообще не стоило подходить к здешним берегам.
Равнодушный к окружающим природным красотам и буйству жизни, коммивояжер окончательно пал духом и поплелся обедать. Поскольку судьба привела его в самый процветающий округ Новой Англии – округ Барнстейбл – и поскольку процветал он исключительно за счет туристов, коммивояжер рассчитывал на относительное изобилие ресторанов и закусочных в округе, но вынужден был довольствоваться хромированным стулом у пластиковой стойки крайне безобразного и даже близко не колониального заведения под названием «Универсальный магазин Барнстейбла» – еще один кусочек Озарка, озаркский универмаг. Девиз магазина звучал так: «Все хорошее – у нас. Все плохое мы уже продали».
После обеда коммивояжер вновь отправился на поиски руководства библиотеки. На сей раз его направили в деревенский музей, расположенный в старом кирпичном здании таможни. Здание это – памятник давно минувшей эпохи, когда гавань еще не была заполнена синевато-коричневой жижей и в нее заходили нормальных размеров суда. В музее директоров не оказалось, а экспозиции навевали смертельную тоску. Коммивояжер почувствовал, как его душит апатия – хворь, поражающая едва ли не каждого случайного посетителя Барнстейбл-Виллидж.
Чтобы излечиться от нее, надо прыгнуть в машину и с ревом умчаться навстречу коктейльным барам, мотелям, кегельбанам, сувенирным лавкам и пиццериям Хайаннис-Порта – коммерческого сердца Кейп-Кода. Именно так наш коммивояжер и поступил. В Хайаннисе он попробовал развеять тоску на поле для мини-гольфа, которое называлось «Страна развлечений». В ту пору оно обладало весьма досадной особенностью, характерной для всего южного побережья Кейп-Кода: его разбили на лужайке, где когда-то помещался пост Американского легиона, и прямо среди изящных мостиков и посыпанных пробковой крошкой дорожек громоздился танк «шерман» – памятник ветеранам Второй мировой.
Памятник потом убрали, но он по-прежнему стоит на южном побережье, где рано или поздно попадет в окружение новых оскорбительных гнусностей.
Честь танка осталась бы незапятнанной в Барнстейбл-Виллидж, но деревня наотрез отказалась его принимать. Это у деревни такая политика: никогда ни с чем не соглашаться. В результате перемены в Барнстейбле происходят не чаще, чем меняются шахматные правила.
Самая большая за последние годы перемена коснулась избирательных участков. Еще шесть лет назад наблюдателями на выборах и со стороны демократов, и со стороны республиканцев были одни только республиканцы. Теперь же от демократов приходят свои наблюдатели. Впрочем, последствия этого чудовищного переворота не так чудовищны, как можно предположить, – до поры до времени.
Еще одно нововведение коснулось казначейства местного драмкружка – «Барнстейблского клуба юмористов». Казначей, который на протяжении тридцати лет злобно отказывался сообщить членам клуба, сколько денег они скопили (опасаясь, что те немедленно все растранжирят), в прошлом году ушел на пенсию, и новый казначей наконец объявил баланс: четыреста долларов с небольшим. Их в самом деле тут же потратили на покупку нового занавеса цвета тухлого лосося. Мертвецкая шторка в конце концов предстала на суд зрителей в день премьеры «Трибунала над бунтовщиком с “Кейна”». В новой постановке капитан Куигг уже не крутил в руке стальные шарики – их упразднили за непристойностью намека.
Другая важная перемена случилась около шестидесяти лет назад, когда вдруг выяснилось, что тунец съедобен. Раньше барнстейблские рыбаки называли его «конской макрелью» и громко ругались, завидев в сетях эту рыбу. Продолжая ругаться, они рубили ее на куски и выбрасывали обратно – в назидание остальным тунцам. Из отваги или просто-напросто глупости тунец никуда не ушел и в результате стал гвоздем Барнстейблского тунцового фестиваля, на который – к вящему удивлению поселян – съезжаются рыбаки со всего Восточного побережья. Ни один из них ни разу ничего не поймал.
Есть еще одно открытие, которое жителям Барнстейбл-Виллидж только предстоит сделать: употребление в пищу мидий не приводит к мгновенной смерти. Барнстейблская гавань местами забита ими под завязку, но никто их и пальцем не трогает. Причиной такой неприязни, впрочем, может быть изобилие других деликатесов, значительно более простых в приготовлении: полосатого окуня и венерок. Чтобы добыть последних, достаточно сразу после отлива ковырнуть песок в любом приглянувшемся месте. Чтобы поймать окуня, нужно поднять глаза к небу, найти живой конус из морских птиц и закинуть удочку в то место, где вершина конуса соприкасается с водой, – там-то и кормятся окуни.
Что еще сулит будущее: нескольким кейп-кодским деревушкам, возможно, удастся пережить алчную пору туристического бума и не потерять души. Г. Л. Менкен однажды сказал: «Никому и никогда еще не удавалось преувеличить вульгарность американского народа». Судя по огромным состояниям, которые сколачиваются на этой вульгарности, великий журналист был прав. Но душа Барнстейбл-Виллидж, быть может, уцелеет.
Во-первых, это не туристическая деревня, где все сдается, а половина домов зимой пустует. Большинство местных живут здесь круглый год – и это не пенсионеры, почти все они работают: плотниками, продавцами, каменщиками, архитекторами, учителями, писателями и кем угодно. Это бесклассовое общество, временами чересчур любвеобильное и сентиментальное.
Их дома – изъеденные термитами и плесенью, но вполне готовые простоять еще столетие-другое – строятся вплотную друг к дружке вдоль Мейн-стрит с конца Гражданской войны. Строительным компаниям попросту негде творить здесь свои бесчинства во благо экономики страны. На западе простирается обманчиво зеленый луг, но это соленое болото, синевато-коричневая жижа, прикрытая ковриком спартины. Именно «соленое сено», кстати, в 1639-м привлекло сюда переселенцев из Плимута. На болоте, затканном глубокими ручьями, по которым можно пройти на небольшой лодке, ни один нормальный человек ничего строить не станет. С каждым приливом оно целиком уходит под воду, а во время отлива выдерживает разве что вес человека и его собаки, не больше.
Застройщики и коммерсанты однажды задумали окультурить Санди-Нек – тонкую длинную косу живописных дюн, что окаймляет гавань с севера. Дюны эти украшены весьма причудливым лесом: мертвыми деревьями, которые сперва задушил песок, а потом вновь обнажил ветер. Внешний пляж – практических применений ему не счесть – мог бы красотой своей затмить пляжи Акапулько. Как ни удивительно, здесь есть даже пресная вода. Но местные власти, слава богу, выкупили весь Санди-Нек, кроме самого кончика у входа в гавань, и хотят разбить тут общественный парк – а значит, окультуривание здешним землям не светит.
На кончике косы, не выкупленном властями, расположилось крохотное поселение – домики теснятся вокруг заброшенного маяка, в далекие времена указывавшего путь большим судам, что входили в гавань и выходили из нее. До разбитой, выбеленной солнцем и морским ветром деревушки можно добраться только на лодке или вездеходе. Там нет ни электричества, ни телефонных линий, но зато она расположена меньше чем в миле от Барнстейбл-Виллидж – эдакий частный курорт для местных жителей.
Весь этот очаровательный, старомодный, слегка ксенофобский деревенский шарм вполне объяснял бы гордое звание «последнего оплота истинных кейпкодцев», если бы не одно «но»: среди жителей Барнстейбл-Виллидж почти не осталось тех, кто родился на Кейп-Коде. Как окаменелое дерево образуется из минералов, постепенно заменяющих собой органику, так и современный окаменелый Барнстейбл-Виллидж населен людьми из Эванстона, Луисвилла, Бостона, Питсбурга и бог знает откуда еще, постепенно заменяющими коренных деревенских янки.
Если б истинные кейпкодцы восстали из могил на церковном погосте, сбросили красивые резные надгробия и посетили собрание Барнстейблского гражданского общества, они бы, несомненно, одобрили происходящее. Любое предложение, вынесенное на суд этой организации, яростно обсуждается и отвергается – лишь раз все единодушно проголосовали за покупку новой сирены для кареты «скорой помощи». Сирена делает «биип-биип-биип» вместо «врррр» и слышна на расстоянии трех миль.
В библиотеке, кстати, есть теперь и новая «Британника», и «Американа» – приобретения эти ничего не стоили руководству, ведь деньги лезут у них из ушей, – но оценки школьников и разговоры взрослых от этого не шибко изменились.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.