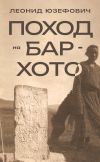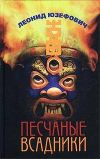Текст книги "Поздний звонок (сборник)"

Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 5
Жена
1
В соседнем номере ворковал репродуктор, у светофора под окном скрипели тормозами машины. Свечников снял пиджак и, прежде чем прилечь, вынул из бумажника коричневую фотографию на картоне с обтрепавшимися углами, с вытисненной внизу надписью: «А. Яковлев. Портрет Зинаиды Казарозы. 1912».
В центре, окруженная зверями, какие не могут соседствовать друг с другом не только в природе, но даже в зоологическом саду, стояла крошечная смуглая женщина с птичьей клеткой в руке. Вокруг нее бурлил звериный шабаш. Слева наступали обитатели джунглей, среди них тигр, оседланный макакой в буржуйском цилиндре. Здесь же разевал пасть русский медведь, поднявшийся на дыбы и обвитый, как Лаокоон, чудовищными змеями, для которых он был не жертвой, а союзником, опорой в смертоносном броске. Справа надвигалась орда взбесившейся домашней скотины, ею командовали еще одна обезьяна, вооруженная казачьей пикой, и отсутствующий у Брема мохнатый уродец с длинным прямым рогом на поросячьем носу.
Узкую, с полукруглым верхом клетку женщина держала за кольцо, выставив ее перед собой, как фонарь в пути по ночному лесу. В клетке сидела райская птица. От нее исходило неземное сияние, оно и делало маленькую смуглянку недоступной для всех этих тварей.
Губчека занимала здание духовной семинарии через площадь от кафедрального собора. В одной из комнат второго этажа Свечникова усадили у стены, Караваев уселся за стол, Карлуша – на подоконник, предварительно распахнув обе рамы. Окно выходило во двор, слышно было, как тихонько шумят в темноте яблони семинарского сада. К ночи ветер почти улегся.
– Свечников Николай Григорьевич, – заговорил Караваев, глядя в лежавшую перед ним папку с бумагами. – Одна тысяча восемьсот девяносто второго года рождения. Место рождения – город Гатчина. Из рабочих. В армии с одна тысяча девятьсот пятнадцатого. Окончил школу прапорщиков. В одна тысяча девятьсот семнадцатом вступил в партию социалистов-революционеров…
– Левых, – уточнил Свечников.
– Воевал на дутовском фронте. В Коммунистической партии с января одна тысяча девятьсот девятнадцатого. На Восточном фронте – с февраля. Служил в должности комроты и помначштаба Лесново-Выборгского полка двадцать девятой дивизии Третьей армии… Причина демобилизации?
– Показать?
Свечников начал расстегивать ворот гимнастерки.
– Не надо, – остановил его Карлуша. – В бане будете хвастать.
– А ты вообще кто такой?
– Попрошу ему не тыкать. Это Карл Нейман, наш сотрудник из Питера, – объяснил Караваев. – Итак, в каких отношениях состояли с гражданкой Казарозой, она же Шеншева, Зинаидой Георгиевной?
– Ни в каких не состоял.
– А зачем приходили к ней в театр?
– Просил выступить на концерте у нас в клубе.
– Почему именно ее?
– Слышал, как она поет.
– Где?
– В Петрограде.
– Когда?
– В позапрошлом году.
– Точнее.
– Ноябрь месяц.
Караваев извлек из папки листок с карандашной надписью по-английски.
– Узнаёте?
– Как это к вам попало? – удивился Свечников.
– Неважно. Вы писали?
– Я.
– Знаете английский язык?
– Нет. Просто переписал буква в букву.
– Чекбанк Фридмана и Эртла, девятнадцать, Риджент-парк, Лондон, – вслух прочел Караваев. – Какие у вас дела с лондонскими банкирами?
– При чем здесь Казароза?
– Отвечайте. Соображаете ведь, где находитесь.
– Это эсперантистский банк, там хранятся вклады русских клубов и частные пожертвования. Первые поступления относятся к девятьсот десятому году. Мы требуем возвратить эти деньги, а правление банка отказывает под предлогом, будто в Советской России нет независимого эспер-движения.
– Сумма вклада?
– Около сорока тысяч рублей золотом.
– Откуда вам это известно?
– Из бюллетеня Всемирного Конгресса, нам его пересылают из Москвы. Мы хотим направить в президиум Конгресса открытое письмо.
– А зачем адрес банка?
– Туда – копию на английском.
Сделать перевод поручили Варанкину. Он преподавал английский, ему Свечников и отдал эту записку с адресом. Непонятно было, как она оказалась в ЧК.
– Фамилия Алферьев о чем-то вам говорит? – вмешался Нейман.
– Нет.
– Он же Токмаков, Струков, Инин.
– Не знаю.
– Левый эсер, боевик. Участник убийства Эйхгорна в Киеве.
Фельдмаршала Эйхгорна, командующего немецкими войсками на Украине, эсеры взорвали еще до Версальского перемирия. Бомба была заложена в термос. Планировались также покушения на Ллойд-Джорджа, президента Клемансо, кайзера Вильгельма и Гинденбурга – в расчете, что это вызовет всеевропейское восстание измученных бессмысленной бойней народных масс, но до Парижа, Берлина и Лондона дотянуться не удалось, в итоге ограничились графом Мирбахом в Москве и Эйхгорном в Киеве.
– По нашим сведениям, – продолжал Нейман, – Алферьев недавно прибыл на Урал для организации подпольных боевых дружин. Раньше он увлекался эсперанто и этой зимой вел переговоры с тем же лондонским банком, хотел получить средства якобы для русского эспер-движения, но на самом деле – для нужд партии. А теперь посчитаем. Ваше эсеровское прошлое – раз, эсперанто – два, банк Фридмана и Эртла – три, Урал – четыре. Налицо четыре пункта, по которым вы можете быть связаны. Не многовато ли совпадений?
– С эсерами я разошелся полтора года назад, – сказал Свечников, – с тех пор никаких контактов с ними не имею.
– Почему тогда не хотите честно рассказать о ваших отношениях с Казарозой?
– Да не было никаких отношений!
– И Алферьева вы ни разу в жизни не видели?
– Не видел.
– И не слышали о нем?
– Нет.
– И не знали, что Казароза – его гражданская жена?
Боль была неожиданно острой. Свечников никогда не думал, что с такой силой можно ревновать мертвых.
Вот от кого она слышала эти стихи: Бабилоно, Бабилоно, алта диа доно. Этот человек дал ей новое имя, как победитель переименовывает завоеванный город.
– Что молчите? – проницательно сощурился Караваев.
– Давайте, ребята, отложим до завтра, – попросил Свечников. – Не могу я сейчас.
– Понимаю, – удовлетворенно кивнул Нейман. – Значит, какие-то отношения у вас все-таки были.
По дороге в камеру Казароза, Зиночка Шеншева, пела ему песню своей любви с заезженной до хрипа пластинки:
Этот розовый домик,
Где мы жили с тобой,
Где мы счастливы были
Нашей тихой судьбой.
Там дарил нам надежду
И хранил нас от бед
Уходящего лета
Холодеющий свет…
Караульный солдатик долго возился с амбарным замком на двери, наконец дужка выпала сама. Шибануло кислой вонью. В красном углу слабо горела семилинейка, на полу вповалку спали люди.
– Все гусары спят, лишь один не спит, – сказал лежавший с краю арестант и подвинулся. – Милости прошу.
Он оказался чертежником с пушечного завода, его преступление состояло в том, что углем вывел на стене ствольного цеха популярный в Сибири и на Урале лозунг: «Долой Ленина с кониной, да здравствует Колчак со свининой!».
Пока он рассказывал, чем здесь кормят, Казароза пела:
Помню утренний кофе,
И вечерний покой,
И в закатном пожаре
Над уснувшей рекой,
Над бескрайним разливом
Этот розовый свет,
Этот маленький домик,
Где тебя больше нет.
2
Через тысячу лет, в гостинице «Прикамье», глядя на окруженную зверями женщину, Свечников вспомнил, как шли ночью по Кирочной, и он сказал: «Вы не волнуйтесь, что сейчас всё так плохо. Скоро всё будет хорошо».
«Я так думала летом семнадцатого года, – ответила она. – Как-то пришли с друзьями в “Асторию”, а там новый бармен, негр из нью-йоркской “Уолдорф-Астории”. Ну, думаю, если выписали негра из Нью-Йорка, значит, революция, слава богу, закончилась и теперь уж всё будет хорошо».
Утром конвойный привел в ту же комнату на втором этаже. Нейман по-прежнему, как школьник, с ногами сидел на подоконнике, Караваев – за столом, словно всю ночь оба не только не выходили отсюда, но даже не вставали с мест.
– Вы утверждаете, – начал допрос Нейман, – что с Казарозой познакомились в ноябре восемнадцатого года и больше не встречались. Так?
– Да.
– И не переписывались?
– Нет.
– Третьего дня вы пришли в театр, пригласили Казарозу выступить в клубе «Эсперо». Получается, это был ваш первый разговор после той встречи в Петрограде?
– Да.
– Но афиша концерта отпечатана неделю назад, и в ней указано, что первого июля Казароза будет петь в Стефановском училище. Почему вы были уверены, что она вам не откажет?
– Мне так казалось.
– Вам так казалось, потому что знали об увлечении ее мужа?
– Опять за рыбу деньги? Не знал я ни про какого мужа!
– Когда она уже начала петь, вы сказали мне, чтобы я не вздумал провожать ее после концерта. Хотели остаться с ней наедине?
– Хотел.
– Для чего?
– Проводить ее до театра.
– Чтобы поговорить о чем-то важном?
Свечников пожал плечами и не ответил.
– У вас в редакции есть Виктор Осипов, литконсультант, – сменил тему Караваев. – Редактор возражал против его кандидатуры, но вы были за. Почему?
– Некому было вести литературный кружок.
– А не потому, что он тоже состоял в партии эсеров?
– Первый раз слышу.
– Знакомы с его творчеством?
– Кое-что читал.
– Вот одно произведение. Взгляните.
Караваев вынул из своей папки, развернул и протянул Свечникову газету «Освобождение России» от 11 мая 1919 года. На первой полосе красным карандашом отчеркнуто было стихотворение «Разговор солнца с морем». Внизу указывалось имя автора: В. О-в.
– Про кортик Колчака слыхали? – поинтересовался Караваев.
– Нет.
– Когда в семнадцатом году революционные черноморские моряки приказали Колчаку сдать оружие, он выбросил свой адмиральский кортик за борт.
В первых строчках рисовалась благостная картина Черного моря, дремлющего под солнечными лучами, затем следовал растянутый на полдесятка четверостиший монолог солнца, в котором оно скрупулезно перечисляло морю свои к нему благодеяния: его живительные лучи согревают воду, позволяют плодиться рыбам, дельфинам, черепахам и морским птицам, питают водоросли и кораллы, взращивают жемчужины в раковинах.
– Кораллов и жемчуга в Черном море нет, – заметил Свечников. – Черепахи, по-моему, тоже не водятся.
– Большой талант имеет право пренебречь низкой правдой жизни, – усмехнулся Нейман.
Свечников стал читать дальше.
Напомнив морю о своих перед ним заслугах, солнце потребовало ответной благодарности:
Справедливо будет, море,
Коль отдашь за это мне
То сокровище, что скрыто
В твоей синей глубине.
Море мгновенно сообразило, о чем речь. Ответ его был вежлив, но непреклонен:
Всё отдам тебе, светило,
Рыб, кораллы, жемчуга.
Не отдам тебе лишь кортик
Адмирала Колчака!
– Неизвестно еще, Осипов это или нет, – сказал Свечников.
– Он, – заверил Караваев. – Многие правые эсеры сотрудничали с Колчаком. Допустим, вы этого не знали, но вот еще один факт. Выступая на выпуске пехкурсов, вы говорили, будто пятиконечную звезду, символ братства рабочих пяти континентов, мы, коммунисты, позаимствовали у эсперантистов, только перекрасили из зеленого в красный. Говорили?
– Ну, говорил.
– И зачем врали?
– Я не врал. Три года назад Крыленко предложил, и Ленин принял.
– Какой Крыленко? Нарком юстиции?
– Да, он бывший эсперантист.
– Откуда такие сведения?
– Не знаю. Все знают.
– Кто – все? За одну эту пропаганду на вас можно дело заводить, а вы еще со шляхтой переписываетесь. Нет, скажете?
Свечников понял, что имеется в виду, и терпеливо объяснил, что клуб «Эсперо» состоит в переписке с рядом зарубежных эсперанто-клубов, лично он писал в варшавский клуб «Зелена гвязда». Содержание письма – призыв к эсперантистам с родины доктора Заменгофа бороться за прекращение интервенции против Советской России.
– Кто, – спросил Нейман, – у вас главный?
– Военврач Сикорский. Нового председателя правления будем выбирать через неделю.
– И кто кандидаты?
– Сикорский, Варанкин и я.
– А как у вас организована переписка?
– В централизованном порядке. Письмо не может быть сдано на почту без клубной печати. Текст пишется в двух экземплярах, копия остается в архиве.
– Что изображено на печати?
– Звезда в круге и надпись эсперо.
– Письмо на эсперанто с такой печатью обнаружено при обыске на петроградской квартире Алферьева, – сообщил Нейман.
Он слез с подоконника, достал из караваевской папки несколько листков с блеклой машинописью и подал Свечникову.
Страницы густо пестрели нарисованными от руки чернильными звездочками. Повторяясь внизу, под чертой, они отсылали к сочинениям Заменгофа, где, видимо, подтверждалась мысль автора, не способная двигаться дальше без этих подпорок.
– У вас в клубе есть пишущая машинка с латинским шрифтом?
– Нет. Ищем.
– Странно… И о чем здесь говорится?
– Вопрос чисто теоретический. Обсуждаются правила передачи на эсперанто русских и польских имен собственных.
– Верно, – признал Нейман. – В Питере мне сказали то же самое.
– Проверочку мне устроили?
– Служба такая. Это может быть шифр?
– Вряд ли.
– Вас не удивляет, что письмо без подписи?
– Если оно отправлено через клуб, подпись необязательна. Достаточно печати. Она свидетельствует, что в письме выражено общее мнение членов клуба.
– У кого хранится печать?
– У Сикорского.
– В копии, которая остается в архиве, имя автора указывается?
– Как правило, да.
– Это письмо лежало в конверте с обратным адресом клуба «Амикаро». Знаете такой?
– Да, петроградский клуб слепых эсперантистов.
– Оттуда его и переслали Алферьеву. Когда-то Алферьев вел там кружок мелодекламации, он бывший артист. К сожалению, клуб этот уже не существует, все его активные члены не пережили двух последних зим. Кто из них переправил Алферьеву письмо, установить не удалось. В Питере наши сотрудники допросили Казарозу, она заявила, что о муже ничего не знает, они расстались еще осенью. Соседи показали, что он с ней не жил. Мы ей поверили и вдруг узнаём, что она засобиралась в гастрольную поездку на Урал, хотя больше года перед этим нигде не выступала. Других известных артистов в труппе нет, гонорар обещали на месте выдать продуктами. Это, конечно, неплохо, но не крупой же она соблазнилась! Похоже, ее привлек маршрут поездки.
– Думаете, Алферьев скрывается у нас в городе? – догадался Свечников.
Нейман снял с полки какую-то брошюру, полистал, нашел нужную страницу и, ладонями прикрыв текст вверху и внизу, так что между ними остался единственный абзац, показал его Свечникову. Это был пункт номер семь из секретной, видимо, инструкции по производству дознания. Он гласил: «При допросе следователь должен задавать вопросы строго обдуманные, но отнюдь не посвящать обвиняемого или подозреваемого в те данные, которые уже имеются налицо».
– Как видите, я позволил себе лишнее, – улыбнулся Нейман. – Вы теперь знаете то же, что и мы. Почему-то я вам доверяю. Еще несколько вопросов, и вас отпустят… Сколько вы вчера слышали выстрелов?
– Три вроде.
– Не четыре?
– Может, и четыре. Чего гадать? Возьмите наган этого недоумка с пехкурсов и посмотрите, сколько патронов истрачено.
– Уже посмотрели.
– И сколько?
– Три. Он говорит, барабан был полный.
– Тогда в чем дело? Две пули мимо, третья – в нее.
– Для протеста всегда стреляют вверх. Рикошет исключается. К тому же у него обычный тульский наган, калибр семь шестьдесят два. Казароза убита пулей шестого калибра.
Нейман замолчал, наслаждаясь эффектом, и Свечников услышал, как птицы пересвистываются в яблонях семинарского сада. Окно было открыто, они там давно радовались теплу и ясному утру, но раньше их голоса до него не доходили.
– Пока шел концерт, он, – кивнул Нейман на Караваева, – стоял у крыльца. После вас ни один человек с улицы в училище не входил, но кто-то мог проникнуть в зал со двора, через окно. Рядом с задним окном проходит пожарная лестница.
– Даневич залез, – вспомнил Свечников.
– Это кто?
– Студент с истфака. Был членом клуба, недавно исключен. Я не велел его впускать, но в зале он был.
– А незнакомые вам люди были?
– Всегда кто-нибудь бывает из посторонних.
– Кто-то из них обратил на себя ваше внимание?
– Чем?
– Не знаю. Чем-нибудь.
Свечников поднялся и встал лицом в сад. Птицы свистели, сияло солнце. Бабочка села на подоконник.
– Зачем было ее убивать? – спросил он. – Кому она помешала?
– Если Алферьев в городе, то ему. Он, вероятно, подозревал, что мы держим ее под наблюдением. Может быть, ей известно было, где он прячется, она невольно могла вывести нас на него.
– И он решил ее убить? – не поверил Свечников.
– У таких людей это запросто. Она могла знать имена его здешних товарищей по партии, какие-то адреса, явки. Могла его шантажировать. Мы же не знаем, какие у них были отношения. Одно я знаю точно: для чего-то ей нужно было попасть на правый берег. Вчера она спрашивала, как переправиться через Каму.
– Раньше там жили дачники, – вспомнил Караваев. – Сосновый бор, чистый воздух. Богатые были дачи!
– Вы оба знаете Алферьева в лицо? – спросил Свечников.
– Только я, – ответил Нейман. – А что?
– Если вчера он был в зале, вы бы его заметили.
– А с чего вы взяли, что Казарозу убил он сам? На концерте мог присутствовать кто-то из его людей, кого я не знаю. Например, тот, кто писал ему на адрес клуба «Амикаро». Убивать ее во время концерта он, конечно, не собирался, просто воспользовался случаем. Пальнул, когда курсант начал лупить в потолок, и два выстрела слились в один… Вам не показалось, что Казароза узнала кого-то из публики?
– Нет, – сказал Свечников, хотя, если отвечать правду, нужно было сказать «да».
– По-моему, она несколько раз оглянулась на кого-то в задних рядах. Не заметили, кого она там высматривала?
– Нет.
– И она вам ничего не говорила?
– Нет, – в третий раз соврал Свечников.
Он уже знал, по какому следу нужно искать убийцу, и хотел найти его сам. О том, что сделает с ним, когда найдет, лучше было не думать.
Глава 6
Алиса, которая боялась мышей
1
Вагин всё рассчитал: сейчас Свечников пообедает в гостиничном ресторане, потом по-стариковски ляжет вздремнуть и встанет часикам к шести. Тогда и нужно зайти к нему в «Прикамье».
Он поел, вымыл за собой посуду, тщательно вытер ее и убрал в шкафчик, как всегда делала Надя, хотя невестка требовала оставлять ее на сушилке. Где-то она вычитала, что так гигиеничнее.
У себя в комнате Вагин взял с подоконника Надину фотографию в потертой кожаной рамочке и переставил так, чтобы солнечный свет с улицы не бил ей в лицо. Он снимал ее сам, вскоре после родов. Надя стояла во дворе с полным тазом пеленок в руках, а за ней, как черта горизонта в туманной дали, тянулась бельевая веревка.
* * *
Утром разбудил стук в окно – явился соседский Генька. Бабушка вынесла ему на крыльцо банку с накопленными за неделю чайными выварками. Мать Геньки обложила этим оброком всех соседей, чье сердце трогала ее бедность, а благосостояние позволяло пить чай не из смородинового листа. Она высушивала выварки, смешивала их с настоящим байховым чаем, расфасовывала и продавала на камском взвозе. Вагин носил ей из редакции газеты для кульков. С весны грозное обвинение в спекуляции на мелочных торговок не распространялось, их уже не арестовывали, разве что иногда гоняли для порядка.
Пора было вставать. Подождав, пока за Генькой хлопнет калитка, Вагин сел на постели и внезапно понял, почему эта ручка из гипса так его вчера встревожила. Помимо плаката с пальцем было еще нечто, рифмующееся именно с ней.
На полу в изголовье валялись книжки, которые он читал на сон грядущий, среди них – переведенный Сикорским с эсперанто роман Печенега-Гайдовского «Рука Судьбы, или Смерть зеленым!». На днях Свечников со своим обычным напором всучил его Вагину.
Сейчас он без труда отыскал одно из мест, раскрывающих смысл заглавия: «Анна, полуобнаженная, лежала на окровавленной простыне. Она была мертва, в груди зияла страшная рана от удара кинжалом, но самым ужасным было даже не это. Сергей содрогнулся, увидев, что на правой руке девушки нет кисти. Она была отрублена…»
Если бы не эсперанто, роман мало отличался от множества подобных, читанных Вагиным еще в гимназии. Экстравагантные ужасы, когда-то леденившие кровь, казались милой романтикой рядом с обыденным зверством последних лет. Прохожих на улице резали из-за галош, двое гимназистов из хороших семей задушили изнасилованную ими девочку и, заметая следы, сожгли в кочегарке. В контрразведке большевиков насмерть забивали велосипедными цепями, а в прошлом апреле, когда оттаяла земля и белые провели раскопки в семинарском саду, превращенном в кладбище при губчека, трупы находили в таком виде, что хотелось забыть об этом раз и навсегда.
Сумочка со всем, что в ней было, покоилась в ящике письменного стола. Ключ от него давно потерялся, но бабушка туда не лазила. Вагин сумел внушить ей, что содержимое ящика является неприкосновенной святыней. Он попил чаю и пошел в редакцию.
Там сразу подсел Осипов, абсолютно трезвый, что бывало с ним нечасто. Старый газетный волк, он подвизался еще в «Губернских ведомостях», но выше репортера не поднялся. «Хорошо я могу писать только о том, к чему у меня лежит сердце», – говорил Осипов о своей незадавшейся карьере фельетониста. Сердце у него лежало к тому, что со времен равноапостольного князя Владимира составляло веселие Руси. В своих пересыпанных матерками стихах под Баркова, которые в списках ходили по городу, он пел дружеское застолье, нескромные прелести юных дев и пену шампанского, хотя и тогда, и особенно теперь охотно снисходил к вульгарной подпольной кумышке. Единственным его крупным печатным произведением осталась стихийно-бунтарская, как характеризовал ее сам Осипов, поэма о чахоточной швее, написанная октавами и опубликованная «Губернскими ведомостями» ко Дню Белого цветка – Всероссийскому дню борьбы с туберкулезом.
При Колчаке ему подфартило попасть в «Освобождение России», он заведовал «Календарем садовода и птичницы», но, по его словам, был уволен и чудом не арестован за то, что под видом различных плодово-ягодных растений в критическом ракурсе выводил деятелей местной и даже омской администрации, включая самого адмирала. В действительности пострадал он совсем по другой причине. Будучи в садоводстве и птицеводстве полным профаном, Осипов переписывал аналогичный календарь из подшивки одной киевской газеты за 1909 год, но, рекомендуя сроки прививок и подкормок, не делал поправки на уральский климат, от читателей стали поступать возмущенные письма, и его выгнали. Теперь он вел литературный кружок при редакции, тем и кормился.
– Прочел твои стихи во вчерашнем номере, – сообщил Осипов. – Неплохо, но могло быть лучше, если бы ты вынес их на обсуждение наших кружковцев.
– И что бы они мне посоветовали? – полюбопытствовал Вагин.
– Больше заботиться о деталях. Одна неточная деталь подрывает доверие к стихотворению в целом.
– Вы ее у меня нашли?
– И не одну.
– А сколько?
– Три, – сказал Осипов, расстилая на столе газету.
Вчерашний номер был посвящен годовщине освобождения города от Колчака, публиковались воспоминания участников штурма. Список мемуаристов Свечников составил заранее и утвердил на бюро губкома, а сам выступил в роли музы. Две недели он простоял у них над душой, внушая им веру в свои силы, поддерживая перо, которое они то и дело норовили выпустить из рук, но в итоге безжалостно вычеркнул большую часть того, на что сам же их вдохновил. За образец взята была эстетика штабного рапорта, к ней тяготели помещенные среди прочих опусов его собственные заметки. В то же время чувствовалась в них энергия великой битвы, ставшей для Свечникова последней.
«Рано утром 29 июня, – вспоминал он, – белые с целью помешать нам переправиться на восточный берег спустили в Каму и подожгли керосин из десятков цистерн в районе железнодорожной станции Левшино. Огонь по течению двинулся вниз, захватывая лодки, плоты, различные плавсредства у причалов. Чалки перегорали за считаные секунды, пароходы и баржи, пылая, плыли к городу, над которым тоже стояли тучи дыма. Там горели две сотни вагонов с углем, хлопком, обмундированием. Для них не хватило паровозов, и по приказу генерала Зиневича они были сожжены на путях Горнозаводской ветки. Тогда же наши передовые части с северо-запада вышли к Каме. Перед нами расстилалась огненная река. Вода шла пузырями, черную вонючую пену выносило на плесы. Клубы дыма окутывали левый, подветренный берег, откуда гранатами била по нам батарея легких орудий. Лишь к полудню наши артиллеристы заставили ее замолчать, до этого у них не было возможности корректировать стрельбу, разрывы снарядов тонули в сплошной дымовой завесе. Началась переправа…»
Ниже Ваня Пермяков поместил «Сказ о командарме Блюхере», записанный им от однофамильца из деревни Евтята Оханского уезда.
Вот едет он, Блюхер, на вороном коне по Уральским горам. Горы под ним шатаются, леса к земле пригибаются. За спиной винтовочка удалая, сбоку шашка булатная, на поясе гранаты молодецкие. А газы пустят – на то Ленин ему в подарок прислал противогаз серебряный.
«Еще был у Блюхера броневик, – повествовалось далее. – Сядут они туда с ординарцем, броней покроются, едут и стреляют. А их и не видать и не взять никак. Раз ехали по лесу и заехали в такое место, где кругом пожар. Вылезли наружу, ординарец тужуркой накрылся и давай бог ноги. Оглянулся, видит – Блюхер стоит в дыму, только уши у него делись куда-то, голова лысая стала, а нос вырос, как у слона, и в живот ему уперся. Стоит Блюхер и чистым воздухом из своего живота дышит. Всякому он был обучен и такие штуки знал, что сказать – не поверишь».
На четвертой полосе напечатано было стихотворение Вагина «Женщина и воин»:
Целуй меня!
Ты – женщина. Я – воин.
Я шел к тебе средь пихты, гнилопня,
Под пенье пуль, под гром орудий, с боем,
И видел – Ночь садилась на коня
И в снежных вихрях уносилась, воя.
Синели нам уста слепого Дня,
Дышала Смерть над ледяным покоем.
Я так устал. Нам хорошо обоим.
Целуй меня.
Ты – женщина. Я – воин.
Ты – женщина.
Целуй меня!
– Для начала, – предложил Осипов, – растолкуй мне, дураку, кем является твой лирический герой.
– Тут же всё написано, – указал Вагин на подзаголовок: «Монолог красноармейца. 1 июля 1919 г.».
– Тогда с какой стати он называет себя «воином»? У красных принято слово «боец».
– У меня в слове «воин» объединены два понятия, – не растерялся Вагин, – рядовой боец и командир. От этого образ получается более обобщенным.
– Ладно, – согласился Осипов, – идем дальше. Дело было летом, а у тебя смерть дышит «над ледяным покоем». Почему?
– Это в переносном смысле. «Ледяной» – значит безжизненный.
– Черт с тобой, допускаю, хотя эпитет не самый точный. Но вот почему июньская или июльская ночь куда-то уносится «в снежных вихрях», простой читатель понять решительно не в состоянии.
Вагин похолодел.
– Молчишь? Так я тебе, дружок, сейчас объясню, откуда взялись эти вихри. Красные заняли город летом прошлого года. А в позапрошлом их выбили отсюда Пепеляев и Укко-Уговец. В каком месяце это было?
– В декабре.
– Тогда и написано. Только это был монолог не красноармейца, а сибирского стрелка, дата в подзаголовке тоже стояла другая: не первое июля, а двадцать четвертое декабря, и не девятнадцатый год, а восемнадцатый. Что-что, но анализировать стихи я умею, мне за это паек выдают.
Вагин скосил глаза в направлении вешалки – фуражки редактора на ней не было. Значит, еще не пришел.
– Не бойся, никому не скажу! – засмеялся Осипов, проследив его взгляд, и внезапно посерьезнел. – По-моему, вчера у тебя осталась ее сумочка.
– Казарозы?
– Да. Где она?
– Дома.
– Кому-то о ней говорил?
– Нет.
– Если станут спрашивать, ты ничего не знаешь. Вечером я к тебе зайду.
Вагин сообразил, что анализ «Женщины и воина» имел целью получить сумочку Казарозы в обмен на молчание. Вспомнилась гипсовая кисть в черном бархате. Не она ли нужна Осипову? Не случайно, может быть, он так интересовался этим плакатом на сцене.
Осипов заглянул в соседнюю комнату, где за единственным в редакции ремингтоном, не пропечатывающим верхнюю перекладину у прописной «П», сидела Надя.
– Ты хотела Казарозу послушать, – сказал он. – У меня с собой ее пластинка, тащи машину.
Пока Надя ходила в чулан за граммофоном, Вагин спросил:
– Куда вы вчера подевались, когда началась пальба? Ведь сидели рядом со мной.
– Пересел.
– Чего вдруг?
– Из-за Свечникова. Встал посреди зала и прямо передо мной. Он хоть и кристальной честности большевик, но все-таки не стеклянный. Тут как раз этот идиот начал стрелять.
– И что ему будет?
– Сопли утрут и отправят на фронт. Не пропадать же добру! Бог даст, поляки с него там скальп снимут.
– Теперь вряд ли, – усомнился Вагин. – На Западном фронте у нас большое продвижение, заняли Речицу. Я видел сводку. Пишут, что среди легионеров Пилсудского наметились признаки разложения.
– Это Свечников их распрогандировал. Он мне показывал свое послание к варшавским эсперантистам. Стиль – чудо! Что-то среднее между «Бедной Лизой» и резолюцией митинга в совпартшколе.
Появился граммофон, Осипов извлек из портфеля пластинку. Ее насадили на колышек, пустили механизм. В трубе зашипело, как если плеснуть водой на раскаленную сковороду, потом далеко, тихо заиграли на рояле. Голос возник – слабый, тоже далекий:
Взошла луна, они уж тут как тут,
И коготками пол они скребут…
– Слов не разбираю, – пожаловалась Надя.
– Песня про Алису, которая боялась мышей, – пояснил Осипов. – От страха она не могла уснуть, но один человек подарил ей кошку, и все мыши разбежались.
– А где та пластинка? – спросил Вагин.
– Какая?
– Вы цитировали две строчки. Про то, что «родина ее на островах Таити» и «ей всегда всего пятнадцать лет».
– Потерялась, – подумав, ответил Осипов.
Голос Казарозы с трудом пробивался сквозь шипение заезженной пластинки:
Взошла луна, но в доме тишина,
Алиса спит спокойно у окна.
Пусть льется в окна бледный лунный свет,
Она пришла, и страха больше нет.
От кошки мыши убежали прочь,
Так от любви светлеет жизни ночь.
Вагин жгутиком скатал на щеке занесенное ветром волоконце тополиного пуха. Он смотрел, как слушает Надя. На лице у нее шевелились тени за-оконной листвы – утреннее солнце сквозило сквозь крону старой ветлы во дворе. Ее неохватный ствол винтом скручивался у комля и от этого казался еще мощнее, еще огромнее. Вершковой толщины кора лежала на нем крупными ромбовидными ячейками, какие бывают у очень старых деревьев, счастливо доживающих свой век на открытом месте. Высоко над крышей простерлась гигантская рогатка, сучья на обеих вершинах иссохли, но ниже раскачивались и шумели живые ветви, и было чувство, будто дрожащие тени листьев на лице у Нади, и ветер, и голос поющей о любви мертвой женщины, чье сердце в язвах изгнило, – всё движется в одном ритме, всё связано со всем, и неважно, про белых написано или про красных, летом было или зимой. Если чувствуешь этот ритм, солгать невозможно.
– Я могу объяснить, откуда в июне берутся снежные вихри, – сказал Вагин.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?