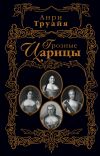Текст книги "Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига первая"

Автор книги: Лев Бердников
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
Свадьбы пели и плясали. Анна Иоанновна как автор и исполнитель
Императрица Анна Иоанновна получила репутацию малосимпатичной и малопросвещенной монархини, а период ее царствование нередко называют одним из самых мрачных в истории Отечества. Между тем именно под ее скипетром в России складывается придворное общество с теми его социальными и культурными параметрами, которые присущи западноевропейским монархиям. Подобные инновации нередко приписываются Петру Великому. Тем не менее Петр придворного общества не создавал – слишком занят был разрушением старого социального порядка. Его усилия завести в России европейский политес имеют столь выраженный революционный, полемический характер, что созидательный момент отходит на второй план.
Двор становится важным элементом в структуре власти только при императоре-отроке Петре II, утвердившем новый штат с системой чинов и окладами придворных, число коих достигло в 1727 году 392 человек. При Дворе же Анны состояло уже 625 человек, а ежегодная сумма расходов выросла со 100 тысяч (при Петре II) до 260 тысяч рублей.

Возникновение придворного общества при Анне было естественным: надо было начинать жить по-европейски, а это – при отсутствии петровского реформаторского пыла – означало вести этикет западных Дворов. Эталоном для всех был в то время Двор “короля-солнце” Людовика XIV. Культуролог Виктор Живов полагает, что Двору Анны так и не суждено было достичь Версальского блеска. Современники, однако, считали иначе. Испанский герцог де Лириа-и-Херика говорил об императрице: “Щедра до расточительности, любит пышность до чрезмерности, отчего ее Двор великолепием превосходит все прочие европейские”.
В самом деле, Анна завела множество новых придворных чинов, закатывала балы и устроила театр, как у французского короля. В начале 1731 года Саксонский курфюрст Август II прислал из Дрездена на ее коронацию несколько итальянских артистов. А уже в 1735 году при Дворе выступала постоянная итальянская труппа, которая два раза в неделю давала интермедии, чередовавшиеся с балетом. В них участвовали воспитанники Кадетского корпуса, обучавшиеся под руководством французского учителя танцев Жана Батиста Ланде (ум. 1748). Затем явилась итальянская опера с семьюдесятью певицами и певцами под управлением композитора-француза Франческо Арайя (1709–1767) Большим успехом при Дворе пользовалась и труппа немецких комедиантов, разыгрывавшая грубые фарсы. Нередки были и заезжие гастролеры-кукольники.
Однако наряду с присущим ей европеизмом императрица проявляла неподдельный интерес и к древнерусской культуре. И это также отличает Анну от ее венценосного дядюшки, воспринимавшего старину как нечто отжившее, тормозящее преобразования, вредное. Сохранились письма монархини своему родственнику, обер-гофмейстеру Семену Салтыкову, где она просит немедленно сыскать и прислать во дворец легендарные русские “музыкалии” – бандуру и гусли. А в другой раз она интересуется, нет ли у князя Василия Одоевского старинных “русских гисторий прежних государей”, а если есть – прислать ей.
Она любила все русское, национальное, казавшееся уже в начале XVIII века простонародным. И это понятно: детство Анна провела в подмосковном Измайлове в окружении затейливых бахарей, местных сельских девах с их хороводами и плясками, нищих, юродивых и прорицателей, содержавшихся там целыми толпами. Уже будучи царицей, она обязательно ложилась после обеда отдыхать в свободном широком платье, в повязанном на голове по-крестьянски красным платком. Любила после сна, открыв дверь в соседнюю комнату, где находились фрейлины, крикнуть: “Ну, девки, пойте!”. И надобно было петь до тех пор, пока она не наскучивала пением. Рассказывают, что однажды Анна приметила, что две барышни молчат, и когда получила ответ, что те петь устали, разгневалась, приказала наказать их кнутом и отправить на “прачешный двор”, где несчастные трудились целую неделю.
К слову, само ее царствование уподобляют правлению помещицы старомосковской закваски, распоряжавшейся своею властью с той патриархальностью и простотой, с какими правила личной вотчиной какая-нибудь дворянка времен Алексея Михайловича. Как отметил историк Владимир Михневич, императрица “у себя дома, в своих привычках, наклонностях, даже в образе мыслей и предрассудках, целую жизнь оставалась совершенно русской женщиной… от вкуса к национальному русскому костюму и простонародным хороводам до пристрастия к чесанию пяток и слушанием сказок на сон грядущий”.
Между тем, период царствования Анны многие называют временем всевластия инородцев. Процитируем Василия Ключевского: “Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении… Бирон с креатурами своими… ходил крадучись, как тать, позади престола”.
Действительно, в окружении монархини было немало немцев, на которых она опиралась – Эрнест Иоганн Бирон, граф Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) Остерман, граф Бухгард Кристоф (Христофор Антонович) Миних, братья Левенвольде. И все же разговоры о “бироновщине” и “немецком засилье” в то время малоосновательны.

Это убедительно показал крупнейший историк Сергей Соловьев, отметивший, что лица, окружавшие Анну (в том числе и немцы), пеклись лишь о собственных интересах, стремясь удержаться на плаву. Единой Германии не существовало, и жители нескольких сотен германских государств не могли составить особой “немецкой партии” в России. Против устоявшегося мнения относительно аннинского режима свидетельствуют многие факты. Военная коллегия, возглавляемая Минихом, назначала русским офицерам то же жалование, что и иноземцам (при Петре I приезжие наемники получали в два раза больше). Если в 1729 году (время “господства русских”, Голицыных и Долгоруких – при Петре II) местного происхождения были 30 из 71 генералов российской службы, то при Анне в 1738 году – 30 из 61 были природными русаками. В 1725 году русским был только один из 15 капитанов военно-морского флота, а при “бироновщине” – уже 13 из 20! Что до репрессий, якобы достигших тогда фантастических масштабов, то известны цифры: две тысячи политических дел и тысяча сосланных в Сибирь за все годы правления императрицы. Это несопоставимо с периодом Петра I, когда погибло 20 % населения. Показательно также, что среди дел, прошедших в те годы через Тайную канцелярию, дела о недовольстве “засильем инородцев”, практически отсутствуют.
Да и вообще, можно ли назвать трагедией привлечение немцев в армию и государственный аппарат России? Вот что сказал по этому поводу Александр Герцен: “В немецких офицерах и чиновниках русское правительство находит именно то, что ему надобно: точность и бесстрашие машины, молчаливость глухонемых, стоицизм послушания при любых обстоятельствах, усидчивость в работе, не знающую усталости. Добавьте к этому известную честность… и как раз столько образования, сколько требует их должность”.
Документы ярко свиде тельс твуют, что во времена “бироновщины” к национальному фольклору, зрелищам, представлениям, играм при Дворе относились со всей серьезностью и заинтересованностью. С самых первых лет царствования монархиня приглашает к себе балагуров, затейников, рассказчиков и рассказчиц и, прежде всего, певчих. Покровительство иноземцам не отвлекает ее от пристального внимания к народным песням, сказаниям, преданиям, суевериям, костюмам, невзирая на их социальную принадлежность. Не случайно исследователи говорят, что в эпоху Анны произошел органичный синтез “восточного” и “западного”, совершилась подлинная ассимиляция новых веяний. И веяния сии скрестились, смешались с исконно русским, образовав новые и неразрывные социокультурные соединения.
Смешение “варварского”, низменного и галантного, изысканного обнаружилось в подборе шутов и шутих для двора монархини. Если при Петре I шутам поручалось высмеивать предрассудки, невежество, глупость (они могли сказать в лицо правду, назвать вора – вором, подчас обнажали тайные пороки придворных лиц), то при Анне шуты были просто бесправными забавниками, которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться политики. Теперь вся шутовская “кувыр-коллегия” подчеркивала царственный сан своей хозяйки. Ведь чудаки выискивались из титулованных фамилий (князья Михаил Голицын и Никита Волконский, граф Алексей Апраксин), а также среди иностранцев (Пьетро Мира (Адамка Педрилло)), Ян (Петр Дорофеевич) Лакоста), что придавало этому пристрастию Анны вполне европеизированный вид. При этом самые дикие и отчаянные выходки придворных дураков и дур соседствовали с галантно-изощренными проделками шутов-поэтов. Кристоф Герман Манштейн писал: “Обыкновенно шуты сии сначала притворялись ссорищимися, потому приступали к брани; наконец, желая лучше увеселить зрителей, порядочным образом дрались между собою”. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, умирали со смеху.
А увлечение Анны охотой сравнимо с привычками не только ее европейских собратьев Габсбургов и Бурбонов, но и ее деда царя Алексея Михайловича. В ее распоряжении был огромный зверинец, а в покоях всегда лежали наготове заряженные ружья, чтобы монархиня в любой момент могла утолить нестерпимую жажду крови – стреляла она подчас прямо из окон дворца. У нее была богатейшая псарня – один только князь Антиох Кантемир прислал ей из Лондона 34 бассета, 63 биглей и терьеров.
Некоторые историки утверждают, что страсть к роскоши вспыхнула у Анны неожиданно, во время ее пребывания в Курляндии (то есть после сближения с Бироном в 1727 года). Думается, однако, что к этому привели ее гены и логика всей ее жизни, в которой влияние Бирона было лишь одним из многих факторов. Достаточно сказать, что мать Анны, царица Прасковья Федоровна, также отличалась любовью к роскоши. При ней одних только стольников было 263 человека; а многочисленная челядь из нищих богомолов и калек (Петр I назвал ее в сердцах: “гошпиталь уродов, ханжей и пустословов”), одетая из рук вон плохо, особенно ярко подчеркивали роскошь нарядов царицы и ее ближнего круга.
В роскоши прошли годы младенчества Анны. Она, как и другие царевны, появилась на свет в Крестовой палате Московского Кремля, которая по традиции убиралась с особым великолепием. Первое, что можно было там увидеть, отмечает историк Евгений Анисимов, – “дивный свет красок, цветное буйство настенных росписей, блеск золота и серебра церковных окладов, красота ковра “золотого кызылбашского” (то есть персидского), разноцветие уборов боярынь и мамок”.
И в родительском дворце царевны (только на его содержание выделялось ежегодно более 24,5 тысяч рублей), и в новой русской столице – Петербурге, куда семейство Прасковьи Федоровны переехало в 1708 году по настоянию Петра I, – везде Анна была окружена богатством. Особенно замечательными в этом отношении были грандиозные по своей помпезности торжества по случаю ее бракосочетания с герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом в ноябре 1710 года (это был династический брак, совершенный по конъюнктурам Петра). Празднество проходило в роскошном дворце Александра Меншикова, куда гости прибыли по Неве на 40 шлюпках по особо установленному церемониалу. Венец над невестой держал светлейший князь, а над женихом – сам царь Петр, который исполнял роль свадебного маршала. И звенели заздравные чаши, и гремели пушки после каждого тоста, и горели над фейерверками слова, обращенные к молодым супругам: “Любовь соединяет”. В зал внесли тогда два огромных пирога, из которых, когда их взрезали, выскочили карлицы во французском одеянии и с высокой прической (ох, уж эти моды!). Одна из них произнесла приветственную речь в стихах, а затем обе прямо на столе весьма изящно протанцевали менуэт. Роскошно экипирована была и свадьба карликов, которая была организована Петром также в честь новобрачных. Но более всего поражало убранство невесты – Анна была в белой бархатной робе, с золотыми городками и длинной мантией из красного бархата, подбитой горностаем; на голове красовалась величественная царская корона.
И после скоропостижной, от перепоя, кончины в январе 1711 года молодого мужа (не с тех ли пор она не терпела пьяных?) тяга к роскоши не оставляла Анну. Она забрасывала Петербург письмами, вопия о скудости материальных средств.
Среди адресатов были Петр и Меншиков с его домочадцами, и влиятельный вице-канцлер Остерман. Но более всего одолевала она просьбами свою “матушку-тетушку” царицу Екатерину Алексеевну. Вот, к примеру, что писала ей Анна 4 июля 1719 года: “…Исволили вы, мой свет, приказовать ко мне: нет ли нужды мне в чом здесь? Вам, матушка моя, извесна, што у меня ничево нет, краме што с воли вашей выписаны штофы; а ежели к чему случай позавет, и я не имею нарочетых алмазов, ни кружев, ни полотен, ни платья нарочетова: и в том ко мне исволте учинить, матушка моя, по высокай своей миласти из здешных пошленых денек; а деревенскими доходами насилу я магу дом и стол свой в гот содержать”. Анна лукавила: как заметил Сергей Соловьев, на самом деле “в Курляндии жаловались на сильную роскошь, которою отличался двор герцогини-вдовы”. Фридрих Вильгельм Берхгольц зафиксировал, что в 1724 году каждую неделю у нее бывают по два куртага; двор же ее состоит из обер-гофмейстера, трех немецких фрейлин и двух-трех русских дам, их обер-гофмейстера Бестужева, одного шталмейстера, двух камер-юнкеров, одного русского гоф-юнкера и многих нижних придворных служителей. Много это или мало? Если сравнить эту камарилью со свитой Петра, которого обслуживало всего лишь несколько денщиков, то штат герцогини окажется весьма раздутым. Кстати, монарх и дал нагоняй обер-гофмейстеру Петру Бестужеву, повелев ему очистить Курляндский двор от бесполезных “дармоедов”.
Очевидно, именно на Курляндскую роскошь позарился известный петиметр и авантюрист (а впоследствии маршал Франции) Мориц Саксонский, искавший в 1726 году руки Анны. Сын Саксонского курфюрста и короля Польского Августа II, он унаследовал от отца неукротимую страсть к женскому полу и легкомысленный нрав. “Война и любовь, – заметил историк Петр Щербальский, – сделались на всю жизнь его лозунгом, но никогда над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений: то и другое делал он шутя, зато не было хорошенькой женщины, в которою бы он не влюбился бы мимоходом”. Этот галантный повеса, скитавшийся по европейским дворам, сумел тогда обаять не только Курляндское шляхетство, но и вдовую герцогиню. “Она весьма желала вступления в брак с Морицем… – сообщил мемуарист Василий Нащокин. – Вдовствующая герцогиня, призвав к себе Меншикова, умоляла его с великою слезною просьбою, чтобы он исходатайствовал у Императрицы утверждение Морица герцогом и согласие на вступление ей с ним в супружество”. И хотя этим ее планам не суждено было исполниться, важен сам выбор Анны – она не на шутку увлеклась истым щеголем. И в этом, надо полагать, также обнаруживается ее природная склонность к роскоши и щегольству (эти понятия нередко отождествлялись тогда). Впоследствии она – сама, с общепринятой точки зрения, сама погрязшая в грехе сожительства с чужим мужем – будет сурово судить всякие вольности и несанкционированные амуры. А потому, поощряя щегольство во внешнем облике и быту подданных, она станет гневно порицать такие свойственные франтам черты, как похвальба числом плененных женских сердец, способность “говорить о своей любви как можно больше, а любить как можно меньше”.
Замечательно, что став самодержавной императрицей, Анна примеряла на себя роль верховной свекрови-тещи, всероссийской крестной матери. Особенно любила она быть свахой, женить своих подданных. И разве мыслимо было перечить такой августейшей поручительнице? Монархиня проявляла трогательную заботу о влюбленных, соединяя сердца бедных и беззащитных, которые, как некогда она сама, не смогли устроить свою судьбу. В письме Салтыкову в 1733 году она пеклась об участи двух бедных дворянских девушек, “из которых одну полюбил Иван Иванович Матюшкин и просит меня, чтоб ему на ней жениться, но оне очень бедны, токмо собою недурны и неглупы”. Анна настаивала: “ Призови его отца и мать и спроси, хотят ли они его женить и дадут ли ему позволение, чтоб из помянутых одну, которая ему люба, взять, буде же заупрямятся”. В январе 1734 года императрица не без удовлетворения отписала Салтыкову, что Матюшкин благополучно женился и что “свадьба изрядная была в моем доме”, то есть государыня устроила бедной паре свадебный пир в своем Зимнем дворце. С подлинно русской широтой жаловала Анна и молодоженов-иноземцев. Когда сын фельдмаршала Миниха Иоганн Эрнст женился на Бине Мегден, монархиня дала за ней приданое 4 тысячи рублей, изрядное имение, серебряное подвенечное платье, два отреза парчи, а также тысячу рублей на белье и кружева.
Принципиально новым в царствование Анны было то, что при ней щегольство стало именно насаждаться сверху. “Императрица Анна Иоанновна сильно развила страсть к роскоши у своих подданных;” – заметил историк-популяризатор Михаил Пыляев. – “В ее время было запрещено даже два раза являться ко двору в одном платье”. Говорили, что придворный, который тратил в год менее 3000 рублей на свой гардероб, не мог еще похвастаться своим щегольством, а потому многие разорялись.
При Анне явилась мода как феномен российской культуры (это слово вошло в наш обиход в Петровскую эпоху, но впервые фиксируется в “Немецко-латинском и русском лексконе…” (Спб., 1731) Эренрейха Вейсмана. Механизм моды, связанный с принципом новизны в культуре, работал в самых различных областях: литературе, музыке, быту, одежде, прическах. И сколько разорительных хлопот доставляло сие явление моды! Грациозно сидеть, стоять, умело тряхнуть своими надушенными локонами, надлежащим образом болеть, спать, говорить и любить было ой как непросто! Вместо простой мебели стала употребляться английская, красного дерева;
увеличились размеры домов, владельцы которых теперь бахвалились множеством комнат; при этом считалось неприличным иметь покои без модных (как правило, сделанных из дорогого штофа) обоев. Поражало и обилие “венецейских” зеркал. Появились и великолепные экипажи – богатые позолоченные кареты с точеными стеклами, обитые бархатом с золотыми и серебряными бахрамами, лучшие и дорогие лошади, тяжелые позолоченные шоры, кучеры и гайдуки в богатых ливреях.
Модными должны были быть не только материи и покрой костюмов, но даже их цвета. Императрица обожала наряжаться, предпочитая всегда яркие, “попугайные” краски (недаром она так любила этих птиц!). Бирон же, в отличие от нее, обожал нежно-пастельные тона и ходил в испещренных женских штофах. Тон в подборе цветов придворных уборов задавала сама монархиня. “Санкт-Петербургские ведомости” 19 августа 1734 года сообщали: “Весь придворный стат следовал за Ея Императорским Величеством в разноцветном богатом платье. Оное состоит из кафтанов лосинаго цвету да из зеленых камзолов, которые позументами богато укладены, а дамское платье зделано Амазонским обыкновением”. Еще одно свидетельство из столицы от 1 сентября 1735 года: “Платье Кавалеров, которое они в сей день впервые надели, состоит в голубых кафтанах с понсовою подкладкою и в понсовых камзолах, золотым позументом укладенных, а шляпы с красным пером”. А 14 июля 1737 года высочайше повелевалось, что “нынешнее принято при дворе летнее платье будет состоять в красном кафтане и зеленом камзоле с серебряным позументом”. И не указ были Анне европейские законодатели мод с их щегольскими правилами, о которых писал Антиох Кантемир: “чтоб красный цвет… не употреблять тем, коим 20 лет минули; чтоб не носить летом… в городе зеленый кафтан, понеже зеленый цвет только в поле приличен”. При русском Дворе даже седые старики наряжались в “попугайные” цвета. Даже такие престарелые мужи, как Алексей Черкасский и Андрей Остерман являлись во дворец в платье нежно-розового цвета, ибо знали, что явиться в черной одежде означало обречь себя на немилость и плохой прием.
Ревностным сторонником ярких цветов был обер-гофмаршал Двора Рейнгольд Густав Левенвольде, которого называют истинным законодателем мод того времени. Он настаивал на том, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом. И золотые украшения носили не только придворные. Вся гвардия щеголяла синими мундирами с красными обшлагами, выкладенными петлями и по швам золотым галуном. Учащимся Кадетского корпуса было предписано носить зеленый мундир с опущенным воротником, отороченным золотой тесьмой; к этому присовокуплялась шляпа с золотым кружевом, едва покрывавшая высокий напудренный тупей. Похожая мода навязывалась даже иностранным дипломатам, которых буквально заставляли одеваться так, как того хотели Анна и Левенвольде.
Едва ли правомерно расхожее мнение, впервые смутно высказанное Кристофом Германом Манштейном, будто бы Бирон, “большой охотник до роскоши и великолепия”, внушил императрице желание жить в пышности и тем самым привел русское дворянство к обнищанию. Уж если быть точными, за излишнюю расточительность можно корить скорее Анну и Левенвольде, а не Бирона, ставшего впоследствии ярым противником роскоши (он повелел шить платье из ткани не дороже 4 рублей за аршин). Сама посылка о некоем злокозненном фаворите-инородце, презирающем русских, а потому сознательно и систематически их разоряющем, представляется весьма спорной. Тем паче, что гораздо больше, нежели в аннинскую эпоху, русское дворянство разорялось стараниями “веселой царицы” Елизаветы, чьи приемы, маскарады, бешеные траты на переодевания стали легендой. В сравнении с ее лукулловыми пирами празднества времен “бироновщины” были, по едкому замечанию историка Евгения Анисимова, “вечеринками трезвенников и постников”.
В самом деле, такой ли транжиркой была Анна Иоанновна? Прислушаемся к голосу современника. Граф Иоганн Эрнст Миних утверждал: “Хотя в правление ее пышность в строениях, домашних уборах, экипажах и одеждах несравненно превосходила великолепие всех предыдущих государей, однако при всем том расходы ее никогда не превышали обыкновенных доходов Двора, но еще некоторая сумма оставалась в запасе”. Историки, предпочитающие говорить о непомерной истощившей казну роскоши этой императрицы, забывают о цифрах. Согласно финансовому отчету за 1734 год, из общего бюджета в 7,792,285 рублей на армию было израсходовано 83,5 %, а на содержание двора – всего 5,2 % (в 1744 году Елизавета Петровна истратила на двор 6 % бюджета). Добавим к этому, что в 1735–1740 годах расходы на Двор еще более сократились в связи с русско-турецкой войной и экспедицией Витуса Беринга, стоившей государству 500 тысяч рублей.
Так выглядели дворцовые издержки Анны в масштабах государства. Тем не менее современники-придворные ощущали на себе навязываемую сверху пышность и относились к ней по-разному. Так, фельдмаршал Бурхгард Кристоф Миних был галломаном и подражателем французского политеса. Роскошь убора, а также легкость общения и светскость странным образом уживались в нем с военной выправкой и сдержанностью. Всю свою жизнь он тщился следовать парижским модам, впрочем, не всегда удачно.
Диссонансом по отношению к богатому платью придворных выглядела одежда вице-канцлера Андрея Остермана. Она была не только не модна, но до того неопрятна и засалена, что вызывала общее отвращение. Покои его дома были плохо мебелированы, а слуги ходили в отрепьях; серебряная посуда до того грязна, что походила на свинцовую. Трудно было поверить, что этот непрезентабельного вида господин в течение многих лет фактически руководил всей внешней политикой огромной империи.
До нас дошел и своеобразный протест против роскоши Двора Анны. Речь идет о так называемом “деле” графа Александра Румянцева. При Петре II этот видный сподвижник Петра Великого, когда-то сумевший вместе с Петром Толстым заманить в Россию царевича Алексея, был лишен своих угодий. Анна Иоанновна, рассчитывая на неудовольствие Румянцева прежним царствованием и желая приобрести верного друга в любимце своего великого дяди, приняла его необыкновенно любезно: сделала сенатором, подполковником гвардии, пожаловала 20 тысячами рублей и, наконец, предложила синекуру – место президента Камер-коллегии. Должность была ключевая, дававшая контроль над многими государственными доходами – казенными подрядами, откупами, продажей казенных товаров, таможенными сборами и так далее. В ответ Румянцев с петровской прямотой заявил, что не умеет искать деньги для оплаты вошедшей в моду при Дворе роскоши и поименно назвал всех, с его точки зрения, повинных в ней вельмож из ближайшего окружения Анны. Кроме того, он нещадно отлупцевал повздорившего с ним брата Бирона. Императрица отдала Румянцева под суд Сената, который приговорил его к смерти. Анна Иоанновна заменила казнь ссылкой в алатырскую глушь, где семья правдолюбца провела четыре года под строгим “смотрением”. Только в 1735 монархиня сменила гнев на милость, вернула старика из ссылки, назначила Казанским губернатором, в 1738 году – правителем Малороссии, а затем, в 1740 году – чрезвычайным и полномочным послом России в Константинополе.

Очевидно, эпизод с Румянцевым не прошел для Двора бесследно. В конце концов, указал князь Михаил Щербатов, “самою Императрицею Анною примечено было излишнее великолепие, и изданным указом запрещено было ношение золота и серебра на платье, а только позволено было старое доносить… Но тщетное указание, когда сам двор в роскошь сей впал”.
Апофеозом роскоши и щегольства царствования Анны явились празднества по случаю бракосочетания родовитого шута князя Михаила Голицына и шутихи-калмычки Авдотьи Бужениновой, вошедшие в историю как свадьба в Ледяном доме. У этой “забавной свадьбы” имелась хорошо известная современникам религиозно-нравоучительная “подкладка”. Дело в том, что жених, князь Голицын, проявил непростительное отступничество – будучи за границей, он принял католичество и женился на итальянке. Вернувшись в Москву, он поселил жену в Немецкой слободе и пытался скрыть свой брак. Но проведавшая об этом государыня взяла князя к себе “под присмотр” в придворные шуты, а его женой-итальянкой занялась Тайная канцелярия (после чего та сгинула). Вернув Голицына в лоно родной церкви, императрица решила женить на своей шутихе (тоже обращенной в православие). Таким образом, утверждалась незыблемость православия, на которое опиралась монархиня (заметим в скобках, что при ней за богохульство карали смертной казнью).
Зимой 1739–1740 годов решено было построить на Неве дом изо льда и обвенчать в нем шута и шутиху. Лед разрезали на большие плиты, клали их одну на другую, поливали водой, которая тотчас же замерзала, накрепко спаивая плиты. Фасад собранного здания был 16 метров в длину, 5 – в ширину и столько же в высоту. Кругом крыши тянулась галерея, украшенная столбами и статуями. Крыльцо с резным фронтоном разделяло дом на две половины – в каждой по две комнаты (свет попадал туда через окна со стеклами из тончайшего льда). В покоях же Ледяного дома находились два зеркала, туалетный стол, несколько подсвечников, двуспальная кровать, табурет, камин с ледяными дровами, резной поставец, в котором стояла ледяная посуда – стаканы, рюмки, блюда. Перед зданием были выставлены шесть ледяных пушек и две мортиры, из которых не один раз стреляли. У ворот (тоже изо льда) красовались два ледяных дельфина, выбрасывающие из челюстей с помощью насосов огонь из зажженной нефти. По правую руку дома стоял в натуральную величину ледяной слон с ледяным персиянином. По словам очевидца, “сей слон внутри был пуст и столь хитро сделан, что… ночью, к великому удивлению, горящую нефть выбрасывал”.

Молодых посадили в железную клетку на слона, за которым следовал свадебный поезд из 150 пар, представителей народов бескрайней России. Все они были одеты в национальные костюмы, причем не в обиходные, а в парадные. Пары ехали на санях в форме экзотических рыб и птиц, управляемых оленями, свиньями, собаками, волами, кабанами, козами. Каждую пару потчевали ее национальной пищей, а они, в свою очередь, плясали свои туземные пляски.
Писатели нередко изображали неподдельное удивление монархини, когда она якобы вдруг узнала (от устроителя празднества Артемия Волынского), что ее империю населяют столько народов с “особливыми” костюмами и обычаями. Скажем, Юрий Нагибин в повести “Шуты императрицы“ писал: “Анна Иоанновна была потрясена. Впервые ее сонную, отзывающуюся лишь одному человеку да пустому баловству душу прожгло сознание, какой великой, необъятной страны поставлена она правительницей… Волынский почтительно и уверенно, как подобает государственному деятелю, все знающему о народной жизни, сообщал Анне Иоанновне краткие, но исчерпывающие сведения о всех “разноязычных и разночинных поезжанах”. Анна Иоанновна только охала:
– Надо же и такие водятся!..
– Неужто все мои подданные? Ох, утешил и распотешил!”.
Императрица предстает здесь правительницей, совершенно огражденной от жизни своей страны, но с этим нельзя согласиться. На самом деле Анна при ее любви к фольклору, была вполне осведомлена о жизни подданных. Ведь это под ее патронажем учеными Петербургской Академии наук (вот уж где было немецкое засилье!) был осуществлен целый ряд научно-этнографических экспедиций в отдаленнейшие углы России, результатом чего явились образцы, а также рисунки и наброски национального платья. Они были зафиксированы в многочисленных “Описаниях” и “Записках”, а некоторые хранились непосредственно в Академии и Кунсткамере. Сохранилась корреспонденция Канцелярии Академии наук за ноябрь-декабрь 1739 года, из которой следует, что академикам было высочайше повелено “подлинное известие учинить о… народех, подданных Ея Императорскому Величеству… сколько оных всех есть… и как их владельцы назывались со описанием платья, в чем ходят, на чем и на каких скотах ездят, и что здесь в натуре есть платья… Например: мордва, чуваша, черемиса, вотяки, тунгусы, якуты, чапчадалы, отяки, мунгалы, башкирцы, кингисы, лопани, арапы белыя и черныя, и протчия, какие есть подданныя российския народи”. Именно Анна “повелела губернаторам всех провинций прислать в Петербург по несколько человек обоего пола. Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на иждивении ее Двора каждый в платье своей родины”.

Интерес к народному костюму в царствование Анны был явлением принципиально новым. Ведь Петр I такое платье воспринимал как раздражающий символ старины, и тогда оно служило либо объектом насмешек, либо средством наказания.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.