Текст книги "Тайна института"
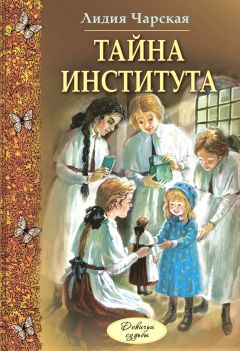
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Глава XVII
Каким пустынным и скучным кажется этот бесконечный коридор после веселого оживления, господствовавшего в квартире начальницы! Какая гнетущая – после дивного, чарующего пения Неточки – гробовая тишина!
На лестнице, к которой медленно подходит Ника, царит полутьма. Вот и площадка, на которой ее на Рождество поджидала Сказка и где она тогда чуть ли не до обморока испугалась. Бедная Заря! Какой пустой и скучной кажется она теперь Нике. Это глупое, смешное взаимное «обожание» в конце концов так надоедает. А дружба их как-то не клеится, видимо, трудно дружить с девочкой из другого класса. Но все равно – теперь скоро выпуск. Недолго уже осталось. Сразу после Пасхи начнутся экзамены, а потом тридцать пять юных институток, как птицы, вылетят на свободу. И она, Ника, в числе этих счастливиц. И улетит она на свою милую маньчжурскую границу, в страну сопок и гаоляна, в страну загадочного Востока, где Нику ждет не дождется родная семья. Улетит туда Ника, а доктор Дмитрий Львович останется здесь. Они будут переписываться, общаться друг с другом на расстоянии многих тысяч верст… А потом?.. Сердце замирает в груди Ники, лицо ее вспыхивает румянцем. А потом он приедет. Они обвенчаются, и она, Ника, будет счастлива, как могут быть счастливы люди только в сказках…
Ника так погружена в свои мысли, что не замечает, как какая-то темная тень все время скользит за ней, придерживаясь неосвещенных углов коридора. Девушка приближается к знакомой двери и стучит в нее условным стуком – три раза подряд.
– Отворите, Ефим, это я! – шепчет у двери Ника.
Темная фигура замерла на минуту, спрятавшись за широкую колонну лестницы.
Веселой птичкой Ника впорхнула в сторожку.
– Тайна! Тайночка! Таиточка! Смотри-ка, что я тебе принесла, – и девушка с лукавым смехом прячет за спиной грушу.
– Бабуська Ника плисля! – радостно вскрикивает Глаша и, мгновенно забыв о пестрых кубиках, из которых только что собиралась построить какое-то удивительное здание, с широко расставленными для объятий ручонками спешит навстречу своей любимице.
Но прежде чем заняться девочкой, Ника передает Ефиму, отложившему в минуту ее появления газету, новость, которая, она твердо знает, успокоит старика.
– Завтра же, завтра, Ефим, кончатся наши муки, и наша маленькая Глаша будет, как у Христа за пазухой, в квартире брата Зои Львовны – пока наш барон не пристроит ее в приют.
К полному изумлению Ники, Ефим вовсе не радуется ее сообщению. Веки его предательски краснеют, и он что-то подозрительно долго сморкается в клетчатый платок.
– Ах ты Господи Боже мой, как же так неожиданно, сразу? Предупредили бы заранее, барышня. Привык ведь я, ровно к родной внучке, к проказнице этой, – уныло говорит старик.
– Да кто вам мешает навещать ее? Хоть каждую неделю будете ходить, – успокаивает его Ника.
– Каждую неделю – не каждый день, – переживает Ефим.
Бедный старик! Он действительно, как к родной внучке, привык к этой белобрысой девочке, то проказливой и шаловливой, то бесконечно ласковой, способной целыми часами просиживать подле него с куклой, пока он, Ефим, решает «политические вопросы» за своей газетой. И с этой самой черноглазенькой Глашуткой ему теперь придется расстаться!
– Вот тебе, на, получай! – Ника подхватывает Глашу на руки и протягивает девочке грушу.
– Глуса! Глуса! – радуется малютка и острыми, как у белочки, зубками откусывает кусок сочного и вкусного плода.
– А ты французские фразы выучила, Тайночка?
Глаша смотрит на свою юную «бабушку» и смущенно моргает.
– Ну так давай вместе учить.
И, пристроив девочку у себя на коленях, Ника начинает ее учить французскому языку весьма оригинальным способом.
– Ну, запоминай хорошенько. Je vous prie – ты мне не ври. Je vous aime – я тебя съем… Merci beaucoup[43]43
Я вас прошу… Я вас люблю… Большое спасибо (франц.).
[Закрыть] – у меня колет в боку… Видишь, как легко запомнить! Повтори.
– Я тебя съем, – повторяет Глаша и заливисто смеется. Смеется за ней и Ника.
Вдруг перед ними появляется бледное, искаженное ужасом лицо Ефима:
– Барышня, миленькая, стучат…
«Стучат» – вот оно, страшное слово! Это «стучат» полно рокового значения. Если стучат, значит, выследили, значит, узнали, в чем дело, значит, все пропало… И как бы в подтверждение этих мыслей, вихрем пронесшихся в кудрявой каштановой головке, по ту сторону двери слышится знакомый, слишком хорошо знакомый Нике голос:
– Отворите сейчас же, или я позову швейцара и прикажу выломать дверь.
– Скифка! Все погибло!.. – прошептала побледневшая девушка.
Она беспомощно обвела глазами комнату. Вот постель… Не годится… Шкаф, в нем полки, – тоже не годится… А сундук? Вот, это хорошо…
– Тайночка, милая, – Ника бросается к перепуганной девочке, – не плачь и не кричи. Сиди и молчи, моя дорогая, что бы ни случилось. А то очень худо будет твоей бабушке Нике, если сердитая чужая тетя узнает, что ты здесь!

И, схватив в охапку Глашу и исступленно целуя ее, она бежит к сундуку и дрожащими руками приподнимает крышку.
Слава Богу, он пуст, на дне – только несколько пачек газет.
Белобрысая головка мгновенно исчезает в глубине сундука; крышка захлопнута, ключ повернут в замке и спрятан в кармане Ники.
– Вы отворите мне или нет? – слышится уже окончательно рассвирепевший голос за дверью.
Как ни в чем не бывало, спокойная, но без кровинки в лице, Ника медленно идет к двери и отодвигает задвижку.
Точно пуля, врывается в каморку Августа Христиановна. Ее лицо пышет жаром, глаза прыгают, губы дрожат.
– Ага! Так я и знала! Опять вы здесь? Ага! Что вы делали? Впрочем, я знаю, что вы делали. Можете не отвечать. Я все видела. Я все знаю! Бунт? Заговор? Я давно слежу!.. Пишете записочки… Шепчетесь. О какой-то тайне говорите… И сюда ходите, чтобы читать запрещенные книжки!.. Знаю я вас… Книжки здесь прячете у Ефима… Недаром он все газеты читает… Сторож не должен читать газет. Он – бывший солдат, а он газеты, изволите ли видеть, читает, политикой занимается… Заодно с вами со всеми. Что? Нет? Как ты смеешь говорить «нет», когда я говорю «да»?
Скифка буквально задохнулась от возмущения. Схватив Нику за руку, она дергает ее изо всей силы и кричит в самое ухо девушки:
– Куда ты спрятала книги, брошюры, запрещенную литературу? Куда, говори сейчас же! Говори!
И так как Ника стоит молча, как статуя, Августа Христиановна вне себя мечется по сторожке, заглядывая в каждый уголок, в шкаф, за ситцевую занавеску, даже под кровать. Вдруг она видит большой сундук, запертый на замок. На мгновенье глаза ее останавливаются на бледном, но спокойном лице Ники, и улыбка злорадного торжества проползает по тонким губам.
– Ага! Вот оно что! Вот куда ты прячешь запретные книги и брошюры! Понимаю… Сейчас же дай сюда ключ или я прикажу выломать замок!
– Барышня, Августа Христиановна, пожалейте себя, не волнуйтесь… – лепечет, выступая вперед, взволнованный не менее самой Скифки Ефим. – Никакого бунта нет, никакого заговора, никаких книжек. Верьте моему слову, барышня. Неужто ж я бы заговор какой покрывать стал. Я моему царю и отечеству верный слуга!
– Сейчас же открой сундук! – не слушая его, Скифка продолжает наступать на Нику. – Я знаю, что ключ у тебя.
Бледная, подавленная, с упрямо сжатыми губами, с решительной складкой на лбу, девушка по-прежнему молчит. И тяжелым взглядом затравленного зверька смотрит в лицо Скифки.
«Что хотите, делайте со мной, но ключа я не отдам», – как будто без слов говорит этот угрюмый, твердый взгляд.
– Не отдашь? – неожиданно громко взвизгивает фрейлейн Брунс, – в таком случае, если не мне, то ты передашь этот злосчастный ключ непосредственно в руки инспектрисы! – И, схватив Нику за руку, Августа Христиановна насильно тащит ее из сторожки.
Не помнит Ника, как минует длинную лестницу и вместе со своей мучительницей поднимается на второй этаж. Видит, как во сне, длинный классный коридор, комнату инспектрисы, лицемерно-сочувственное лицо Капитоши и самую Юлию Павловну в пестром турецком капоте, сидящую за чайным столом с большой чашкой в руках.
– Что такое? Августа Христиановна, почему вы так взволнованны? Баян, вы опять напроказничали, должно быть, – скрипит голос прервавшей чаепитие Ханжи.
Скифка не дает ей опомниться и ураганом обрушивается на виновницу происшествия и ее отсутствующих подруг. Снова слышатся ее отчаянные выкрики о бунте, о заговоре, о запрещенных книжках, спрятанных в сундуке, о неблагонадежности Ефима, о политической тайне, о ключе, который ей не желают отдать… Она захлебывается, задыхается, не находит слов… Глаза ее прыгают и мечутся еще сильнее. Губы трясутся, побелев от гнева… Руки дрожат…
Инспектрисе передается ее волнение. Она встает, бледная, трепещущая, и грозно произносит:
– Это ужасно! Ужасно! Бунт, заговор в институте! Политические тайны!.. О, Боже мой, до чего мы дошли. И вы, Баян, вы, дочь своего отца, честного офицера? Вы, которая… На колени сейчас же!.. Каяться и молиться! Господь наш небесный милостив и долготерпелив. Он простит вас, если вы назовете ваших сообщниц, если покажете спрятанные вами книги, если…
На минуту инспектриса замолкает, захлестнутая гневом, потом продолжает свою обличительную речь. И говорит, говорит, говорит…
А Ника в это время с тоской думает, что уже больше получаса прошло с той минуты, как она спрятала Глашу в сундук, и что, наверное, бедной девочке там неуютно и страшно…
Между тем «нотация» госпожи Гандуриной все длится, длится…
Наконец она решительно поднимается со своего места и, приказав Нике следовать за ней и жестом пригласив Августу Христиановну, идет, торжествующая и гордая, в злополучную сторожку…
На пороге с низким поклоном ее встречает Ефим. Но Юлия Павловна как будто его и не замечает.
– Вы сейчас же дадите мне ключ, – оборачиваясь к Нике, командует инспектриса.
Последняя стоит на пороге сторожки, белее своего передника, вся обратившаяся в слух. Что это, послышалось ей, что ли? Как будто легкий стон доносится до ее ушей… Точно, он исходит из сундука, это стон спрятанной там Глаши!..
– Неужели?! Неужели…
Мертвенная бледность покрывает и без того бескровное личико Ники. Не помня себя, кидается она к сундуку… Проворно вынимает ключ из кармана и трясущимися руками вставляет его в отверстие замка. Долго не повинуются ей дрожащие пальцы. Ужас сковывает душу. Сейчас только она начинает понимать, какая страшная опасность грозит маленькой девочке, пробывшей так долго в душном, как гроб, сундуке.
Наконец-то! Повернув ключ в замке и приоткрыв крышку, Ника оборачивается назад и говорит сдавленным от волнения голосом, обращаясь к обеим наставницам:
– Сейчас вы убедитесь, mesdemoiselles, что никакого бунта или заговора здесь и в помине не было, что мы ни в чем не виноваты, если не считать виной наше общее желание приютить бедную сиротку.
С этими словами она поднимает крышку. В тот же миг душераздирающий крик срывается с губ Ники и несется по нижним и верхним коридорам, заполняя собой все углы огромного мрачного здания, а Ника без чувств валится на руки подоспевшей Скифки.
Много дней потом и фрейлейн Брунс, и госпожа Гандурина слышали этот крик безнадежного отчаяния и видели перед собой искаженное ужасом лицо девушки…
Не помня себя, кинулись они к сундуку и заглянули внутрь. Заглянули – и тотчас же отпрянули, как ужаленные. Помертвевшее, искаженное судорогой невероятных страданий маленькое личико глянуло на них оттуда закатившимися под лоб неживыми глазами.
– Маленький труп! Мертвая девочка! – с удивлением и ужасом вырвалось у обеих женщин.
Между тем крик Ники был услышан Зоей Львовной и ее гостями в квартире начальницы. Услышали его и два новых лица, присоединившиеся к собранию. То были вернувшаяся домой начальница и приехавший с ней высокий статный старик с седой гривой курчавых волос, благородным лицом и совершенно белыми усами. Все они кинулись из квартиры генеральши по нижнему коридору на церковную лестницу, откуда, как им показалось, слышался крик. Суматоха и голоса в сторожке подле «мертвецкой» привлекли их внимание. Maman первой заглянула туда.
Взволнованная инспектриса, потерявшаяся классная дама, смущенный, испуганный Ефим, держащий на руках неподвижную малютку, и без чувств лежащая посреди комнаты Ника – вот какое зрелище представилось глазам нечаянных посетителей сторожки.
– Что же это такое? Да что же это? – полным отчаяния голосом воскликнула Мария Александровна.
Барон Гольдер, седой старик с львиной гривой, окинул взглядом комнату. Увидев открытый сундук, встревоженные лица и посиневшее маленькое тельце на руках сторожа, он сразу все понял…
Только вчера поздней ночью он вернулся из-за границы, прочел письмо институток, был очень польщен их доверием и тогда же решил непременно помочь им, причем как можно скорее.
– Я сейчас вам все объясню, ваше превосходительство, – сказал он взволнованной и встревоженной начальнице. – Я знаю всю историю и виноват в ней больше, чем кто-либо другой. Но прежде чем каяться в своей вине, я попрошу доктора, – обратился он к вошедшему в эту минуту Дмитрию Львовичу, – немедленно заняться малюткой и этой барышней. Может быть…
Он не успел договорить, как молодой врач уже оказался подле Глаши. Положив бездыханную девочку на постель, он долго выслушивал ее, ловя хотя бы слабые признаки жизни в этом, казалось, уже погибшем маленьком существе.
С затаенным волнением, испуганная насмерть, следила за ним группа институток, в нерешительности столпившихся на пороге.
Наконец Дмитрий Львович оторвался от распластанного перед ним безжизненного тельца и произнес:
– Подушку с кислородом сюда… Жизнь еще теплится, хотя слабо… Надо во что бы то ни стало вызвать дыхание.
Кто-то из гостей кинулся в лазарет исполнять его поручение… Кто-то бросился приводить в чувство Нику…
Последняя долго не могла прийти в себя. Наконец огромные карие глаза девушки раскрылись, и она закричала, сотрясаясь от слез:
– Я убила ее!.. Это я ее убийца!.. Она задохнулась из-за меня!..
– Она жива, успокойтесь, ради Бога. Она жива.
Кто сказал это? Чье это мужественное лицо склонилось над Никой? Чей голос прозвучал с такой уверенностью и силой?
«О, милый, добрый, великодушный друг! Какой тяжкий камень сняли вы с моей души!» – глядя в глаза Дмитрию Львовичу, без слов, одним своим долгим признательным взором отвечала Ника.
Брат Зои Львовны был прав. Кислород и искусственное дыхание вернули к жизни едва не задохнувшуюся Глашу. Краски жизни постепенно возвращались в помертвевшее личико. Сильнее забилось сердце. И маленькая Тайна открыла глаза…
– Бабуська Ника, – произнесла малютка, как только к ней вернулась способность говорить, – бабуська Ника, не сельдись. Я биля тихенькая, сиделя, как миська, и не пакаля совсем в больсом сундуке…
– О, милая крошка! Она точно извиняется за то, что ее чуть не убили, – смеясь и плача, прошептала Ника, бросаясь обнимать свою «внучку».
Когда все немного успокоилось, барон снова заговорил, обращаясь к начальнице, инспектрисе и Августе Христиановне:
– Да, я очень виноват перед вами, mesdames. Я поместил без вашего разрешения здесь, в сторожке, эту маленькую девочку-сиротку и просил моих юных друзей, институток старшего класса, при помощи сторожа Ефима позаботиться о ней, пока обстоятельства не позволят мне устроить ее иначе. Теперь же я похлопочу о приеме девочки в один из образцовых приютов, с начальницей которого я знаком лично. Еще раз прошу извинения за самовольный поступок и прошу винить в нем меня одного.
И барон почтительно склонился к руке maman.
«О, милый, добрый барон! Как досадно, что мы не обратились к нему с нашей просьбой намного раньше!» – мелькнула одна и та же мысль у Ники и ее подруг.
Что оставалось делать Марии Александровне, как не любезно улыбнуться на все эти речи? Инспектриса тоже, не без труда, но сумела изобразить на своих тонких губах подобие улыбки. Лишь только одна Скифка сохраняла кислое выражение лица.
По настоянию Дмитрия Львовича Глашу перенесли в лазарет, в отдельную комнату, и выпускным было разрешено дежурить до ночи у ее постели.
К счастью, печальное происшествие не имело последствий для здоровья девочки. Через несколько недель, щедро наделяемая поцелуями, слезами и подарками, напутствуемая бесчисленными пожеланиями своих «теть», «мам», «пап» и «бабушек», а также дяди Ефима, маленькая «Тайна института» покидала его гостеприимные стены для поступления в приют. Ее родная тетка Стеша не находила слов благодарности для благодетелей малютки – добрых барышень, благородного доктора и великодушного барона.
Судьба Глаши теперь определилась и не оставляла желать ничего лучшего.
Тайна перестала быть тайной и превратилась в обыкновенную маленькую девочку Глашу.
Девочку, родившуюся под счастливой звездой…
Глава XVIII
Наступил тихий, ласковый апрель. Легкими быстрыми шагами подошла красавица-весна с ее зелеными почками, алыми зорями и поздними закатами. Пробудился, проснулся от долгой зимней спячки институтский сад. Еще не покрылись пышной сеткой зелени деревья, еще не распустились цветы, но их ароматное дыхание уже чувствовалось в воздухе.
Целые дни, готовясь к выпускным экзаменам, проводили институтки в саду. Расстилали казенные пледы на сочной молодой травке под деревьями, уже опушенными редкой зеленью, уже предчувствовавшими скорую радость весеннего расцвета.
Кое-где вскрывались уже набухшие почки и носились над ними первые мотыльки. Звонко заливалась иволга, и ее звонкое пение, доносившееся из дальней аллеи, тревожило молодые, чуткие, восприимчивые ко всему прекрасному сердца.
Чудный апрельский вечер. В воздухе витает чарующий нежный аромат весны.
В полуразвалившейся беседке в последней аллее, где постоянно царит такой славный зеленоватый полумрак, идет усиленная подготовка к экзамену по истории. Мрачный историк не знает пощады, и на его экзамене следует знать предмет назубок. Это не то что батюшка, которому Золотая рыбка умудрилась сказать на выпускном экзамене по Закону Божию, что Иоанн Златоуст жил за два века до Рождества Христова. В просторной беседке собралось с книгами в руках несколько человек. Стоят, сбившись в кучку, и, затаив дыхание, следят, как какая-то серенькая пичужка домовито хлопочет, таская в клюве былинки и соломинки для своего будущего гнезда.
– Mesdam’очки, смотрите, смотрите! – и умиленная Шарадзе с оживленным лицом указывает куда-то вдаль.
Там с легким писком носится вторая пичужка.
– Это – муж и жена, – решает армянка, – и через месяц в их гнездышке будут прелестные маленькие птенчики.
– Трогательная идиллия, – смеется Баян.
– Ну, ты уж молчи лучше! – вспыхивает Тамара. – Ужасно заважничала с тех пор как метишь в bellesoeur’ки[44]44
Невестка (франц.).
[Закрыть] к классной даме.
Теперь наступает очередь Ники вспыхнуть. Ах, зачем она рассказала всем об этой светлой странице ее жизни, о своей первой любви к брату Зои Львовны, к этому милому доктору Дмитрию, о том, что дала обещание стать его женой. Но делать нечего: слово не воробей, вылетит – не поймаешь. И она звонко, беззаботно хохочет:
– Смотри, выйду замуж за брата классной дамы, и сама синявкой сделаюсь!
– Вот-вот! Это тебе как раз к лицу!
– Mesdames, слышите, кажется соловей щелкнул.
– Т-с-с… Слушайте, слушайте…
– Нет, для соловья рано еще. А песен хочется. Пусть Неточка споет.
– Спой, спой, Нета, напоследок, – пристают девушки к Спящей красавице.
– А кто за меня войну Алой и Белой Розы выучит? Не вам, мне ведь отвечать, – говорит своим певучим голосом Нета, но тут же, не в силах противиться, начинает:
Ты не пой, соловей, под моим окном,
Ты лети, соловей, к душе-девице…
Словно всколыхнулся и замер старый сад, и притих весенний ветер, не шелестя травой… Бархатные звуки крепли и улетали, как окрыленные, туда, в голубую заоблачную высь. Как сладко мечтается под такое пение! Разгораются юные души, жаждущие любви, подвигов и самоотречения…
– Mesdam’очки, – первой приходя в себя, прошептала Капочка, когда последняя нота романса замерла в воздухе, – как хорошо нынче! Целый мир обняла бы сейчас!
– А провалимся, дорогая моя, завтра на экзамене, так будет наоборот, совсем скверно, – неожиданно вставляет Зина Алферова.
– Mesdames, а я как об истории завтрашней подумаю, так у меня под ложечкой начинает сосать, – проглатывая мятную лепешку, с унылым видом говорит Валя Балкашина.
– Ложку брома, двадцать капель валерьянки, горчичник – и все будет прекрасно, – смеется Золотая рыбка.
– Да, mesdames, сейчас мы сидим здесь в беседке, такие близкие, такие родные, – говорит, любуясь приколотым на ее груди цветком хризантемы, Муся Сокольская, – а через год забудем друг друга, как будто никогда и не были мы вместе, не веселились, не волновались…
– Ну, это ты, положим, сочиняешь, дитя мое. Мы с Мари, например, никогда не расстанемся, – горячо произносит Алеко. – И жить будем вместе, и горе и радость делить пополам.
– Вы счастливицы, – с завистью глядя на подруг, говорит кто-то.
– А я, mesdames, уеду в Австралию. Переоденусь в мужское платье и буду обращать в христианскую веру дикарей, – с блестящими глазами говорит Капочка.
– Не завидую я дикарям, – смеется Золотая рыбка, – ты, Капочка, костлява, как лещ, и вся постным маслом пропиталась. Зажарят они тебя на костре, а есть-то и нечего…
– Я в Тифлис поеду. Верхом скакать стану… Далеко в горы поскачу, – с разгоревшимися щеками объявляет Тамара.
– А загадки загадывать будешь? – Алеко лукаво прищуривает свои цыганские глаза.
– Понятно, буду.
– Лошади?
– Кому?
– Ну, лошади, на которой поскачешь.
– Вот еще. Зачем лошади, когда люди есть.
– А ты, Неточка, на сцену поступишь? С таким голосом грешно хоронить талант.
Прекрасное лицо Козельской вспыхивает.
– Куда ей на сцену! – хохочет Маша Лихачева. – Она выйдет петь, откроет рот – и заснет!
– Неправда, – улыбается Нета, – это раньше так могло быть, а теперь нет… – и глаза недавней Спящей красавицы с мечтательным выражением устремляются куда-то вдаль. Там, наверное, видится ей легкий и стройный силуэт юноши с лицом Сережи Баяна, сумевшего расшевелить ее, до сих пор тихую и сонную, своими пылкими речами, в которых сулил в будущем себе интересную, захватывающую профессию электротехника, а ей – все то, что может дать ее бесспорный талант певицы.
Медленно садилось солнце… Алая вечерняя заря вспыхнула на горизонте и опоясала полнеба…
Заревом заката даль небес объята,
Речка голубая блещет, как в огне,
Нежными цветами убраны богато,
Тучки утопают в ясной вышине,
– декламирует своего любимого Надсона Наташа Браун.
Когда она кончает, все долго молчат. И снова тихо звучит нежный, печальный голос невесты Надсона.
– А я, mesdames, уеду к себе на родину, в Саратов… Буду продолжать копить деньги на памятник «ему». Вот поставлю памятник, украшу венками и буду каждый день ходить туда, свежие цветы менять, а зимой – венки из хвои.
– А я в Севилью поеду, – неожиданно вырывается у Галкиной.
– Вот-вот, только тебя там и не хватало! – смеется Шарадзе.
– И не хватало, понятно… Жить буду там, на бой быков ходить, серенады слушать…
– Смотри, прекрасная испанка, за тореадора замуж не выскочи, – смеется Золотая рыбка.
– Тебя не спрошу.
– А Хризантема, mesdames, не права, говоря, что мы разлетимся в разные стороны и забудем друг друга… Ведь есть же звено, связавшее всех нас навеки, – неожиданно подает голос Ника, притихшая было в глубокой задумчивости, так мало свойственной этому жизнерадостному, подвижному, как ртуть, и неумолчному юному существу.
Все вопросительно посмотрели на нее.
– А наша Тайна разве уже не связывает нас? Неужели вы о ней забыли?
– Но она будет в приюте и перестанет нуждаться в нашем попечении, – слышится несколько грустных голосов.
– Напротив, напротив. Именно теперь и будет нуждаться, и всю жизнь. И мы должны, mesdames, довести доброе дело до конца.
Звонкий голосок Ники звучит глубоко, проникновенно.
– Мы не выпустим ее из вида ни на один день. Пусть те, кто живет в этом большом городе, навещают ее и сообщают о ней тем, кто будет заброшен отсюда на край света. Да, да, так и должно быть.
– Да будет так, – шутливо-торжественно поднимает руку Шура Чернова.
Но на нее шикают со всех сторон – шутка кажется неуместной в этот торжественный момент.
– Да, да, mesdames, мы не можем оставлять Глашу, нашу Тайну без внимания, мы должны всячески заботиться о ней. Дадим же друг другу слово, что непременно будем делать это.
– Даем слово!
– Честное слово!
– Клянемся!
– Да! Да!
Еще ниже спускаются голубые сумерки. Догорел алый закат на вечернем небе. Где-то далеко от садовой беседки дребезжит звонок – это зовут к ужину и вечерней молитве.
– Ника, – неожиданно просит Золотая рыбка, – спляши нам сейчас, пожалуйста.
– Душа так просит красоты, – тут же поддерживает невеста Надсона.
– Да, да, спляши, Ника, – звучит уже общая настойчивая просьба.
Без возражений, не кокетничая, поднимается со скамьи хрупкая, изящная фигурка девушки. Быстро сбрасывает она с ног неуклюжие прюнелевые ботинки и, оставшись в одних чулках, феей юности, легкой и воздушной, кружится по просторной беседке. Каштановые кудри распадаются из тяжелого узла и струятся вдоль тоненькой шейки и стройных плеч. Вдохновенно поднятые к вечернему небу глаза словно ищут кого-то в лазурных далях… Она дает один круг, другой, третий… Свободны и изящны ее движения, прелестно одухотворено лицо, волнует сердца зрителей ее порывистое дыхание…
Восторженно смотрят на нее подруги. Точно поют их молодые души, расцветают в них крылатые надежды. И чудится каждой из притихших в молчаливом восторге девушек, что сама Радость жизни, светлая Волшебница счастья, носится перед ними, неуловимая и нежная, как полуночный сон…
Но вдруг общее настроение нарушается…
Ника внезапно прерывает свой танец. В полуоткрытую дверь беседки просовывается испуганное лицо:
– Mesdam’очки, ради Бога… До того заучилась, что в голове все перепуталось – одна каша… Помогите, ради Бога. У кого, у греков или римлян, была третья Пуническая война? – и Эля Федорова с не поддельным выражением полного отчаяния оглядывает собравшихся в беседке подруг.
– У персов… У египтян… У франков… – хохочет Шарадзе и, картинно закатив глаза и воздев руки, валится на скамью.
А сумерки незаметно все сгущаются… Алая заря давно побледнела… Где-то в дальней аллее действительно запел ранний соловей, защелкал тонко, таинственно и грустно.
Еще один день канул в вечность. Еще одним днем ближе к тому неизбежному часу, когда тридцать пять девушек, как стая легких птиц, разлетятся по белу свету в погоне за своей долей, – счастливой и радостной или тяжкой и печальной – кто знает, кто ведает сейчас…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































