Текст книги "Тайна института"
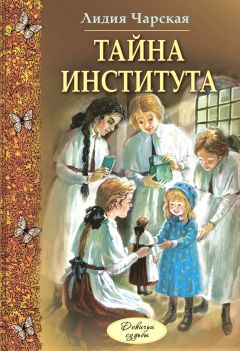
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Глава VI
Нижний лазаретный коридор постоянно освещен электрическими лампочками. Он помещается направо от швейцарской, и ведет в него большая стеклянная дверь. Между этой дверью и «парадной» церковной лестницей находится летний выход в сад (зимний ведет чрез столовую на веранду), проходящий чрез куполообразную круглую комнату, называемую «мертвецкой». В этой комнате, действительно, ставят гробы с умершими воспитанницами, классными дамами и институтской прислугой, а саму комнату украшают тропическими растениями и цветами. Но это только в редких случаях, когда стены учебного заведения посещает жестокая, непрошеная гостья – смерть. В обычное же зимнее время круглая, со стеклянной дверью «мертвецкая» закрыта на ключ. В ней хранятся летние игры, а также снятые на зиму качели и лямки от гигантских шагов.
Около «мертвецкой» находится небольшое окошечко, выходящее на нижнюю площадку лестницы. Здесь – комнатка Бисмарка, или институтского сторожа Ефима. Вход в нее устроен под лестницей. Комнатка имеет всего четыре аршина[22]22
Аршин – мера длины, равная 0,71 метра.
[Закрыть] в ширину и три в длину. Она темная и очень низенькая, но чистота, господствующая в этом более чем скромном жилище, заставляет забывать о его незначительности.
За ситцевой занавеской стоит постель, накрытая дешевеньким одеялом, в глубине – сундук; у правой стены – стол и два стула. В переднем углу – божница. Несколько небольших образов заключены в раму; перед ними горит неугасимая лампада. За киотом заткнуты пучок прошлогодних верб и восковая свеча от церкви Двенадцати Евангелий.
В углу стоит невысокий шкафчик-поставец; в нем лежат книги и газеты. Особенно много там газет, аккуратнейшим образом сложенных вчетверо, лист к листу. Но есть и книги, преимущественно божественного и исторического содержания: русская отечественная история, поэма в стихах «Дмитрий Донской», несколько разрозненных номеров старых журналов, «Жития» – преподобного Антония Печерского, Сергия Радонежского, великомученицы Екатерины и другие.
Ефим-Бисмарк – очень религиозный человек, но имеет большую склонность и к политике. На все свои свободные гроши он покупает газеты, больше всего интересуясь в них политикой. Он прочитывает их все до последней строчки самым добросовестным образом. Все текущие политические дела он знает твердо, как «Отче наш». Со всеми выдающимися деятелями Европы он основательно знаком по газетам. Президенты, премьер-министры и просто министры – это его закадычные друзья.
Семь часов утра. На дворе утренний декабрьский сумрак. В институте полная тишина. Только что отзвонил звонок в верхних коридорах, призывающий к утреннему туалету. Но внизу еще мало движений; разве пробежит лазаретная девушка по нижнему коридору, да швейцар Павел повозится у себя в швейцарской, не успев еще надеть своей красной ливреи, за которую институтки дали ему прозвище «Кардинал».
Но Ефим-Бисмарк давно уже поднялся в своей сторожке, сходил за кипятком на кухню, заварил чай и теперь будит Глашу.
– Вставай, девонька, пора. Не ровён час, кто еще сунется, пропали мы тогда с тобой оба.
За ситцевой перегородкой спит одна Глаша. С тех пор как девочка поселилась у него в каморке, Ефим стелет себе постель на полу.
– Глаша, Глашутка, вставать надо! Живее, девонька!
Черные глазенки раскрываются сразу и смотрят испуганно-удивленно. Всклокоченная головка потешно поворачивается вправо и влево. Глаша спала нынче так сладко. Она видела чудесные сны. Видела, что ей подарили много диковинных вещей, видела огромную куклу, такую, о которой мечтала давно: с черными глазками, с розовыми щечками, с белокурыми волосами…
– Дедуска, а дедуска, – лепечет Глаша, – правда, сто нынце мое лоздение? – обращается девочка к своему покровителю и другу.
– Да уж ладно, правда, Стеша сказывала, стало быть, правда, – ворчливо отзывался Ефим.
Он и рад и не рад своей новой жилице. Вот уже второй месяц пошел с того дня, как поселилась в его каморке под лестницей маленькая черноглазая беловолосая девочка. Поселилась исключительно благодаря его, Ефима, доброте и сразу же, с первого дня своего водворения в каморку, властно забрала его в свои крошечные ручонки. Вначале он, отставной унтер Ефим Гавриков, когда прибежавшие к нему институтки стали упрашивать его приютить у себя до поры до времени девочку, и слушать об этом не хотел: боялся «ее высокопревосходительства госпожи начальницы», боялся эконома, заведующего составом мужской институтской прислуги, боялся классных дам, – словом, боялся всех. Он, этот пятидесятипятилетний старик с сивыми усами и огромными очками, за которыми странно большими казались добрые серые глаза, свыкся с жизнью институтского сторожа за свои долгие двадцать лет службы и терять место из-за какой-то пришлой девчонки вовсе не входило в его расчеты. Но, во-первых, «пришлая девчонка» оказалась как две капли воды похожей на его малютку-внучку Марфутку, в которой старик души не чаял и которая год тому назад умерла в деревне под Лугой, а во-вторых, сама Глашутка явилась светлым лучом в бедной впечатлениями жизни старика.
Сразу поняв, что от ее благонравия и соблюдения тишины будет зависеть и пребывание здесь, и дальнейшее благополучие ее жизни, Глаша (или «Тайна» – на вычурном языке институток) вела себя образцово.
Тихо, как мышка, притаилась девочка в каморке своего благодетеля, бесшумно играя игрушками, которые доставляли сюда институтки. Никто, кроме посвященных в тайну, и не знал, что в Бисмарковом жилище скрывается крошечная черноглазая девочка. Уходя из каморки, Ефим всегда запирал девочку на ключ. Подышать свежим воздухом он выпускал Глашу через «мертвецкую» только в часы обеда, когда все население института находилось в столовой. Обед и ужин, а также лакомства доставлялись в сторожку самым аккуратным образом выпускными воспитанницами, а деньги, плата за Глашино помещение, вносились ими так же аккуратно в размере шести руб лей в месяц, по три рубля каждые две недели. От этих денег Ефим хотел было сначала отказаться, но потом решил, что они пойдут на саму Глашу и пригодятся ей «на черный день».
Первый месяц пребывания девочки в каморке прошел быстро, как сон; наступил другой. Нынче было третье декабря, день, когда Глаше стукнуло пять лет. Старик Ефим припас девочке подарок – плитку шоколада и нитку дешевых бус. Не успела Глаша вдоволь налюбоваться ими, как у дверей раздался троекратный стук – условленный сигнал «своих». Глаша, бросившаяся было за ситцевую перегородку на постель, как всегда делала при малейшем признаке опасности, на этот раз остановилась посреди комнаты и устремила на дверь сияющие любопытством глазки. Малютка сразу вспомнила, что троекратным стуком в дверь могли извещать о своем приходе только ее баловницы-тетеньки – институтки.
Действительно, из-за двери, предупредительно открытой Ефимом, выглядывали их милые, оживленные, хорошо знакомые девочке лица: «дедушки» Тамары, «бабушки» Ники, «папы» Алеко, «мамы» Земфиры, «тети» донны Севильи, или попросту тети Оли, как называла «мнимую испанку» Глаша, «тети» Маши Лихачевой, «тети» Золотой рыбки и ее подруги «тети» Муси, «тети» Эли Федоровой и «тети» Лизы Ивановой.
Прибежала и белокурая «тетя» Наташа, которая так хорошо умела читать о чем-то таком, чего, за крайней молодостью своей, Глаша еще никак не могла понять, но что звучало так складно и так красиво.
Первой вбежала Шарадзе, она же «дедушка» Глаши.
– Здравствуй, милая Тайна! Поздравляю тебя!
– Дорогая девочка! Ненаглядная Тайна, поздравляю!
– Поздравляю Тайну, доченьку, дорогую нашу малютку! И все оставшиеся наверху тети поздравляют и целуют тебя!
– Милая крошка Тайна, поздравляю, поздравляю… Поздравляю!
Град поцелуев и поздравлений сыплется на Глашу, как цветы и конфеты из рога изобилия, изображаемого на картинках. Потом ее торжественно подхватывают на руки, несут и сажают на стол.
– Вот тебе подарочек от меня, милая Тайна.
– И от меня.
– И от меня.
– А вот и мой.
Глаза Тайны широко раскрываются… Крик восторга рвется из маленькой груди и замирает на губах.

Она не видит изящного, всего в розовых бантах и прошивках платья, которое ей дарят «мама Земфира» и «папа Алеко», не видит хорошенького альбома, зарисованного хризантемами и розами, не видит крошечной склянки с водой, где мечется живая золотая рыбка – приношение Лиды Тольской, не видит большой красивой банки с помадой, которую протягивает ей сама насквозь пропитанная духами Маша Лихачева…
И коробочки с перышками, резинкой, цветными карандашами и картинками в руках Лизы Ивановой не видит Глаша. Она видит только одно: ее сбывшуюся в конце концов мечту, мечту маленькой девочки, которую она только раз обронила как-то вслух, – прелестную куклу в руках «бабушки» Ники, заветную куклу – в зеленом камлотовом платье, в переднике и пелеринке, как у заправской институтки.
Куколка, милая куколка! Дорогая, добрая, прекрасная мечта!
Глаза Глаши горят восторгом. Щеки рдеют; губки раздвигаются в блаженную улыбку, ручонки помимо воли девочки тянутся к дивному видению.
– Дай, бабуська Ника, дай… – лепечет крошка повелительно и радостно.
Растрепанная головка качает отрицательно.
– Нет, нет, раньше поцелуй меня за то, что я отгадала твое желание!
– Баян, не смей мучить ребенка! – кричит Шарадзе и топает ногой, в то время как Глаша звонко чмокает свою шестнадцатилетнюю бабушку в ямочку на ее свежей щечке.
Тамара не принесла «настоящего подарка», но зато припасла для общей дочки целую коробку «сборных конфет», которыми ее угощали подруги после приема родных. Тер-Дуярову никто не навещал, все ее родные и знакомые жили далеко, в Тифлисе, а сама она «хронически» страдала отсутствием денег. Эти конфеты она собирала целую неделю, проявляя «гражданское мужество» – отказываясь от них в пользу своей названой внучки. Шарадзе заготовила и еще один подарок для Глаши, но он был единогласно отвергнут всем классом: тщательно составленный и переписанный в хорошенькую тетрадку сборник шарад, над которым Тамара просидела три долгих вечера. Этот подарок остался лежать в пюпитре армянки.
В крошечной сторожке стало сразу людно, весело и шумно. Остро запахло «шипром», которым, пренебрегая чопорными институтскими традициями, немилосердно душилась Маша Лихачева. Даже Ефим нынче сияет. Подняв очки на лоб, он смотрит на барышень ласковыми старческими глазами. Отношение институток к Глаше трогает и радует старика.
– После обеда я приду сюда – сегодня я дежурная по сторожке, – говорит Золотая рыбка, – уж вы заранее откройте, Бисмарк, то есть Ефим, я хотела сказать, чтобы не пришлось ждать у дверей…
– Хорошо, мамзель Тольская, открою.
– Тайночка милая… – мечтательно говорит невеста Надсона, обнимая Глашу, – взгляни на мой подарочек, что я тебе принесла.
Увы, эта книжка в зеленом переплете с золотым обрезом – собрание стихотворений Надсона – пятилетнюю Глашу отнюдь не интересует.
– Удивительно остроумный подарок! – ворчит Маша Лихачева, – это ей понадобится лишь годам к пятнадцати, тогда бы и подарила.
– Ну, а твоя банка с помадой, думаешь, остроумнее, да? Нечего сказать, учишь только преждевременному кокетству… – вступается за Наташу Лиза Иванова.
– Батюшки, совсем как Скифка! Чертовски добродетельный экземпляр! – хохочет над Лизой Ника, успевшая подхватить Глашу на руки и расцеловать.
Она явно торжествует: ее подарок имеет наибольший успех. Недаром брат Ники, студент-электротехник Сережа, обегал весь город, выискивая именно такую куклу, какую «загадала» его изобретательная сестрица: с черными глазами, белокурую, со вздернутым носиком и настоящими ресничками, словом, как две капли воды похожую на саму Глашу. Семь кукол были отвергнуты Никой; на восьмой брат с сестрой кое-как поладили. В тот же день Ника отдала куклу в гардеробную девушкам-швеям – сшить ей настоящее институтское белье и платье. И вскоре из искусных рук Марфы Посадницы и Маши вышла маленькая институтка с фарфоровой головкой и белокурыми волосами.
За все эти хлопоты Ника, по-видимому, была вполне вознаграждена. Блестящие глазенки Тайны и ее сияющее удовольствием личико говорили без слов, что институтская дочка в восторге от подарка своей «бабушки».
Звонок к молитве неожиданно прервал веселую болтовню в каморке.
– Бежим скорее! «Четырехместная карета» уже выкатилась из своего сарая. Прощайте, Бисмарк. Прощай, маленькая Тайна! До завтра! – зазвенели веселые голоса.
– А я еще увижу вас сегодня – я принесу обед, пока до свиданья, Ефим, до свиданья, Тайна… – и Золотая рыбка первой выскакивает за дверь.
Рассеянная Шарадзе в забывчивости «ныряет» перед Ефимом, то есть делает ему реверанс.
Старик сконфужен.
– Прощайте, барышни… – лепечет он смущенно, в то время как остальные, толкаясь в дверях, со смехом выскакивают за порог каморки.
Звонок в верхнем дортуарном коридоре оглушительно заливается.
– Бежим прямо в залу… Все равно не успеем проскочить в классы, попадемся навстречу «Четырехместной карете»… – тихо говорит донна Севилья.
– Mesdam’очки, чур! Если встретим Ханжу, – передники на голову и спасаться бегством. По крайней мере, лиц не увидит…
– Ну, разумеется!
– Mesdames, хорошо как! Удалось Тайночку порадовать. Теперь бы в залу пробраться без последствий…
– Все спокойно пока… Тихо, гладко и безмятежно… «Привет тебе, приют священный…» – неожиданно Эля Федорова на весь коридор запевает арию Фауста, неимоверно фальшивя на каждой ноте.
– Федорова, ты в своем уме? Эля! Молчи! Мол…
Увы, запоздалое предупреждение… Из-за стеклянной двери, ведущей на вторую половину нижнего коридора, как раз навстречу институткам выкатывается инспектриса института, Юлия Павловна Гандурина, маленькое кривобокое существо в черной наколке, с морщинистым лицом и тонкой осиной талией. Она – бич воспитанниц. Юлия Павловна постоянно и повсюду ловит и выслеживает девочек, выговаривая им за малейшую провинность, и постоянно грозит «небесной карой» и «взысканием свыше», за что и получила прозвище «Ханжа». В церкви и на молитвах, в то время как она, лицемерно подняв глаза к небу, всем своим существом изображает олицетворенную молитву и смирение, ее маленькие пронырливые глазки успевают одновременно замечать юных проказниц, нарушающих в данный момент институтские правила и традиции.
– Это Ханжа!.. Бежим… Спасемся… – сорвалось с уст Шарадзе, и она первой помчалась вперед, минуя инспектрису, с накинутым на голову белым фартуком.
– Тер-Дуярова, куда?
Скрипучий голос Юлии Павловны, словно гвоздь, прибивает армянку к месту, и бедняжка Тамара как бы мгновенно обращается в неподвижный столб.
– Баян!.. Чернова!.. Тольская!.. Галкина!.. Лихачева!.. Иванова!.. Ну, конечно, все отпетые шалуньи… – произносит инспектриса, презрительно оттопыривая нижнюю губу. – Очень жаль, что такая хорошая ученица, как Мари Веселовская, заодно с вами, и Сокольская тоже… Вообще дружба Черновой с Веселовской и Сокольской с Тольской не приведет к добру…
Юлия Павловна рассчитывала продолжать нотацию, но вдруг остановилась на полуслове.
– Кто это так надушился? Кто посмел? Лихачева, вы? – сказала она, грозно сдвигая брови.
Красная, как кумач, Маша выступила вперед.
– Что это такое? – грозно накинулась на нее «Ханжа».
– Это… это… «шипр».
Эффект получился неожиданный.
Маша растерялась, и трепещущие губы девушки произнесли то, чего от нее вовсе и не требовалось. Вопрос инспектрисы отнюдь не относился к названию духов, он просто выражал высшую степень негодования.
– Ага, «шипр»! Вы осмеливаетесь еще и дерзить, мало того что отравляете воздух этой дрянью!
– Это «шипр»… – уже ни к селу ни к городу подтверждает окончательно растерявшаяся Лихачева, в то время как другие трясутся от усилий сдержать обуревающий их смех.
– Прекрасно. Вы отправитесь сегодня же в лазарет и примите ванну… Слышите ли? – Ванну, чтобы избавиться от этого ужасного запаха!.. – повышает голос инспектриса.
– Но… Но… Это невозможно… – лепечет смущенная Маша – я впиталась в него…
– Что такое? – брови инспектрисы грозно поднимаются, ее маленькие глазки сверкают. – Что?
– То есть он… То есть «шипр» впитался в меня… – еще более некстати поправляется Маша.
– О, это бесподобно! – насмешливо улыбается инспектриса. – Это великолепно! Молодая девушка, вступающая через полгода в свет, впитывает в себя не основы религии, не правила добродетели, а какие-то скверные духи…
– Они не скверные, m-lle. Уверяю вас: они стоят семьдесят копеек…
Последняя фраза в конец погубила бедную «Фабрику Ралле». Жестом, полным презрения, с саркастической улыбкой на тонких губах, инспектриса махнула рукой:
– Вам будет сбавлено два балла по поведению за «шипр» и два за дерзкий ответ, – проскандировала она зловещим голосом и тотчас же обратилась к другим воспитанницам, отвернувшись от вконец смущенной Маши:
– Теперь я желала бы знать, где вы были?
Что было ответить на такой вопрос? Все, что угодно, только не правду. Сказать правду – значило бы погубить Тайну, Ефима и Стешу. А этого ни в коем случае делать было нельзя. И Ника Баян, заранее возмущаясь неизбежной ложью, выступила вперед.
– Мы были около сторожки Ефима, m-lle. Нам надо было сторожа… – произнесли покорно ее розовые губки.
– Зачем? Чтобы послать его за какой-нибудь дрянью, вроде чайной колбасы или дешевых леденцов? – все с той же презрительной улыбкой допытывается Гандурина.
Легкое замешательство задержало ответ Ники. Отвечать, что они действительно хотели послать Ефима за покупками, конечно, было нельзя. Сторожам и прислуге было строго-настрого запрещено ходить за сладостями и другими покупками для институток. Все это должно было приобретаться только при благосклонном участии классных дам, под их неусыпным контролем. Каждый нарушивший это правило, будь то сторож или девушка-прислуга, неизбежно подвергался наказанию или даже вовсе лишался места.
И, зная это прекрасно, Ника избрала совершенно иной план действия, более сложный и утонченный, не грозивший никому, кроме нее самой… Вся раскрасневшаяся, с потупленными глазами и дрожащими от смеха губками, она сделала шаг вперед.
– M-lle, – тихим, кротким и печальным голосом произнесла шалунья. – Я… я одна виновата во всем. Ефим не знает даже, что я была здесь… И моих подруг я уговорила пойти со мной… Такой ранний час… Так темно и тихо… Такая жуткая «мертвецкая»… Мне было страшно одной…
– Но зачем же вы пришли сюда? – чуть ли не взвизгнула Юлия Павловна, снедаемая любопытством.
Ника на мгновенье замирает в молчании. Все ждут ее ответа… Больше всех – инспектриса Гандурина. И вот с дрогнувших губок Ники срывается совершенно неожиданный ответ:
– Я… я… хотела поговорить с ним.
– Что? Что вы сказали?
Пальцы Юлии Павловны впиваются в руку девушки. Ее глаза, прыгающие от любопытства, как две стрелы, пронзают Нику. Если бы эти стрелы могли убивать, то хорошенькая Ника Баян, наверное, уже лежала бы у ног инспектрисы бездыханной. Но лицо Ники внезапно приобретает ее обычное задорное выражение.
– Ну что ж такого, m-lle… – говорит она, тряхнув плечами. – Ну что ж такого? Я хотела поговорить с Ефимом…
О, этого еще не доставало! Институтки трясутся от усилия удержать смех. Лица их красны, черты искажены – Гандурина до того растеряна от такого неожиданного признания, что положительно теряет дар речи.
И только после продолжительного молчания она поднимает палец к небу и торжественно произносит:
– Баян, я уважаю вашего отца и жалею его, потому что, воистину, горькое испытание иметь такую дочь… Вы интересуетесь разговором с простым сторожем! Ужас! Ужас!.. Я не хочу наказывать вас за это, Баян, так как вы были чистосердечны и покаялись мне во всем откровенно, но… Я требую, чтобы вы выбросили вашу дурь из головы, а для этой цели молились бы ночью. Молитесь, кладите по десять поклонов утром и вечером, читайте по две главы Евангелия ежедневно, и, может быть, Господь милосердный избавит вас от наваждения и просветит ваш ум… А затем я требую, я беру с вас честное слово, что вы не будете больше искать случая увидеть Ефима и караулить его здесь. Вы должны дать мне это слово, Баян, – торжественно заключила свою речь инспектриса.
– Я даю вам его, m-lle. Я постараюсь исполнить все то, что вы говорите, и надеюсь, что ваши советы спасут меня… – исполненным смирения и покорным тоном шепчет Ника.
Юлия Павловна растрогана и польщена. Обаяние этой очаровательной девушки-ребенка действует и на нее. Никто еще с ней не говорил так чистосердечно. И потом, не так уж, в сущности, и грешна эта девочка с поэтичной головкой, с глазами, как две далекие небесные звезды, в том, что чувствует потребность поговорить с «посторонним» человеком. И костлявая рука инспектрисы протягивается к юному свежему личику, а скрипучий голос протяжно и почти ласково заключает:
– Вы дали мне слово, и я вам верю. Вы всегда держите ваше слово, Баян. А теперь ступайте все в залу на молитву, и чтобы я вас никогда здесь не видела.
С этими словами Гандурина так же быстро, как и появилась, исчезла за колоннами нижней площадки, а семь юных девушек птицами взвились по лестнице на второй этаж, дрожа и задыхаясь от смеха.
– Вот так ловко придумала!
– Ай да Никушка! Ай да молодец!
– Умереть от хохота можно!
– Нет, ведь надо выдумать: хотела поговорить с Ефимом!
– Ха-ха-ха!
Подруги неистово хохочут, не будучи в силах сдержать смех, но сама Ника грустна. В поэтично растрепанной головке проносятся сбивчивые, тревожные мысли:
«Ложь, хотя и невольная, но все-таки ложь. И бедный добрый Ефим точно явился посмешищем… И Ханжа тоже… Некрасиво это, в сущности, но что же делать?»
Действительно, это был единственный способ спасти троих людей, другого выбора не было; пришлось Нике пойти на сделку с собственной совестью, с тем самым «рыцарством», за которое так любит ее весь институт.
И, отчасти успокоенная, она последовала за подругами, бочком проскользнувшими в зал, где в ожидании общей молитвы уже собрались все классы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































