Текст книги "Честь таланта. О литературе и России"
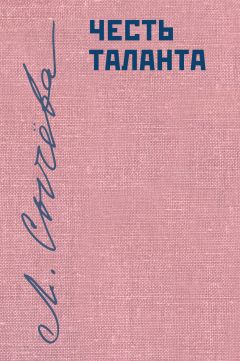
Автор книги: Лидия Сычева
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
* * *
И всё же главное свидетельство о Некрасове – его собственные книги. Читая их, будто шагая по ступеням, можно проследить путь писателя, понять, что волновало его, мучило, составляло радость и боль жизни. Вершиной творчества так и осталась повесть «В окопах Сталинграда», безусловный шедевр военной прозы, намного опередивший другие пронзительные книги о войне. «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева пришли к читателю в 1957 году, «Убиты под Москвой» Константина Воробьёва и «Третья ракета» Василя Быкова – в 1963-м, «На войне как на войне» Виктора Курочкина – в 1965-м… Это были небольшие по объёму книги-свидетельства, необычайно достоверные, честные, написанные с большой художественной силой. Произведения вчерашних фронтовиков называли «лейтенантской прозой», «окопной правдой».
Волей судеб Некрасов оказался основоположником этого течения.
Тому есть несколько причин. Когда «Вика начал жечь керосин», создавая повесть, а произошло это к концу войны – капитана-сапёра демобилизовали из армии после тяжёлого ранения, он был уже зрелым, сложившимся мужчиной – ему исполнилось тридцать четыре года. До войны Некрасов получил неплохое образование, закончив архитектурный факультет строительного института и театральную студию при Киевском театре русской драмы. Впрочем, тётка-биограф скептически относилась к его начитанности и кругозору: «Я очень люблю Тургенева, а мой племянник не может его читать. Он знает из него лишь то, что проходили в школе. <…> Иностранной литературы он совсем не знает, об истории, по-моему, понятия не имеет. Она ведь у нас была упразднена, когда он учился».
Что ж, мировая история вершилась на полях Великой Отечественной, а история русской литературы – в киевской коммуналке, где Некрасов писал по ночам свою книгу. Но уже в 1950 году писателю-фронтовику, находящемуся в зените славы и в расцвете таланта, власти выделят отдельную квартиру на Крещатике, куда он переедет вместе с Зинаидой Николаевной. Теперь на фасаде дома номер 15 мемориальная доска, а тогда тётка недоумевала: её знаменитый племянник отказался от четырёхкомнатной квартиры! Из боязни, что к нему, человеку компанейскому, непрактичному, заселятся друзья с семьями.
Впрочем, и в двух комнатах у Некрасова постоянно кто-то гостил. Иногда – годами. Софья Николаевна называла такой образ жизни «Вишнёвым садом» в советском быте и всячески обличала в своих корреспонденциях писательских приживал, которые не только ели-пили за счёт благодетеля, но и зачастую ходили в его одежде.
Квартира Некрасова стала одной из точек сбора киевской богемы. Здесь бывали не только литераторы, но и московские гости, иностранные корреспонденты, киношники… Некрасову, прошедшему через огонь и воду великой войны, предстоял нелёгкий поход через «медные трубы».
* * *
«Бесспорно, он не знал жизни народа, как и вообще все писатели, его современники», – скажет о Некрасове в своих воспоминаниях Виктор Кондырев. Ну, насчёт всех – это явный перехлёст. Разве писатели-фронтовики Иван Акулов, Виктор Астафьев, Евгений Носов не знали жизни? Им, «деревенщикам», тяжёлый труд русского мужика был знаком с детства.
А вот Некрасов, да, жил в юности без особых забот. Софья Николаевна возмущалась: «До двадцати восьми лет Вика ничего не зарабатывал. <…> Мама его обожала и негодующе говорила мне: “Что ты от Вики хочешь? Твой отец никогда не зарабатывал, твой дед не зарабатывал, отчего же Вике зарабатывать?”» Притом что выживала семья бывших «помещиц» нелегко – и материально, и морально. Но 1937 год, например, тогда прошёл мимо сознания интеллигента Некрасова. Зато принципиальная тётка, «борец против вредительства», много раз писала в Москву по поводу творящегося вокруг произвола и вовсю обличала «воинствующий идиотизм» власти. Отзвуки времён «культа личности» появятся позже – в повести «Кира Георгиевна», вышедшей в 1961 году.
И всё же сказать, что Вика совсем не знал жизни, нельзя. Оказавшись в окопах Сталинграда, в круговерти кровавой стихии, где во всю мощь поднималась «дубина народной войны», он как человек художнически-чуткий (всю жизнь Некрасов рисовал и был весьма увлечён фотографией) оказался всерьёз захвачен этой грандиозной силой. И под влиянием исключительных внешних обстоятельств написал свою знаменитую повесть.
На войне Некрасов вступил в партию, хотя прежде никогда не интересовался политикой. Инерция «погружения в народ» была столь велика, что и в следующей его вещи, повести «В родном городе» (опубликована в «Новом мире» в 1954 году), она сохранилась. Рассказывая о фронтовике Николае Митясове, трудно входящем в послевоенную жизнь, Некрасов даёт то же разнообразие характеров, впечатлений, деталей быта…
Отрыв от реалий пришёл вместе с материальным благополучием. Жизнь писателя и «народных масс» стали резко различаться: Некрасову не нужно было ходить на службу, думать об улучшении жилищных условий и содержании семьи. Огромные тиражи, щедрые гонорары, отдых в домах творчества, экранизации книг, поездки по стране и за границу – в том числе во Францию, Италию, США; в сущности, по сравнению с «простым советским человеком» он оказался почти в «коммунизме».
Изменилось и окружение: место «окопного братства» заняла киевская и московская интеллигенция. Правдолюбивая Софья Николаевна извещала, что все друзья у Некрасова «исключительно евреи, и, кажется, самый еврейский акцент у самого Вики». В нарочитом «юдофильстве» сестры и племянника Мотовилова видела ненатуральность, подчинённость интеллектуальной моде и считала их поведение комичным: «Зина рассказывает: “Вика был сегодня на кладбище”. Знакомая спрашивает: “На каком, на Байковом?” Зина с достоинством отвечает: “Вика бывает только на еврейском кладбище”».
На Байковом кладбище была похоронена бабушка писателя, для которой Вика был любимый внук… Некрасов действительно много сделал для увековечивания памяти евреев, расстрелянных в 1941 году фашистами в Бабьем Яру, в урочище на северо-западе Киева. А вот в эмиграции писатель будет тяжело переживать охлаждение со стороны прежних друзей, оставшихся в СССР. Для большинства из них он просто перестанет существовать – ни короткой открытки в праздник, ни телефонного звонка. «Выяснилось, что самое важное в жизни – это друзья», – напишет он в своей эмигрантской «Маленькой печальной повести».
Особенностью творческого дара Некрасова было то, что он не обладал сильной художественной волей. «Профессиональным литератором не считаю себя и сейчас», – написал он в 1962 году, отвечая на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы». Эту же мысль он развил в разговоре с другом: «Я войне должен быть благодарен… Еcли бы не война, вряд ли бы стал писателем. У меня нет воображения, мне трудно придумывать. Я могу писать только о том, что пережил или видел своими глазами. Я скорее очеркист, чем художник».
Что ж, продолжим эту мысль: среда определяла и творческое, и гражданское поведение Некрасова. Если бы не война, он бы не стал писателем. Если бы не либеральное окружение («самое важное в жизни – это друзья»), он бы не превратился в эмигранта.
…Чего же не хватало «сливкам общества» и «совестям нации» в советское время? По большому счёту, только одного: свободы. Свободы передвижения, свободы печати, свободы совести. Но мало кто задумывался о «цене вопроса», которую придётся заплатить за эти высокие сущности. Главное – сбросить ненавистные путы советской бюрократии, а уж остальное как-нибудь наладится.
* * *
– Сталинград, – сказал мне офицер Сергеев, обводя рукой окружающие нас руины.
Мы стояли возле БТРа на площади Минутка в Грозном. Бои здесь шли с исключительным упорством, развалины несколько раз переходили из рук в руки.
Жуткое впечатление оставлял этот город. Есть такое выражение – «дух смерти». Сожжённые остовы многоэтажных домов. Вывернутые рамы. Всюду битый шифер, стекло. Перевёрнутые ларьки, деформированные так, будто их сжимал гигантский кулак. Остатки былых лозунгов: «Наша цель – коммунизм» и магазинных вывесок: «Овощи-фрукты», «Хлеб». Разум отказывался понимать, что перед тобою – город. Что здесь жили люди.
На одной из разрушенных стен чудом уцелела ржавая довоенная табличка – «Пошив кепок». Но где эти кепки и где эти головы? Руины Дворца пионеров, обкома партии, центрального универмага. Руины, не поддающиеся описанию.
Десятки тысяч убитых в Чечне, сотни тысяч ограбленных и бездомных беженцев, наша нынешняя бюджетная дань Кавказу – тоже плата за свободу. Конечно, можно сказать, что, раскачивая СССР, диссиденты «хотели как лучше», а получилось как всегда, что им виделся белый и пушистый «бескровный путь», но зомбированный советский народ свернул не в ту сторону и т. bд.
Но откуда «властители дум» знали, как лучше, если они не знали жизни большинства?! Отпадение от народа, как в материальном, так и в нравственном смысле, опасно для художника. Поводыри теряют ориентиры – слепые ведут слепых.
* * *
Творческий путь Виктора Некрасова – пологий спуск с вершины, с высоты повести «В окопах Сталинграда». Поэт Владимир Корнилов оставил такое свидетельство: «Человек в нём был куда ярче и занятней, чем прозаик. Вика скорее походил на героя добротного романа, чем на его автора. <…> в Вике было пропасть комического, вернее, трагикомического».
У писателя часто спрашивали, почему он не перебрался в Москву, где приятелей у него гораздо больше, чем в Киеве. «Потому что тут я первый парень на деревне», – простодушно отвечал Некрасов. Он был местной знаменитостью, и до поры до времени ему многое сходило с рук. «Конечно, он уже тогда крепко выпивал… Слышала рассказы взрослых о том, что он мог выйти подшофе на Крещатик и кричать: “Долой советскую власть!” Но его не трогали – лауреат!» – вспоминала одна из его знакомых.
Тётка-биограф сделала, как всегда, категоричный вывод: «Вика на войне научился пьянствовать». Софья Николаевна вообще отличалась повышенной принципиальностью и говорила: «…не поклонница я Викиного таланта, но на безрыбье и рак рыба. Всё-таки это один из наиболее талантливых у нас писателей. Молодёжь у нас ужасно его любит». Впрочем, иногда она смягчалась: «…пишет он хорошо. Вы поглядите, как легко его читать».
В 1950–1960-е годы главный жанр творчества Некрасова – путевые и городские очерки. Писал он их с удовольствием и увлечением, его признание в любви Парижу в книге «Первое знакомство» до сих пор не потеряло очарования. Впрочем, на всех не угодишь: очерки «По обе стороны океана» (1962), повествующие об американской жизни, Софья Николаевна назвала поверхностными и легкомысленными, увидев в них невероятное «ячество», которое, по её мнению, было свойственно племяннику.
Руководитель Советского государства Никита Хрущёв отнёсся к зарубежным заметкам Некрасова гораздо строже, заклеймив автора за «совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип», выразившийся в якобы комплиментарном описании американской архитектуры, и высказал мнение, что от таких людей партия должна избавляться. Вскоре, впрочем, партия отправила на пенсию самого Хрущёва. Но до этого радостного события писатель пережил немало тяжёлых и горьких дней: ему предлагали покаяться, он искренне недоумевал – «в чём?», застопорились его издательские дела, да и строгий выговор по партийной линии за несуществующую вину не прибавил ему любви к советской власти.
С другой стороны, мало ли кого ругал Хрущёв?! Например, Андрея Вознесенского. И что?! Это только добавило поэту популярности. Евгений Евтушенко сочинил о Бабьем Яре целую поэму, но никто не обвинял его в организации «сионистских сборищ». Изрядное вольнолюбие в творческом поведении позволял себе бард Булат Окуджава. И т. bд. и т. bп. Удивительное дело: этим и другим приятелям Некрасова советская власть прощала гораздо большие «грешки», чем сталинскому лауреату. Мудрые его друзья умели ладить с цекистами и кагэбистами, обращать свои кратковременные поражения в долгосрочные победы, быть, когда надо, политкорректными. Они привозили из заграниц полные баулы тряпья (Некрасов все деньги тратил на книги и дорогие альбомы по искусству), и вообще друзья «умели жить», чему «трагикомический» Вика так и не научился – до самой смерти.
Нет, никаким идейным «антисоветчиком», по крайней мере до своего отъезда в эмиграцию, он не был. Об этом и его недоумевающий памфлет «Кому это нужно?», написанный в марте 1974 года и распространённый в самиздате. В сущности, это грустная, безо всякого «ячества», автобиография. Некрасов всё ещё ищет возможности примирения и диалога с властями – даже после исключения из партии, даже после 42-часового обыска в квартире по надуманной причине, даже после унизительных допросов в «органах».
Потом Некрасов напишет письмо Леониду Брежневу и попросит разрешения на выезд. Формальный повод – повидать в Швейцарии родственника, Николая Ульянова. Разрешение ему дадут. Но писатель понимал, что это – билет в одну сторону. В СССР он больше не вернётся.
* * *
Жалел ли он, что уехал? Во всех его эмигрантских писаниях можно встретить настойчивую идею – нет, ни в коей мере. Он обрёл свободу, объехал множество стран, его материальные дела тоже, в общем-то, устроились, хотя за границей пенсионеру Некрасову пришлось работать – в журнале «Континент», на радио «Свобода». Жил он в пригороде Парижа. В съёмной квартире попытался воссоздать киевскую обстановку – с помощью фотографий, картин, мебели…
Да, Некрасов писал, что ни о чём не жалеет, но между строк читается другое – не надо было ему уезжать!.. В его советских книгах, искорёженных цензурой, как ни странно, больше правды, поэтичности, очарования, чем в зарубежных, написанных в условиях вожделенной свободы. Потому что раньше его волновало чувство, а теперь – «тенденция», «ориентация». Он должен был оправдать, хотя бы перед самим собой, сделанный выбор. Но, как замечает Виктор Кондырев, «Вика далеко не сразу понял, что свобода слова не имеет ничего общего с правдой».
К началу 1980-х писатель уже слегка разочарован Францией, демократией и забастовками. Свобода передвижения? Но три четверти французов никогда не покидают родину – у одних нет желания, у других – возможностей. Свобода совести? Некрасов – атеист, к религии он равнодушен.
Перед ним открыт весь мир, «кроме СССР и его сателлитов». Но теперь он хотел бы побывать в Киеве, на Байковом кладбище, где похоронены мать, бабушка, тётка. Некрасов пишет советскому послу. Ему даже не отвечают.
«Одним словом, жизни ему не хватало! Той жизни, в Союзе!» – восклицает Виктор Кондырев. Но родина потеряна для Некрасова навсегда. Раньше его читали миллионы, теперь тысячи. Прежде он принадлежал всему народу, теперь – слушателям «Свободы». Встретившись в Париже с писателем Виктором Конецким, Некрасов признаётся в беседе с ним, что, да, за этим радио стоят деньги ЦРУ.
В сущности, внятного ответа на вопрос, хорошо ли желать родине крушения, если лично тебе – плохо, русская эмиграция всех четырёх «волн» так и не дала. Одно можно сказать определённо: народ – творец истории, из своей среды он выдвигает правителей и полководцев, писателей и художников. Творческая и научная интеллигенция в такой же мере, как и управленческая бюрократия, несёт ответственность и за наши победы, и за поражения. Бесславная гибель СССР – результат взаимного малоумия: власть защищала догматические «основы», интеллигенция боролась за «свободу». А народ провалился в яму между этими двумя сущностями. И не выбрался оттуда до сих пор…
Виктор Некрасов умер от рака лёгких. Его похоронили на русском кладбище под Парижем в чужой могиле – не было мест. Потом перезахоронили: и после смерти он оказался «путешественником»… На надгробии его – осколок снаряда, подобранный на Мамаевом кургане.
* * *
В июне 2005 года отряд «Стальное пламя», состоящий из старшеклассников, студентов и казаков, вёл раскопки недалеко от станции Абганерово, где в августе 1942 года шли жестокие бои, описанные в повести «В окопах Сталинграда». В степи, в одной из балок, поисковики обнаружили страшную картину: вокруг блиндажей – ручки от немецких гранат, доски нашпигованы осколками, множество стреляных гильз, пустые ящики от пулемётных лент.
Работа в архивах, тщательное сопоставление документов и найденных вещей (в сумке офицера НКВД отлично сохранились войсковые печати) позволили поисковикам сделать вывод – обнаружен разгромленный штаб 126-й стрелковой дивизии. Она прикрывала отход 64-й армии на двенадцатикилометровом участке фронта, в голой, без единого кустика, степи. Изрядно обескровленная в предыдущих боях, советская дивизия держала оборону против пяти немецких – двух танковых, двух пехотных и одной моторизованной.
Жаркий, полынный, кровавый день 29 августа. Три мощных атаки с авиабомбёжками и артподготовкой выдержали защитники Сталинграда. Погибли командиры полков, подошли к концу боеприпасы. В 14.30 немцы ударили в четвёртый раз… Сражался даже штаб дивизии, и на поле боя остался почти весь личный состав. Часы у офицеров остановились примерно в одно время – в 15.20. Один из лейтенантов так и погиб – с гранатой в руках.
В расположении штаба были найдены останки более сорока человек. Здесь, как выяснили поисковики, и погиб мой родной дядя – техник-интендант, младший лейтенант Иосиф Харламов.
Его прах и останки других бойцов и офицеров, защитников Сталинграда, похоронили с воинскими почестями на хуторе Верхне-Кумский в мемориальном комплексе «Стальное пламя».
2012
Литературные мечтания
Размышления о прозе Виктора Лихоносова
Первое знакомство
Когда восторженно-запойно была прочитана русская классика, когда упорно-планомерно были переварены «античка» и «зарубежка», когда доверчиво и честно был проштудирован «соцреализм», тогда мы и встретились. Давно это было… Времени случалось столько, что можно было ходить по библиотекам, копаться в книгах и открывать. Чистое, сильное, нежное слово…
Повесть называлась «На долгую память». Написана в 1968-м. Автору тогда было 32 года. В ней он поблагодарил свою мать – красиво и откровенно. И ещё горько, потому что как ни скажи, а всё равно виноват. И что мне до того, выдумано это или нет, если я – верю? В ту пору я сама училась в институте, и были у меня ещё две сестры и брат, родители тянулись из последних сил – работа, хозяйство, огород. Отец не пил и не курил. А денег всё равно не было…
Мама писала мне письма. Красивый, разборчивый, округлый почерк. Но тогда я роняла слёзы над повестью, а над письмами – нет. А мама совсем просто писала: «Посылаю тебе посылочку, “шальце” тонкое, чем было кормить поросёнка? А журналы потом вышлю… Погода у нас плохая: уже больше недели дождь и днём и ночью, мелкий и холодный. Земля набухла… Сегодня вроде прояснилось, так я стирала фуфайки, а то такие грязные! Буряк с огорода мы не убрали, дождь не даёт… мы уже топим в хате – холодно стало».
А мне всё казалось, что счастье – дальше. Я стеснялась быть откровенной и нежной. Мне казалось, что искусство – другое: кучерявое, недостоверное и выдуманное. Невнятные стихи Вознесенского – искусство, неловко срифмованные вирши Евтушенко – тоже. А то, как бы я сказала и сама, если бы умела, – что это? Эхо жизни.
Повесть «На долгую память» я больше не перечитывала и постаралась забыть. Но «господи, что за тайна сам русский человек»!
Наши путешествия
Найти метафору и написать балаган с переодеванием чертей куда легче, чем сказать два-три простых слова, от которых бы видно было окрест.
Из повести
Повесть «Люблю тебя светло» (1969) я долго не решалась прочесть, переживая за автора: вдруг в этой повести одно только название, а остальное так, «немного солнца в холодной воде»? Что тогда и кому верить? Но зря я переживала, потому что не бывает случайных названий, слов и людей. Это правильно – выбирать книги по названиям.
Сначала я рискнула посмотреть критику. «Обострённое внимание к позитивному началу, идущему из вчерашнего дня в завтрашний, характерно для произведений В. Лихоносова» (Олег Михайлов). Критик называет Лихоносова другом-писателем. А по мне, так может написать только вредитель. Это как вместо описания любви дать физиологическую картинку и при этом ещё и приговаривать: «Истинная правда!»
Так лучше уж я сама. Как по наивности или от доверия я искала по старым справочникам Союза писателей главного героя – Ярослава Юрьевича Белоголового и злилась, что не нахожу. Но не мог же сказать кто-то мифически бесплотный так ясно: «…и по мере сил способствовать осуществлению простейших бесспорных положений добра. Их немного. Беречь их, как сокровище». Любить светло – не в этом ли окончательный смысл; и неважно, чем ты занимаешься – литературой или улучшением жизни.
И ещё один мотив есть – дороги. Россия – страна большая, но первые маршруты для русских писателей, тех, которые служат с молитвой, определённы. Почему парень в затёртом пиджачке и дешёвых ботинках поехал в Константиново? Что там? «Что пригнало меня сюда под дождём, чем это кончится и откуда такая непонятная мне власть чего-то тайного?» Да и он ли один? Вон Солженицын, стряхнув лагерную пыль, приехал к Есенину, смотрел, удивлялся. Много было нас, тех, что «ловили и ловили немой зов русской земли, в которую ушли и великие, и поганые».
Я стыдилась своих стихов и с бо́льшим удовольствием читала те, которые казались не сложенными, а найденными. Вот Константиново. Стёртая акварель и мучительные воспоминания – кажется, здесь я уже была и знаю каждое дерево на улице, и рисунок коры, и привычное равнодушие местных к туристам. В киоске смехотворно дёшево продаются книги Юрия Прокушева и воспоминания о Есенине. Не моей ли матери шушун висит на мемориальной стене? Помню, как в сильные морозы, когда на дверях в хате выступал иней, мать укрывала меня им поверх одеяла. Конечно, не бедности той жалко, а времени. Иногда чудится, что жизнь кончилась до компьютеров.
Пока течёт Ока… Простору ещё много. О своей поездке в Константиново я не написала тогда ни строчки. Фотограф, к счастью, из меня не вышел. Не о том думала. «Как не разбиться в жизни, а не разбившись, ежечасно остерегаясь её ударов, как не засохнуть?» Тем более что «лежит в недрах заветное слово – радостное или печальное». Большое или малое (в смысле количества исписанных листов) – так ли это важно? Уже за то спасибо, что Россия, как столетнюю бабушку, влечёт меня за собой. Получается, что я больше вспоминаю, чем пишу. Но особенно жалеется там, на родине, где в густоте вечера смутно белеет цветущий картофель, где крадётся по небу туча-пират с осколком месяца в руках, где чуть встряхивает листами серебристый тополь, – неужто Бог «не отпустил вволю таланта и потому никакой песни я не сложу»? Не то обидно, что я промолчу, а то, что мне кажется, будто больше и некому сказать моё.
Вышло, что мы подружились в дороге – на одну лучину шли. Я читала всех подряд: Хемингуэя, Диккенса, Маркеса и Валерию Нарбикову. Пела песни и слушала оперу. Увлекалась Хармсом. Широта – свойство национального характера. И мимо заученной, лживой истории тянулась ниточка – земля, язык, мама, время…
Ну ладно. Если яснее, то так – раньше меня можно было покорить талантом, «внешним блеском», а теперь, когда внешне беспричинно больно, не только талантом, но и родством.
Ездить можно куда угодно – глаза смотрят, сердце молчит. Вот экзотика – пыльные пальмы, сладкоречивые, белозубые арабы, шкура крокодилов на сумках. Но чужое – оно и останется чужим. Что хорошего Паустовский написал про заграницу? Другое дело – Мещёра. Потрясена я буду там, где выросло родное и великое.
«Надо было куда-то уехать, чтобы обнять друга». Почему мне всё так ясно с первой строки: время сыплется, «не так вроде бы жил, мало видел, ничего не успел». Поздно что-то копить и глупо учиться – время раздавать и раздаривать. И вот я снова еду – мимо печальных, безлюдных полустанков, столбов электропередач, лесов и лесочков, унылых придорожных построек, бетонных бесконечных заборов с корявыми политическими и «металлическими» надписями; мимо бабушки и её внучки с двумя косичками, мимо спокойствия и стылости… Там, где я скоро буду, даже валенки теплее греют, даже лет мне меньше. «Если хочешь почувствовать, как прошла твоя жизнь, навести свою родину, узнай со скорбью, как мало там помнят тебя».
Но пока важнее другое – чтобы я помнила всех.
Наш большой роман
Поэты – красивые, бесстрашные, сильные, чуткие. Мы ходим под Богом, а они, прозорливые и ранимые, летают. Всё равно сильные, кажется, неуязвимые до своего срока, будто в кольчуге родились. От поэта – серебристый свет (то – слово!), и самых грешных из них великодушно прощают за облаками, потому что это очень тяжело – беречь и нести то, что было в самом начале.
Автор «Осени в Тамани», «Тоски-кручины», «Элегии», скорее всего, начинал со стихов. Лирика – музыка души, её не обязательно укладывать в рифмы-ноты. Можно писать свободней, ещё свободней, держа единое настроение на протяжении, допустим, 75 страниц. Это очень трудно, но что же делать, если в четырёх строфах не получается! Не все могут похвастаться универсальностью Пушкина. С другой стороны, я не скажу, что поэтов у нас избыток.
Сюжетов, собственно, нет – так получалось, очень часто дорога и попутные размышления, но не над тем, что видится снаружи, а над тем, что происходит в душе; красивые, точные пейзажи, часто одной строкой, часто многими. «С утра побрызгивало, иногда подсыхало, а ночью раскалывался над крышами гром, тяжело шумело и плескалось под окнами». Слишком просто? А зачем по-другому, если всё так и было?
Поэты со временем начинают писать прозу (если доживают). Выплёскивают главную боль. «Герой нашего времени» – «Доктор Живаго».
«– Что делать?
– Умирайте, если нечего делать, или живите в деле».
Роман «Наш маленький Париж» стал Делом. Удивительная книга! Автора всё время хочется упрекнуть в несовершенстве – он остаётся молодым. Он честно забрал с собой в эту книгу всё, что у него было раньше: любовь к своему народу, тихие открытия одиночества и жизнь, которая кому-то казалась лишённой потрясений. Но ему бывало и страшно, и страх скрывается за грустью: «На улице я смотрел на прохожих и думал: они не знают, в каком месте живут, они ни разу не представили себе, что ходят по тропинкам вырубленного дубового леса» – причина, чтобы написать роман, более чем уважительная.
С сюжетом легко: просто идти вслед за временем. Многие «стёжки-дорожки», конечно, позарастали. Он мучительно не умел писать длинно и не стал себя ломать – 85 маленьких главок плюс такие же пролог и предисловие. Шесть лет работы, кропотливой, над стилем – он хотел писать не лирику, а эпос и честно перестраивал слог. Роман – большой по объёму, широкий по времени, со смутным смыслом – умный дойдёт, а другому что в лоб, что по лбу. В эту книгу я входила, как в море, – зябко, непривычно, не повернуть ли назад – и потом плыла бесконечно, наслаждаясь простором.
Диалоги – поэтичны, даже когда «всё, ваше величество, видел, а коня без хвоста – нет». Проза жизни, быт, разговоры – всё, конечно, выдумано от первого до последнего слова, но веришь, что было именно так.
Могли его герои быть ничтожными людьми? Не могли. То есть это, может, и привлекательно: влезть в шкуру ничтожества и шуровать внутри кочерёжкой, разгребая потаённые грехи, но зачем? Поэту – нельзя. Даже близко нельзя подходить – судьба Лермонтова тому подтверждение. Зачем Демона звал? А ведь тот по сравнению с современным сатаной – красавец!
Он создавал героя, каким никогда не был сам (я так думаю), но каким втайне мечтал быть. Пётр Толстопят – красавец, рубака, похититель женских сердец, георгиевский кавалер, белый офицер – «за веру, царя и Отечество». Не то жаль, что время перемололо, окровавило и ушло, а то, что Толстопят, вернувшись на родину, ничего не оставил, кроме «ненаписанных воспоминаний». Сыновья его не родились. Откуда же взяться воинам и поэтам?!
И всё-таки он не выдержал характера до конца, сбился сам на себя в последней части, замаскировавшись кое-как именем Валентина. Прошлую, не прожитую жизнь трудно прочувствовать; он пытался в четырёх предшествующих частях быть честным художником. Рисовал, набрасывая мазки-факты, пытаясь выбирать яркие, неизвестные и в то же время естественные. Однотипность приёма немного утомляла – годы давили на плечи.
Он вернулся к живому времени, где чудак-историк «проснулся в полдень, долго валялся, отгоняя новыми синими трусами мух»; конечно, это не вычитаешь ни в одной газете, сколько ни глотай пыль в архивах.
Странно, повествование наконец-то скатилось на привычные рельсы, и узнаваемой стала жизнь, а в ушах звучала полифония: голоса Бабыча, Луки Костогрыза, Калерии, Бурсака, Василия Попсуйшапки, Манечки Толстопят… Они говорили, перебивая друг друга, а сколькие молчали! Память хочется пожалеть, как раненую птицу.
Что сочинила критика об этом романе? Не знаю. Господи, а что мне до критики? Никто не знает, сколько нам намерено жизни, а позади ровно столько, чтобы можно было положиться на себя. Большой, очень большой роман! Он писал его так свободно и откровенно, как никогда, опережая и удивляя время (роман закончен в 1983 году). Ещё белые официально были классовыми врагами, а «Красная армия всех сильней». Теперь, когда читаешь, акценты смещаются временем, и находишь в романе то, о чём автор, может быть, и не задумывался, а лишь чувствовал: «Великие чудеса, коими награждает нас жизнь, мы носим в себе и поделиться ни с кем не можем».
Что дальше? «Читать-то особенно некому. Это как фотография на память: более всего говорит она чувству родственников». Родственников осталось мало. В библиотеке Литинститута я взяла двухтомник Лихоносова 1984 года издания. Я была первым его читателем…
«Когда же все мы встретимся?»
Теперь мне много приходится ездить, и, думаю, когда-нибудь я случайно-целенаправленно попаду в Краснодар. В гостинице будет маленький одноместный номер с лепным потолком, белыми оконными рамами и низкой, колченогой мебелью, утомлённой многочисленными проживающими. По крышам «маленького Парижа» щедро разбежится весёлое солнце, и свежая, густая зелень бульваров властно поманит к себе. И мы, конечно, запросто можем встретиться где-нибудь на углу улиц Мира и Красной или на Воронцовской аллее. После лёгкого знакомства-недоразумения я спрошу…
А впрочем, что особенного я могу спросить? И так ли уж важна наша встреча на углу улиц Красной и Мира, если уже написаны книги? Людям невозможно быть хуже своих слов и ниже своих дел. А талант, отмеченный жестокостью, кажется таким ярким, нужным и созидательным. Но, накладывая на холст чёрную краску, художник берёт её с палитры, а чёрное слово писатель выплёскивает из себя; слово покрыто коростой внутренней лени и несовершенства, а его выдают за откровение. Но всё – ложь, если темнее нимбов святых на иконах Рублёва. Казалось бы, чего проще – быть отражением солнечного света, то тусклого, то ясного, накрываться тучей, как больной одеялом, уходить «красным колесом» на покой – и почти никому это не под силу. Не осуждая немощь, имею ли я право любить то, что невозможно не любить, – красоту и откровенность, «русскому характеру не к лицу недомолвки»?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































