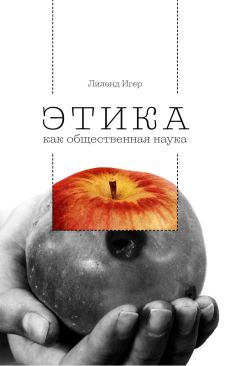
Автор книги: Лиленд Игер
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Отбор через культуру
Несмотря на то что некоторые из прежних понятий о биологическом отборе на уровне групп ошибочны, культурный отбор – реальность. Групповой отбор может действовать путем квазиламаркистской передачи приобретенных характеристик – я говорю «квази» потому, что действует он не через те биологические процессы, которые предполагал Ж.-Б. Ламарк. Тогда как гены принадлежат индивидам, члены общества разделяют между собой культурные черты. Группы, установления и традиции которых благоприятствуют их выживанию и преуспеванию, будут жить лучше, чем группы с не столь полезными культурными чертами. Нет необходимости, чтобы благоприятные черты и обычаи усваивались намеренно, ради предвидимых желательных следствий. Они вполне могут возникать постепенно в качестве частичного приспособления действий к обстоятельствам. Давид Юм понимал, что «правила морали не являются заключениями нашего разума» (цит. по Hayek 1984, p. 319). Это не значит, что не надо полагаться на разум в оценке и, возможно, изменении унаследованных правил.
Традиции честности и добропорядочности и даже заботливости и доброжелательности могут помочь сохранению и процветанию обществ, которые уважают эти традиции и передают их. Группы с противоположными традициями с большей вероятностью вымрут или будут завоеваны. Или же они постепенно заменят свои неблагоприятные обычаи и установления, копируя обычаи и установления более успешных обществ и передавая благотворные изменения последующим поколениям.
Примерно так понимал групповой отбор Герберт Спенсер (Spencer 1897/1978). Он признавал, что «гармоническая кооперация внутри племени ведет к его росту и процветанию», и говорил о «выживании наиболее приспособленных племен» (vol. I, p. 345–346 <см. Спенсер 1898, ч. 2, с. 5>). Рациональный утилитаризм Спенсера, как он его называл, имел целью создание условий для счастья, в отличие от эмпирического, по его определению, утилитаризма Иеремии Бентама и Генри Сиджвика, которые, по общему мнению, считали непосредственной целью само счастье (vol. II, p. 260, 491–496 <Спенсер 2015, с. 223, 460–464>). Хотя Спенсер был наиболее известным из представителей так называемого социального дарвинизма, его сочинение не столь примитивно, каким его изображают популярные пародии (Ruse 1990, p. 61). Он не отстаивал закон джунглей, призванный отсеять слабейшие человеческие существа. Напротив, он надеялся, что эволюция общества принесет возрастающую гармонию интересов и взаимопомощь (Spenser 1897/1978, vol. I, p. 3, vol. II, p. 445–446; но ср. vol. II, p. 408–409 <Спенсер 2015, с. viii, 414–415; ср. с. 374–376>).
Чарльз Дарвин, если судить по мыслям, выраженным в «Происхождении человека», тоже не был сторонником социального дарвинизма. О нем это можно сказать с большей уверенностью, чем о Спенсере. Дарвин не видел причин опасаться «ослабления общественных инстинктов» у будущих поколений; мы вправе ожидать, полагал он, что «добродетельные привычки разовьются и станут, может быть, постоянными благодаря наследственности». Тогда добродетель восторжествует над низшими побуждениями (Darwin 1871, pt I, ch. IV, p. 494 in 1936 ed. <Дарвин 1953, с. 238>). Люди из симпатии совершают добрые дела по отношению к другим, надеясь на ответное добро. Симпатия усиливается под влиянием привычки и возрастает вследствие естественного отбора, так как сообщества с наибольшим числом сочувствующих друг другу членов процветают и выращивают наиболее многочисленное потомство. Часто невозможно разделить роль естественного отбора и роль симпатии, разума, опыта, подражания и привычки в передаче общественных инстинктов (1871/1936, p. 479 <там же, с. 222>). Высокие нормы морали «основаны на общественных инстинктах и связаны с благополучием других», они «поддерживаются одобрением наших ближних и разумом» (p. 491 <с. 236>). Высшей ступени нравственной культуры мы достигаем тогда, «когда сознаем, что должны контролировать свои мысли и “даже в глубине души не помышлять вновь о грехах, делавших для нас прошедшее столь приятным”» (p. 492 <см. с. 236>; Дарвин цитирует здесь лорда Теннисона). Когда человек развил свои умственные способности и накопил богатый опыт, когда «его чувство симпатии стало нежнее и шире, распространившись на людей всех рас, на слабоумных, на убогих и других бесполезных членов общества и наконец на более низких животных, то и уровень его нравственности начал подниматься все выше и выше» (p. 493 <см. с. 238>). Далее Дарвин пишет: «Может быть, нравственное чувство представляет наилучшее и наивысшее различие между человеком и более низкими животными». Общественные инстинкты, умственные способности и влияние привычки естественно приводят к золотому правилу[33]33
Золотое правило нравственности гласит: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе.
[Закрыть], а оно «лежит в основе нравственности».
Темы, разрабатываемые Хайеком
Благоприятные правила и типы общественного устройства могут возникать даже без их сознательного планирования, как непредвиденные результаты стремления индивидов к достижению своих собственных, частных целей. Общественный отбор и общественная трансмиссия – тема, к которой постоянно возвращается в своих работах экономист Фридрих Хайек (см., например, Hayek 1984, ch. 17, а также Hayek 1989 <Хайек 1992>). Хотя благоприятные тенденции могут иметь значительный кумулятивный эффект, оказывая влияние на целые поколения, это не более чем тенденции. В действительности ничто не гарантирует, что общества, обладающие чертами, которые служат благосостоянию их членов, всегда будут преобладать над менее привлекательными обществами. Сохранение какой-либо культурной черты само по себе не является доказательством ее благотворности (ведь констатация фактов не составляет ценностного суждения).
Хайек особо выделяет институты и практики – включая частную собственность, – которые обеспечили возможность широкого косвенного сотрудничества через рыночные сделки. Он напоминает нам (1984, p. 321) о сформулированных Юмом «трех основных естественных законах» относительно собственности и договора (обсуждаемых ниже в Приложении к главе 6), от строгого соблюдения которых зависят «мир и безопасность» в обществе. Только благодаря личной собственности и конкурентной цене человечество стало эксплуатировать открываемые ресурсы достаточно интенсивно, чтобы поддерживать растущее население (p. 322). Групповой отбор в процессе культурной эволюции благоприятствовал группам, традиционные правила которых разрешали рыночные сделки, приводящие даже к незамечаемым и неожиданным полезным результатам. «Эта не введенная намеренно моральная традиция» хотя и не была созданием разума, взаимодействовала с ним и стала «столь же необходимой для формирования расширенного порядка, как и сам разум» (p. 321–322)[34]34
Хайек был «склонен утверждать, что только экономист, т. е. тот, кто осмыслил процесс формирования расширенного порядка сотрудничества, может объяснить селективную эволюцию морали собственности и честности – как эта мораль возникла и какое влияние она оказывала на развитие человечества. Это вопросы, которые являются проблемами науки, а не проблемами ценностей» (Hayek 1984, p. 327). Под «расширенным порядком» Хайек подразумевает систему взаимодействий, выходящих далеко за пределы личных контактов.
[Закрыть].
Групповой отбор, говорит Хайек, способствует даже таким обычаям, значение которых для выживания не осознается индивидами и которые они, возможно, неспособны рационально обосновать (p. 324). «Мы должны признать: то, что рационалисты обычно высмеивают как “мертвую руку традиции”, возможно, содержит в себе условия существования современного человечества» (p. 329).
Роль общественного сотрудничества в этике уяснил и другой экономист, Рой Харрод, предвосхитивший некоторые мысли Хайека о социальном естественном отборе (Harrod 1936). «Опыт поколений, отразившийся в моральном сознании, направлен против лжи». Исследование, касающееся нарушения моральных норм, ставит вопрос: «если бы в определенных сходных обстоятельствах нарушение совершали все», сделало бы это неэффективным существующий способ достижения обществом своих целей? Стабильными оказались только общества, в которых были сильны нравственные чувства; в моральной сфере необходим «элемент произвольности и авторитарности». В ходе эволюции стабильного общества «сохранились те системы, в которых утвердились всеми признанные практики и институты, проводящие в жизнь кантианский принцип и дающие членам общества дополнительные преимущества от его соблюдения» (выдержки из Харрода [Harrod 1936] даны по подборке цитат в Bok 1979, p. 295–297).
Харрод подчеркивал также, что следствия определенных действий, совершенных n-ное число раз, более чем в n раз превосходят следствия того же действия, совершенного однократно. Миллион случаев лжи может причинить больше чем в миллион раз вреда, нежели одна ложь. Догадка Харрода – еще одна причина действовать на основе принципа и понятия обязанности, а не только на основе расчета в каждом отдельном случае (см. Bok 1979, p. 294).
Кац, Хедигер и Валлерой (Katz, Hediger, Valleroy 1974), не знакомые с аргументом Хайека, приводят один наглядный пример. Некоторые, но не все племена американских индейцев нагревали и высушивали кукурузу (маис), а затем варили ее в растворе извести или другой щелочи. (Это практиковалось, например, при выпечке лепешек). У племен, готовивших кукурузу таким образом, была более высокая плотность населения и более сложная социальная организация, чем у племен, которые этого не делали. Обработка щелочью повышает качество усвояемого протеина, увеличивая количество усваиваемых организмом важнейших аминокислот. Исследовав 51 сообщество индейцев в Северной, Центральной и Южной Америке, Кац и его соавторы выявили строгое соответствие между теми сообществами, которые возделывают и потребляют большое количество маиса, и теми, которые готовят с использованием щелочи. Почти все сообщества, возделывающие и потребляющие маис в меньшем количестве, щелочи не применяют. Факты свидетельствуют о том, что значительная зависимость от кукурузы при отсутствии описанной техники приготовления пищи ведет к серьезному недоеданию. Эта техника была одним из главных направлений культурной адаптации; она позволила интенсифицировать земледелие, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему усложнению общества. Племена, применявшие эту технику, не знали соответствующей биохимии и не нуждались в такого рода знании; они оказались способными более эффективно выживать и воспроизводить себя благодаря своим эволюционировавшим культурным представлениям (Katz et al. 1974; Раштон [Rushton 1995, p. 87] вкратце излагает эту статью, но дает неточную ссылку на нее).
Доказательство того, что этика является следствием взаимодействия биологической и культурной эволюции, обобщает Эндрю Ольденквист (Oldenquist 1990). Идея группового отбора через культурную эволюцию не вызывает таких трудностей, как понятие биологического группового отбора. Одна из предпосылок культурной трансмиссии – некоторая генетическая предрасположенность к конформности (сравните с рассмотренной выше «послушностью» Саймона); в то же время культура, как часть среды, к которой приспосабливаются организмы, помогает созданию селективного биологического давления. Основу присущей людям общительности составляют их физиологические характеристики, в том числе способность к языку. Естественный отбор благоприятствует симпатии и заботе о других, необходимым для процветания общества. К сожалению, люди не могут пользоваться преимуществами «общности» без деления на своих и чужих, которое, принимая крайнюю форму, становится источником расизма и воинствующего национализма. (Александер тоже признает, что готовность к сотрудничеству внутри групп сосуществует с межгрупповой конкуренцией и агрессией и что соперничество между группами сыграло большую роль в эволюции человечества [Alexander 1987, p. 1–2, 79]. «Расистский уклон у Хайека» рассматривается в Yeager 1993R&C; статья первоначально так и называлась.)
Распространение альтруизма
Питер Сингер размышляет о том, каким образом человеческое сочувствие может распространяться за пределы его первоначально узких границ. Человеческая природа и устройство социальной жизни, включая взаимный альтруизм, приучают людей оправдывать свои поступки как бы от лица общества, в объективных понятиях. Когда утверждается эта привычка, устанавливается «автономия рассуждения». Идея беспристрастной защиты своего поведения обретает собственную логику, которая переносит ее за пределы группы (Singer 1982, цитируется и пересказывается в Wright 1994, p. 372; нечто подобное писал Дарвин о распространении симпатии на все народы и расы: Darwin 1871, pt I, ch. IV, p. 318 in 1952 ed. <Дарвин 1953, с. 238>; Wright 1994, p. 372, цитата – p. 425n.)
Язык и способность к рефлексии, говорит Сингер, дали человеку преимущества в эволюционной борьбе за выживание. Они также помогли трансформировать генетически эволюционировавшие социальные практики в правила и предписания относительно поведения, поддерживаемые общими для всех членов группы суждениями, одобрительными или неодобрительными. Разум, примененный к тому, что было генетически обусловленным поведением, поддержал общественные обычаи. Обычай предполагает способность видеть дальше конкретных событий и связывать настоящее с прошлым. Подведение частных событий под общее правило – быть может, самое важное различие между этикой человека и животных (Singer 1982, p. 91–95).
Человек как разумное существо, продолжает Сингер, видит основание для того, чтобы приводить в соответствие свои мысли и поступки, а не делать для себя исключения из правил, подчинения которым он ожидает от других. (По крайней мере, он понимает нерациональность притязания на право делать для себя такие исключения.) Люди испытывают чувство дискомфорта, когда сознают несоответствие между своими убеждениями или между своими убеждениями и поступками (об этом «когнитивном диссонансе» см. Festinger 1962 <Фестингер 1999>). Притворство может вызывать стресс. Дискомфорт от собственной непоследовательности, по-видимому, коренится в том преимуществе, которое рациональное поведение дало человеческим существам в процессе эволюции. Стремление избегать непоследовательности способствует определенной беспристрастности при разработке стандартов, касающихся того, как люди должны обращаться друг с другом. (Таково, во всяком случае, мое истолкование Сингера [Singer 1982, p. 139–145].)
Итак, биологические факторы не составляют полной картины развития морали по Джеймсу Уилсону, кратко описанной выше. Предрасположения детей к просоциальному поведению подкрепляет опыт, приобретенный в семье. Условия оседлой жизни, в том числе существование собственности, заставили людей смириться с их естественным неравенством, которым охотники-собиратели вынуждены были пренебрегать (Wilson 1993, p. 75–76). Самоконтроль и симпатия стали высоко цениться потому, что людям в общем живется лучше, когда те, с кем они имеют дело, проявляют эти качества, и, пожалуй, их избыток предпочтительнее недостатка. Один из признаков самоконтроля – соблюдение этикета (Wilson 1993, p. 81–85; ниже, в главе 4, приводится высказывание Генри Хэзлита относительно манер).
Уилсон обнаруживает медленное и неравномерное, но непрерывное распространение представления, что нравственное чувство должно управлять многими, а возможно, и всеми человеческими взаимодействиями. Он задается вопросом, почему границы нравственного чувства больше расширились на «Западе» (т. е. в Северо-Западной Европе и Северной Америке)? Почему именно здесь стало культивироваться уважение к личности и сложилось убеждение, что права человека существуют не только для членов «своей» группы, но и для всех людей, где бы они ни жили? В предположительном объяснении Уилсона фигурируют определенные типы брака, семейной структуры и воспитания детей, тесно связанные с особенностями частной собственности, землевладения, наследования, передвижения и торговли (1993, p. 193–221).
И снова об объяснении происхождения и оценке содержания
Майкл Рус усматривает в натуралистической основе этики некий вызов и даже угрозу. Как сторонник «дарвинистской эволюционной этики», он объясняет мораль или «альтруизм в буквальном смысле» генами, которые «делают нас сотрудничающими индивидами (биологическими альтруистами)». Хотя этика по своему содержанию не имеет никакого объективного основания и является просто «адаптацией человечества с целью выживания и репродукции», биология заставляет нас «объективировать» ее и думать, что она обладает реальностью «помимо этого», за пределами нашей субъективности. Если бы мы так не думали, «мы начали бы обманывать, мораль пришла бы в упадок и сотрудничеству настал бы конец» (Ruse 1990, p. 82–83).
Таким образом, Рус утверждает, что мы, человеческие существа, должны поддерживать свое заблуждение и верить, будто у морали есть какая-то объективная основа помимо простой биологии; в противном случае она пришла бы в упадок. «Этический скептицизм, возможно, верная философия, но наши гены делают всё для того, чтобы такое заключение противоречило интуиции» (p. 66–67).
Но заблуждаемся ли мы? Если, прослеживая возникновение и утверждение морали, можно в конце концов дойти до собственного интереса в узком биологическом смысле, распространяющемся на репродуктивный успех и инклюзивную приспособленность, это еще не значит, что моральные предрасположения иллюзорны. Биологическая эволюция, наряду с эволюцией общества и формированием социальных навыков, может привести индивида к пониманию того, что какое-то моральное предрасположение соответствует и его собственным интересам, и интересам окружающих, и он будет прав. (Как полагают Мориц Шлик и другие, не соглашаясь с некоторыми философами – см. ниже главу 8, – мы оцениваем характер человека по тому, как он представляет себе свой собственный интерес.) Мы можем признавать главным образом биологическое происхождение моральных предписаний и можем признавать, что они служат общественному сотрудничеству и человеческому процветанию, которое является достаточно объективным, но вместе с тем отрицать их полную объективность. Действительно, их основа должна включать также и фундаментальное, недоказуемое и субъективное ценностное суждение – наше одобрение процветания, или счастья. Такое признание не превращает нас в приверженцев этического скептицизма, не принижает и не разрушает мораль. Напротив, мораль в конечном счете больше пострадала бы от связывания ее с неверными фактическими утверждениями. Мы можем признавать преимущества соблюдения моральных предписаний почти так же, как если бы они были объективно обоснованными, вместе с тем признавая, что они в действительности не имеют полностью объективного основания, что в них должен входить и элемент чисто ценностного суждения. Мы считаем ценностное суждение убедительным, даже если, будучи фундаментальным, оно не подлежит доказательству. («Соблюдение моральных предписаний, почти как если бы они были объективно обоснованными» – предельно сжатая формулировка более полной дескрипции. Подобный язык не означает, что мы занимаемся самообманом, заставляя себя верить в чисто объективные предписания.) В любом случае, вопрос не стоит об элите, скрывающей истину о морали от толпы.
Присущая человеку долговременная память и способность распознавать отдельных индивидов наводит на мысль о важной роли взаимного альтруизма в эволюции человечества. Эта способность радует, но у нее есть и оборотная сторона, вновь предостерегающая нас от смешения естественного с желательным. Роберт Триверс предположил, что в процессе естественного отбора сформировались психологические свойства, необходимые для совершенствования способности обманывать, не вызывая подозрений, и обнаруживать чужой обман. С этой способностью могут быть связаны даже чувства зависти, вины, благодарности и симпатии. «Искусные обманщики», неизменно отвечающие на оказанную им помощь чуть меньшей ответной помощью, могут производить впечатление, будто они действуют по принципу взаимности. Большой головной мозг и предрасположенность к математическому мышлению, возможно, развивались у человека как механизм все более сложного обмана и все более проницательного распознавания обмана со стороны других. Далее, Триверс подвергал сомнению общераспространенное представление, что естественный отбор благоприятствует тому, чтобы нервная система доставляла все более точные образы мира.
Самообман может быть выгодным, если он помогает успешно вводить в заблуждение других. Точное изображение реальности – для других, а иногда и для себя самих – не входит в число высших приоритетов естественного отбора. Честность порой бывает грубой ошибкой, когда дело касается отношений между полами, взаимного альтруизма и социальной иерархии (точка зрения Триверса кратко изложена в Dawkins 1978, p. 202 <Докинз 2015, с. 290>, и в Wright 1994, p. 264–265).
Даже если природа «старается» максимизировать выживание массы, это не аргумент против принятия нами в конечном итоге утилитаристского критерия оценки наших институтов и этических кодексов. Мы можем применить свой разум как способность, включающую в себя исследование и логическое мышление, чтобы оценить и, возможно, изменить к лучшему институты и этические кодексы наших обществ. (Поскольку разум сформировался в результате биологической эволюции, этика таким образом и дальше связывает нас с биологией.) Цивилизация, как заметил кто-то, – это во многом попытки преодоления того, что естественно. Воспитание – один из способов нейтрализации определенных естественных качеств.
Хайек оспаривает представление о морали как о средстве, предназначенном служить человеческим удовольствиям, «давать нам то, чего мы хотим» (Hayek 1984, p. 324–325). По самой своей природе мораль – это передающееся другим поколениям ограничение в стремлении к удовольствиям. «…Мораль есть усвоенное ограничение, говорящее нам, от каких желаний мы должны отказываться – первоначально чтобы обеспечить выживание большего числа людей, нежели в случае исполнения наших желаний, а потом чтобы просто поддерживать большое количество людей, которых расширенный порядок человеческого взаимодействия позволил нам сохранить» (p. 328).
Конечно, мораль не была придумана для содействия счастью. Но даже в этом случае ученые-обществоведы могут прийти к пониманию того, почему некоторые воспринятые от прежних поколений традиции и практики приводят к полезным следствиям. Они могут понять, почему честное и внимательное поведение служит не только общему интересу, но и личному интересу человека, ведущего себя именно так, – если общий и личный интересы действительно в основном согласуются между собой (это «если» рассматривается в главе 8). Мы можем принять и стихийно-эволюционную теорию происхождения морали, и утилитаристскую метаэтическую теорию относительно того, как ее оценивать.
И опять-таки необходимо помнить о различии между объяснением какого-либо института (или его происхождения) и его оценкой[35]35
Различие между оценкой и объяснением проводил уже Дарвин. Он предпочитал говорить о «принципе наибольшего счастья» скорее как о критерии, а не как о мотиве поведения (Darwin 1871/1936, p. 489 <Дарвин 1953, с. 234>). «Смутное чувство, что наши побуждения далеко не всегда возникают из какого-либо испытываемого или предвосхищаемого удовольствия… является одной из главных причин признания интуитивистской теории морали и непризнания утилитаристской теории, или теории “наибольшего счастья”. Последняя, без сомнения, часто смешивает цель (standard) и мотив поступков, но иногда их действительно нет возможности различить» (p. 490 <см. с. 234>). Проводя различие между «общим благом или благосостоянием» и «общим счастьем» сообщества или человечества как «критерием морали», Дарвин, хотя и с оговорками, склонялся к первому (p. 490 <см. там же>).
[Закрыть]. Объяснение состоит из позитивных предложений; оценка требует ценностных суждений. То, развился ли моральный кодекс или иной институт стихийно, например через биологический и культурный естественный отбор, не является верным мерилом его благотворности; «естественный» не значит «хороший». Сам Хайек хотя и уважал моральный порядок, берущий начало не во врожденных инстинктах и не в сознающем разуме, считал правомерными частичные оценки и эксперименты «с усовершенствованием его составляющих – не планированием иного порядка, а скромными попытками несколько реформировать систему, которую надо принимать как данность» (1984, p. 330). Разум не способен заменить собой «сокровищницу» нашей моральной традиции; он способен лишь попытаться усовершенствовать переданную нам мораль посредством имманентной критики. Хотя мы не в силах создать систему в целом, мы можем попытаться заставить ее более последовательно выполнять свои задачи. Мы можем судить о конкретном моральном правиле только внутри «системы таких правил, которую мы при этом должны считать не подлежащей сомнению» (p. 329).
Связь морали с биологией не предопределяет этических суждений. Разумеется, заслуживающий доверия и применимый на практике этический кодекс не должен бросать вызов человеческой природе с ее биологической основой или устойчивым социальным реалиям. Однако «указание на то, что какой-то аспект человеческой этики является всеобщим или почти всеобщим, никоим образом не оправдывает этот аспект человеческой этики. Равно и указание на то, что какой-то частный аспект человеческой этики имеет биологическую основу, никак не оправдывает его» (Singer 1982, p. 53).
Итак, далекое от действительного подтверждения какого-либо этического кодекса, открытие биологической или социальной эволюции определенных предписаний позволяет отделаться их поверхностным объяснением. (Сопоставьте это с тревогой Майкла Руса, о которой говорилось выше.) Иногда это открытие порождает нечто противоположное оправданию. Биологическое объяснение как будто бы самоочевидного морального правила должно было бы заставить нас задать себе вопрос, почему мы его принимаем (Singer 1982, p. 150). То, что кажется не подлежащей критике моральной интуицией, возможно, просто реликт эволюционной истории. «Открытие биологического происхождения наших интуиций должно было бы вызвать у нас скептическое отношение к ним как к самоочевидным моральным аксиомам». Мы можем также «обнаружить реликты нашей культурной истории и поставить их рядом с реликтами эволюционной истории» (Singer 1982, p. 70–71).
Таким образом, естественность чего-либо может даже подкрепить неблагоприятную оценку. Доказательство того, что какое-то правило служило выживанию или благополучию людей на ранних стадиях биологической или культурной эволюции, помогает объяснить, почему в изменившихся условиях оно утратило свою значимость. Примеры мы найдем в запретах на употребление определенной пищи и, возможно, в половых запретах. Хайек проследил некоторые укоренившиеся социалистические или коммунитарные убеждения, не соответствующие современному «великому обществу» или «расширенному порядку», вплоть до условий жизни в малых группах охотников-собирателей (Hayek 1989, p. 17–23 <Хайек 1992, с. 34–40>; в более общем плане см. Oldenquist 1990, p. 125–126, 139, Hamilton 1996, p. 189–191, 217–218, 258–259). Дальнейшие примеры можно почерпнуть из религии в некоторых ее аспектах. Денежные системы, которые квазистихийно развивались в течение веков и, значит, могут в какой-то степени претендовать на естественность, возможно, хуже альтернатив, ставших доступными по мере совершенствования технологий и изменения социальных условий.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































