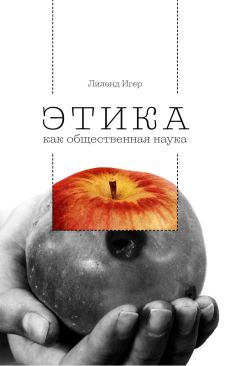
Автор книги: Лиленд Игер
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Характер личности на момент его моральной оценки таков, каков он есть. Он склоняет человека к такого рода намерениям, решениям и поступкам, к каким склоняет; и потому от характера существенно зависит, заслуживает ли человек восхищения или осуждения, похвалы или порицания. Это истинно независимо от того, как именно его характер стал таким, каков он есть. Достойный осуждения характер остается достойным осуждения, даже если он может быть объяснен, или оправдан, как продукт плохой наследственности и неблагоприятной среды. Понятие характера, достойного восхищения или осуждения лишь постольку, поскольку он внутренне детерминирован, не подвержен внешним влияниям, – это понятие противоречивое.
Можно провести аналогию между характерами людей и их потребностями и вкусами. Дж. К. Гэлбрейт уделил большое внимание тому, что он назвал «эффектом зависимости»: многие из потребностей индивида в современном обществе – не те, которые он испытывал бы спонтанно, предоставленный самому себе (Galbraith 1958, особенно ch. XI). Его желания создаются процессом их удовлетворения. Желания создаются образцами потребления других членов общества и пресловутой рекламой. Потребности, являющиеся в этом смысле искусственными, не могут быть насущными или важными, так что вывод напрашивается сам собой (с точки зрения Гэлбрейта, доходы, которые могли бы быть потрачены на их удовлетворение, правомерно облагать высоким налогом с целью финансирования действительно важных услуг, предоставляемых государством).
Фридрих Хайек (Hayek 1961/1967) называет этот аргумент non sequitur[28]28
Заключение, не соответствующее посылкам; букв.: <из этого> не следует (лат.).
[Закрыть]. Предположим, что люди действительно не ощущали бы потребности в чем-то, если бы оно не было произведено. Если бы это доказывало малую ценность вещи, тогда величайшие достижения человечества, в частности творения искусства, литературные произведения и чудеса высоких технологий, имели бы малую ценность. Нормы гигиены и спрос на соответствующие им продукты не возникают спонтанно у каждого отдельного индивида, а точно так же являются продуктом общества.
В более широком плане сам индивид есть продукт социальных сил, действующих главным образом через язык, который обусловливает его мысли, ценности и формы деятельности. Признавать индивида продуктом общества отнюдь не значит отрицать, что счастье и страдание, успех или фрустрация испытываются индивидами; не существует такой вещи, как коллективное счастье, отличное от счастья индивидов и превосходящее его. Признавать, что общество формирует своих членов, отнюдь не значит насаждать вместо индивидуалистических принципов коллективистскую, или коммунитаристскую, психологию и политику.
Коротко говоря, смысл аналогии следующий: вкусы человека – это некая данность, и их удовлетворение или невозможность удовлетворения доставляет ему наслаждение или делает его несчастным, несмотря на то что сами его вкусы – в значительной степени продукт внешних влияний. Равным образом и характер человека есть некая данность, и от него зависит, заслуживает ли человек восхищения и похвалы или осуждения и порицания, несмотря на то что сам его характер, как и вкусы, – в значительной степени продукт внешних влияний.
Похвала и вознаграждение, порицание и наказание правомерны постольку, поскольку они в принципе способны влиять на поступки, решения и черты характера, в противном же случае они неправомерны – так утверждает Мориц Шлик, и это звучит убедительно. Детство, проведенное в нищете гетто, не является действительным извинением воровства, нанесения увечья или убийства; с другой стороны, бессмысленно порицать человека за поступки, объясняющиеся врожденной аномалией или подлинной психической болезнью. Вознаграждение и наказание, похвала и порицание – все это основано на имплицитном признании частичного детерминизма в человеческих делах. (Иногда есть различие между наказанием и порицанием, как, например, в случае с непослушной собакой. Личная или коллективная самозащита от опасных душевнобольных, как и от бешеных собак, – не то же, что возложение моральной вины. «Наказание» в таком случае, подобно карантину для носителя болезни, не является наказанием в собственном смысле слова.)
Похвала или порицание, вознаграждение или наказание правомерны в отношении действия, совершенного свободно, в особенности в отношении действия, совершенного в соответствии с моральным характером действующего субъекта. Их правомерность не связана с полным отсутствием причинной обусловленности характера субъекта, что бы это ни означало. Похвала или порицание были бы неправомерными, если бы не влияли на действия такого рода и на склонности к их совершению.
Частичный детерминизм, предполагаемый ответственностью, в корне отличается как от полного детерминизма, так и от полного (возможно, стохастического) индетерминизма. С точки зрения частичного детерминизма, в человеческих делах, как и всюду в мире, действует причинность. На то, какое решение примет индивид, оказавшись перед конкретным выбором, возможно, в значительной мере или даже самым существенным образом влияют его генетические особенности и его прошлый опыт. Сюда входят аргументы, которые он слышал, и мысли, которые возникали у него в голове, включая понятие об ответственности и перспективы похвалы и порицания. Частичный детерминизм, однако, не утверждает, что абсолютно все полностью предопределено до мельчайших деталей. Он оставляет место для случайности, а может быть, и для той автономии (как ее ни называть), на которую указывают доктрины свободы воли.
В отличие от полного детерминизма, доктрина частичного детерминизма, признавая возможность какой-то свободы воли, не обладает встроенным иммунитетом от противоречащих ей свидетельств и не лишена практических следствий. Если бы люди, принимая решения, никогда не испытывали чувства независимости (если бы они никогда не были в ситуациях, когда они чувствуют, что они сами, лично взвешивают соображения «за» и «против» и сами принимают решения, без полного внешнего принуждения и ограничения; если бы они, наоборот, всегда ощущали на себе без труда распознаваемое жесткое принуждение и ограничение), тогда доктрина свободы воли пошатнулась бы. Или же если бы люди иногда испытывали чувство независимости, но им в каждом случае могли бы показать, что это чувство иллюзорно, и в деталях разъяснить, как именно их мнимый свободный выбор в действительности был полностью предопределен извне, доктрина свободы воли опять-таки была бы подорвана. Эта доктрина, вне всякого сомнения, была бы дискредитирована, если бы люди всегда остро сознавали, что они – просто звенья в цепи причин, и знали до мельчайших подробностей, какие именно причины на них воздействовали, включая и знание того, как именно различные факты и аргументы привлекли к себе их внимание и какую роль сыграл каждый факт и каждый аргумент.
Дискредитирующие свидетельства такого рода можно помыслить, и сама доктрина свободы воли не исключает их значимость. Сам этот факт показывает, что доктрина не является пустой. Более того, отсутствие таких дискредитирующих свидетельств позволяет предположить, что доктрина, возможно, верна. Но их отсутствие, разумеется, не доказывает, что она истинна; никакая доктрина относительно эмпирической реальности не может быть безусловно доказана.
Заключение
Обсудить соотношение свободы воли и детерминизма было необходимо, потому что многие философы считают этот вопрос ненадуманным и важным, тесно связанным с вопросом о моральной ответственности и, следовательно, с этикой вообще. Фаталистическая доктрина неразрывной цепи жесткой причинной обусловленности, действующей от начала времен, доктрина, согласно которой явно всё более сложные состояния мира заранее полностью определены явно менее сложными более ранними состояниями, – эта доктрина практически невероятна. Мысль о некой чистой случайности напрашивается сама собой. Случайность находит себе место в этической полемике не потому, что создает возможность ответственного человеческого выбора, а потому, что подрывает притязания полного, фаталистического детерминизма. Когда детерминизм поколеблен, мысль о какой-то свободной воле, действующей наряду с причинностью и случайностью, приобретает возможное основание. Повседневный личный опыт людей подкрепляет эту мысль.
Но остается один вопрос. Может ли воля человека формироваться каким-то иным образом, нежели случайностью и внешними влияниями, такими как наследственность, среда и опыт (включающий мысли об ответственности, похвале и порицании)? Может ли она формироваться в результате размышлений человека над самим собой? Нет, или, по крайней мере, непонятно. Ведь сама эта рефлексия, хотя о реальности ее свидетельствует богатый опыт, обусловлена внешними влияниями, в том числе действиями и мыслями других людей. Однако именно какой-то «иной» способ детерминации постулируют те, кто поддерживает свободу воли.
Один из подходов к решению задачи примирить свободу воли с тем родом детерминизма, с которым имеет дело наука, – обращение к понятию эмерджентных свойств. «Конкретные комбинации, расположения или взаимодействия компонентов могут порождать абсолютно новые атрибуты. Целое есть нечто большее, чем сумма его частей». Алмаз и уголь обладают свойствами, совершенно отличными от свойств атомов углерода, из которых они состоят. Цилиндр, изготовленный из плоских дощечек, может катиться. В очерке есть смысл, не содержащийся в отдельных напечатанных на странице знаках. Законы грамматики совершенно отличны от законов физики, но нельзя сказать, что несовместимы с ними. Так и человеческий ум каким-то образом способен «делать выбор, не детерминированный исключительно внешними или генетически закрепленными факторами; ум является самопрограммирующимся: он модифицирует происходящие в нем процессы» (Voss 1995).
Надо признаться, я не составил себе достаточно ясного понятия о том, к чему могут склонять подобные соображения. Посему заявляю, что я не решил вопрос о свободе воли, но сохранил возможность того, что эта проблема, если она не окажется в конечном счете псевдопроблемой, во всяком случае не разрушительна для этики. Детерминистский тезис представляется бессмысленным из-за встроенного в детерминизм иммунитета от любых фактов, какие только можно ему противопоставить. Поскольку немыслимы никакие наблюдения, вступающие с ним в противоречие, этот тезис в действительности ничего не говорит о мире и о том, действует ли в нем какая-либо свободная воля.
Хотя вопрос свобода воли / детерминизм, таким образом, остается нерешенным, все мы пребываем во власти неотразимого впечатления (или неискоренимой иллюзии), что у нас есть какая-то свобода действия и выбора и даже свобода воли. Когда мы пишем научные труды, мы просто поверить не можем, что каждое наше слово в точности предопределено и вызовет в точности предопределенные отклики наших коллег.
Бывает, что два теоретических направления или даже несколько направлений оправдывают себя применительно к определенным явлениям, но мы не способны – во всяком случае, пока – примирить эти направления, которые даже могут казаться несовместимыми. Вот один пример: очевидно двойственная природа света и электронов (сочетающая свойства волны и частицы). Принцип дополнительности, введенный в физику Нильсом Бором, позволяет ученым применять каждую теорию там, где она хорошо работает, не оставляя попыток согласовать различные теории, возможно, путем модификации одной из них или даже всех (Teller 1980, p. 93, 105–106, 138–140). Экономисты раньше не знали – а некоторые сказали бы, что и до сих пор еще не знают, – как полностью согласовать три направления в анализе платежного баланса – с точки зрения эластичности, поглощения и денежной теории. Несмотря на это, имеет смысл применять каждый подход там, где он дает хорошие результаты, по-прежнему стараясь достичь их более полного согласования.
Точно так же, подвергая анализу мир природы и мир человеческих дел, мы считаем разумным верить в жесткую причинность или в причинность, ослабленную элементом чистой случайности. Мы находим основание верить в ослабление причинности некоторым элементом свободы воли – по крайней мере, в этом нас убеждает личный опыт. Соответствующие теоретические направления являются взаимодополняющими. Поскольку мы не можем действительно считать, что этика – это область исследования, не имеющая своего предмета, продолжим ее рассмотрение[29]29
Эдвард Лоренц напоминает нам, что мы должны верить скорее в труднообъяснимую истину, чем в привлекательную ложь (Lorenz 1993, p. 159–160). Согласно этой посылке, лучше верить в свободу воли. Если она реальна, наш выбор будет правильным. Если нет, это не будет означать, что мы сделали неправильный выбор, поскольку, не обладая свободой воли, мы не делаем никакого выбора вообще.
[Закрыть].
Но давайте осудим тактику простой поддержки свободы воли под видом аргументации. (Свобода воли – благо, те, кто в ней сомневается, негодяи, а мы на стороне добра.) Как сказал Давид Юм, этот вопрос должен быть решен «с помощью подлинных аргументов перед лицом философов, а не путем декламаций перед всеми людьми» (Hume 1739–1740/1951, bk II, pt III, sec. 2 (последний абзац) <Юм 1996, т. 1, с. 455>).
Глава 3
Происхождение этики
Объяснение происхождения и оценка содержания
История в целом не свидетельствует о том, что люди специально придумывали и одобряли этические предписания. Правда, некоторые правила семей и других групп, включая статуты, принудительно проводимые в жизнь правительствами, принимались намеренно. Однако они создавались на уже существовавшей этической основе. Этические предписания не разрабатывались намеренно, а формировались главным образом в ходе непланируемых биологических и социальных процессов.
Объяснение того, как нечто произошло и почему продолжает существовать, не тождественно его оценке или оправданию: «сформировалось» не значит «является благом» (Ruse 1990, p. 65). Странно, что многие люди неспособны отличить констатацию положения дел от от утверждения о том, как они должны были бы обстоять (Dawkins 1978, p. 3 <Докинз 2015, с. 35>). (На ум приходят примеры «политкорректности», требующей особой позиции в вопросах, которые в действительности являются вопросами о фактах.)
Натуралистическое объяснение свойств характера и форм поведения не влечет за собой одобрения. Природа, насколько нам известно, не стремится к каким-либо конкретным результатам. На вопрос, заслуживает ли природа подражания как творение всеблагого и всемогущего Бога, Джон Стюарт Милль отвечал: Вы шутите? (Wright 1994, p. 331; Mill 1874/1969). Читая в 1893 г. лекции на тему «Эволюция и этика», Томас Гексли критиковал идею выведения ценностей из эволюции. Наоборот, этический прогресс общества «зависит не от копирования космического процесса и тем более не от уклонения от него, а от борьбы с ним» (цит. по Singer 1982, p. 62; ср. Wright 1994, p. 242). Хотя естественный отбор, возможно, «требует» от нас, чтобы мы были существами деятельными и плодовитыми, а не счастливыми, у психиатров нет веской причины формировать людей именно таким образом. Понимание естественного отбора даже могло бы быть полезным для сглаживания психических особенностей, которые он нам навязал. Симпатия, совесть, обязанность, вина могут способствовать поведению, которого естественный отбор не «одобрил» бы, но которое направлено на достижение счастья (Wright 1994, особенно p. 211, 226, 242, 258, 298, 328, 331). Как писал биолог, настроенный не менее реалистически, чем автор «Эгоистичного гена», понимание эволюционистских принципов, изложенных в его книге (о чем говорит уже само ее название), может помочь нам в создании общества, не копирующего эти принципы (Dawkins 1978, особенно p. 3 <Докинз 2015, с. 35–36>; ср. Hamilton 1996, p. 189–191, 219, 258–259).
Понимание и объяснение способны помочь изменить свойства реальности, которая нам не нравится. Необходимое (хотя и недостаточное) условие чего-то, что стоит рекомендовать, – быть возможным: «долженствование предполагает возможность». Натуралистическое объяснение какого-то явления свидетельствует о его несомненной возможности.
Совместим ли альтруизм с естественным отбором?
Эти замечания относительно объяснения и оценки распространяются и на склонность к сотрудничеству и генерализованную благожелательность – «альтруизм» не в отрицательном, рэндианском смысле. В настоящей главе рассматриваются в основном биологические и социальные обстоятельства, которые могут способствовать альтруизму. Здесь лишь мимоходом говорится о том, каким образом эти обстоятельства могут способствовать также обману и хищничеству. Такая расстановка акцентов не означает, что эти виды зла отбрасываются как нетипичные или несущественные. Люди, несомненно, разделяют неприглядные характеристики с другими животными. Альтруизм привлекает к себе особое внимание именно потому, что он неестествен или на первый взгляд кажется таковым. Примечательным и нуждающимся в объяснении представляется как раз то, что соответствующие этическим нормам поведение и убеждения, однако же, возможны и реальны.
Любые ценностные суждения, которых люди искренне придерживаются даже по зрелом размышлении, должны быть совместимы с имеющимся знанием физической реальности и биологической реальности, сформировавшейся в процессе эволюции. Врожденные способности и предрасположения шлифуются и дополняются культурой, приводящей к тому, что наши мысли и действия становятся биологически адаптивными (Ruse 1990, p. 63). Если «симпатия», которой Давид Юм и Адам Смит отводили в этике центральное место, реальна и если, более того, у нее есть биологическая основа, это имеет какое-то значение, пусть даже и не большое, для одобрения поведения, обнаруживающего симпатию, и предписаний, ее поощряющих: по крайней мере, то и другое не является невозможным.
Мораль, как заметил Юм, предполагает некое практически общее для всех людей чувство одобрения одних видов поведения и осуждения других. Это чувство, однако, не требует проявлять одинаковую благожелательность ко всем без разбора. Природа велит нам оставлять самое сильное чувство благожелательности для себя самих и для своих родственников, друзей и товарищей; распространять это чувство на чрезмерно широкий круг лиц означало бы рассеивать его. Но мы исправляем ограниченность чувства благожелательности размышлением о полезности общего мерила порока и добродетели (Hume 1751/1777/1930, p. 110, 65n. <Юм 1996, т. 2, с. 269, 23>; ср. ниже, в главах 4 и 9, разделы о симпатии к другим людям и о принципе генерализации). Просто признавая симпатию, как Юм и Смит, фактом человеческой природы – если она такова, – наблюдатель не выносит ценностного суждения, но он выносит ценностное суждение, если восхищается этим чувством и разделяет его.
Естественный отбор благоприятствует чертам поведения и характера, направленным на сохранение жизни и репродуктивной способности организма. Если он не всегда благоприятствует размножению самого организма, то по крайней мере поддерживает его в передаче будущим поколениям своих генов, разделяемых им с родственными организмами. Ясно, что добродетель благоразумия важна для выживания. Как общественные животные, люди должны обладать способностями к совместной жизни и сотрудничеству друг с другом, что предполагает гены, не препятствующие заботе о других, необходимой для сотрудничества.
Совместимость личного и общественного интереса, если они совместимы, вероятно, имеет общую биологическую основу с языком. Телесные и ментальные характеристики, делающие индивидов способными к общению друг с другом, увеличивают их шансы на выживание и производство потомства. Приблизительно то же должно быть верно и в отношении способностей усваивать общественные обычаи, воплощенные в языке, понимать цели других людей и, таким образом, жить с ними в ладу, получать выгоды от сделок с ними, а также избегать чрезмерной эксплуатации с их стороны.
Любые биологические корни этики, включая «симпатию» Юма– Смита, явно уходят во времена, предшествовавшие развитию человечества. Поведение, несомненно соответствующее правилам общественного сотрудничества, наблюдается у шимпанзе и других млекопитающих. Существуют очевидные правила, касающиеся раздела пищи и других форм взаимопомощи; нарушителей наказывают. Наблюдается также «утешающее поведение» – когда, например, животное, победившее в схватке, обнимает побежденного противника.
(Работа на эту тему, написанная приматологом Франсом де Ваалем и другими исследователями, отмечается в Marshall 1996, Cowley 1996, «Going Ape» 1996.) У животных широко наблюдается даже поведение, полезное для сородичей, но не для самой особи (примеры приводились в главе 2). Такое поведение трудно объяснить просто как реакцию на похвалу и порицание (Singer 1982, p. 5–8, 11).
Майкл Рус кратко излагает историю понятия общительности (Ruse 1990, p. 72, 73, 75). Аристотель уделил много внимания благой жизни индивида; благая жизнь в его трактовке могла бы показаться довольно эгоцентричной, если бы он не утверждал, что человек – это общественное и политическое животное. Некоторые добродетели или достоинства по самой своей сути предполагают других людей. Человек не может быть подлинно счастлив, полагал Аристотель, если он не общается как подобает со своими собратьями и не проявляет справедливости, великодушия и, возможно, мужества.
Дарвинизм самого Руса в некоторых пунктах совпадает с позицией Давида Юма: укоренение морали в субъективном чувстве симпатии; различение «есть» и «дóлжно»; «мягкая» доктрина совместимости свободы воли с детерминизмом, оставляющая место для морали и для некоторого элемента выбора, хотя люди и являются частью природной цепи причин. Юм уловил простейший вариант отбора родичей (kin selection), но не увидел, за два с лишним века до современной генетики, что взаимный альтруизм мог развиться как в ходе культурных, так и в ходе биологических процессов.
Джеймс Уилсон (Wilson 1993) возвращается к идее, что у людей есть интуиция относительно подобающего поведения и предрасположенность выносить моральные суждения. Это нравственное чувство включает понятия о самоконтроле, справедливости и долге.
Оно включает также симпатию, которую Адам Смит определил как источник нравственных чувствований, – т. е. способность и склонность представлять себе ощущения других[30]30
Лорен Ломаски возражает Уилсону, принимающему понятие «нравственного чувства», которое он приписывает Фрэнсису Хатчесону (Lomasky 1993, p. 43–44). Ничего подобного этому чувству не существует. Нет никакого чувства, родственного зрению и обонянию, посредством которого мы воспринимали бы объективно существующий мир моральных фактов. (Сравните попытку вывести теистическое чувство из широко распространенной веры в богов.) Согласно Ломаски, Давид Юм и Адам Смит, вопреки мнению Уилсона, не почерпнули у своего учителя Хатчесона ничего подобного. Ни один из них не верит в «мир моральных фактов, к которому мы имеем непосредственный когнитивный доступ. Наоборот, каждый из них пытается объяснить, почему мы способны формулировать моральные суждения, правильные и с точки зрения других людей, при отсутствии такой способности, как нравственное чувство» (p. 44). Ломаски никоим образом не отвергает «симпатию» Юма – Смита; он только не связывает ее, как Уилсон, с «нравственным чувством», впервые упоминаемым предположительно у Хатчесона.
[Закрыть]. Симпатия тесно связана с желанием сблизиться с другими людьми. Она проявляется в привязанности, существующей между родителями и детьми. Без этих уз человеческие существа не смогли бы пережить долгий период беспомощного детства. Родители, у которых отсутствуют биологические способности и предрасположения, необходимые для заботы о потомстве, вероятно, не передадут свои гены следующим поколениям.
Эволюция отбирала не столько определенные формы поведения, сколько черты, предрасполагающие людей к общим типам поведения, особенно к готовности испытывать привязанность к другим и восприимчивости к их чувствам. Мы не только разделяем чувства, которые, как нам представляется, испытывают другие, но и судим об этих чувствах; симпатизировать – значить судить (Wilson 1993, p. 32). Когда мы судим о других, мы знаем, что другие судят о нас. Мы заботимся о своей репутации, об уважении к нам и о том, чтобы нравиться. Мы хотим не только похвал – мы хотим быть достойными похвалы. Как сказал Адам Смит, «человек естественно желает быть не только любимым, но и заслуживающим любви» (Smith 1759/1976, p. 208 <см. Смит 1997, с. 125>; Wilson 1993, p. 33).
Симпатия обнаруживает себя не только в виде отзывчивости или заботы, но и в виде гнева и мыслей о мести. Нас привел бы в негодование человек, мучающий ребенка. Если бы допускалось мучить детей для забавы, «люди совершенно не могли бы жить вместе в обществе, где есть какой-то порядок». (Говоря это [p. 239–240], Уилсон имплицитно обращается к критерию общественного сотрудничества.) Он согласен с Робертом Франком (Frank 1988), объясняющим многие иначе непонятные человеческие поступки через обращение к практической ценности обязанностей, которые люди явно берут на себя и «неразумно» выполняют; обязанности поддерживаются эмоциями (p. 231–232; ср. ниже главу 8).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































