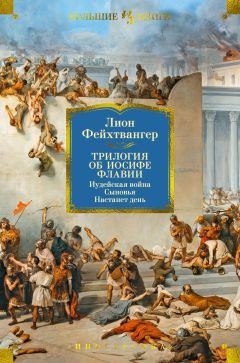
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 89 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Клавдий Регин – полуеврей, человек с Востока. Веспасиан знает, что без помощи Востока он никогда не стал бы императором. Но он – римлянин, Восток наводит на него страх, он не любит его. Нужно извлечь из Востока всю возможную выгоду, но особенно якшаться с ним не следует. Как только Восток стал ему не нужен, он от него отстранился. Он не стеснялся отнимать дарованные им привилегии у целых провинций, как, например, у Греции. И этот Иосиф тоже невыносим. Все литераторы невыносимы, а еврейские – вдвойне. К сожалению, без них не обойдешься. Биографии необходимы. Легче умирать, когда знаешь, что оставишь потомству приятный запах. Хорошая книга устойчивей, чем бюст. Книга этого еврея Иосифа проживет долго. И не дорого, в конце концов. Он не истратил на этого человека и миллиона. Смехотворная цена за несколько тысячелетий посмертной славы. Если, допустим, книга просуществует две тысячи лет, то во что же обойдется один день его посмертной славы? Сейчас сочтем. Во-первых, триста шестьдесят пять помножить на две тысячи, затем миллион разделить на произведение. Если бы только не проклятый туман в голове… Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи. Нет. Не выходит. Но, во всяком случае, выгодное дельце.
У него в рукаве комар. То, что он это еще чувствует, – хороший признак. И он обязательно высчитает, во что ему обойдется один день посмертной славы. Надо бы выгнать комара. Но чтобы говорить, нужна сила, а он приберегает свои силы для приличного последнего слова. Римский император должен умереть с приличным последним словом. «Выгоните комара», конечно, неплохо, но в этом мало достоинства.
Комар улетел. Удачная у него, Веспасиана, смерть. Здесь, в старой уютной горнице, выходящей во двор, где дуб и свиньи, можно умереть легко, честь честью, респектабельно.
Его Тит – хороший сын. Пожалуй, слишком честолюбив. Если бы он за ним так зорко не следил, Тит, наверное, уже много лет как убрал бы отца с дороги. Тит все время пытался навязать ему своего врача Валента. Может быть, он все-таки велел отравить его? Нет. Доктор Гекатей вполне надежен: это просто болезнь кишечника. Две тысячи лет посмертной славы, в общем, за один миллион сестерциев. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи. Впрочем, он не сердился бы на Тита, если бы тот и подсыпал ему маленькую дозу яда. Шестьдесят девять лет, один месяц и семь дней – хороший возраст, таким возрастом можно довольствоваться. Сорок миллиардов долга тоже погашены. Конечно, это было бы не по-дружески, не по-сыновнему, если бы Тит дал ему яду: ведь во время их совместного правления Веспасиан почти никогда не мешал ему. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… А ведь он всегда так легко считал в уме!
Хорошо, что он отдал приказ не допускать к себе своего сына Домициана. Ему не хотелось, чтобы тот сейчас был здесь – Домициан, «Малыш», «этот фрукт»! Веспасиан не любит его. И зачем проклятый Тит так изблудился? А теперь у него только одна дочь, и он не может отшить Малыша. Братец нужен для династии.
Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… Нужно было бы иметь здесь философа. Но философов он выгнал из Италии. Есть четыре вида философов. Во-первых, те, которые молчат и философствуют про себя; они плохи и внушают подозрение, потому что молчат. Во-вторых, те, которые читают регулярные лекции; они плохи и внушают подозрение, потому что говорят. В-третьих, те, которые разъезжают с докладами; те особенно плохи и внушают подозрение, потому что говорят очень много. В-четвертых, нищенствующие философы, циники; эти самые худшие, потому что они ходят даже среди пролетариев и говорят. Несмотря на его неприязненное уважение к литературе, он всех этих типов выгнал из страны. Правда, некоторые задирающие нос аристократы заявили, что это плебейство. Ну что ж, он не салонный шаркун: он старый крестьянин. Больше всего разорялся тогда сенатор Гельвидий. Дьявольски смелый тип этот Гельвидий. До самого конца не желал признавать за ним императорского титула. Такая дерзость даже импонирует. Но она неразумна, если не имеешь за собой двадцати полков. Много было злобы, когда его убрали. Однако в биографии Веспасиана эта история все равно не оставит пятна. Ведь когда он увидел, какую бурю вызвал смертный приговор, он его тотчас же отменил. Правда, лишь после того, как его сын Тит отдал распоряжение о казни, так что при всем желании весть об отмене приговора не могла не опоздать. Ловко он тут сманеврировал. В подобных вещах они с Титом всегда понимали друг друга без слов. Они честно вели себя в отношении друг друга. Большую часть радостей, доставляемых властью, он всегда уступал Титу. Зато Тит должен был брать на себя все неприятные обязанности, дабы основатель династии не сделался слишком непопулярным. Ну, популярным он все равно не стал. Когда ведешь себя разумно, трудно приобрести популярность. Но если династия продержится достаточно долго, то она может приобрести популярность, даже если будет разумна.
Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… Он никак не может высчитать. А ему еще нужно сказать Титу, чтобы тот убрал и младшего Гельвидия, и Сенециона, и Арулена, как бы мудро и молчаливо они ни держались, и еще целый ряд других философствующих господ из оппозиции. Теперь можно себе позволить решительные действия. Династия сидит достаточно прочно. И умирающий хитро улыбается: на его собственной биографии уже не появится ни одного пятна.
Ликвидировать этих господ необходимо. Оппозиция доставляет большое удовольствие тому, кто ее создает. Но нужно, кроме того, знать, чем ты рискуешь, и быть готовым поплатиться за это. Если бы только не было так трудно говорить. Он должен зрело обдумать: отдать ли ему остаток своего дыхания на этот совет Титу или на приличное последнее слово.
Жаль, что у Тита нет сына. Юлия, его дочь, премиленькая девушка. Белая, толстенькая, такой аппетитный кусочек, и она носит свою искусную прическу так, будто ее предок действительно Геркулес, а не владелец посреднической конторы. Настоящий крепкий тип римской женщины – это лучшее, что может быть и в обществе и в постели. И тут у старых родов есть чем похвастаться. Нельзя не признать, «фрукт» обнаружил неплохой вкус, когда с такой энергией притащил Луцию к себе в постель.
Огромного труда стоило тогда, восемь лет назад, оторвать Тита от его еврейки. Если бы его самого захотели оторвать от его Кениды, он бы тоже стал брыкаться. Но есть вещи, которых делать нельзя. Вводить такие жирные налоги и вместе с тем держать руку евреев – невозможно, мой милый. Если ты с финансами сел в лужу, нужно натравливать массы на евреев. От этого правила отступать не приходится. У Тита нередко бывает взгляд его матери, и в глазах – то странное, дикое, безответственное, то, откровенно говоря, немного безумное, что Веспасиана всегда пугало в Домитилле. К тому же мальчик помешан на аристократизме. Он, вероятно, только потому с таким неистовством втюрился в еврейку, что она древней царской крови. Нужно надеяться, что после его смерти Тит не спутается с ней опять.
Ветер усиливается, слышно, как он шумит листвою дуба. Славный старый дуб. Он оказался прав. Стало немного свежее: благовония, которыми умащен Веспасиан, улетучились. Свиньи ушли в свой закуток. Веспасиан – старый крестьянин: настал вечер, и все дела кончены, он может спокойно умереть. До сих пор он немного боялся, как бы у него опять не заболел живот и он не обмарал свои драгоценные погребальные одежды. Но сейчас он уверен, что за те несколько минут, пока это еще протянется, с ним больше ничего не случится. Он честь честью доведет свое дело до конца. И когда в его похоронной процессии перед ним будут шествовать его отцы и праотцы, его мать и бабушка, он тоже не ударит лицом в грязь. Все, что сделано его предками – банкиром, владельцем конторы, посредником, а также трудолюбивыми землевладельцами с материнской стороны, – все это влилось в него, как реки в широкое море. Он управлял имением, он поставил его превосходно, оно процветало, оно стало огромным, оно распространилось за море, стало всем миром, – море только часть его имения, – оно охватывает Азию, Африку, Англию. Его имение называется Рим.
Уже почти стемнело. Его сын стоит на пороге широкой двери, которая ведет во двор. Он невысокий, но крепкий и статный, у него круглое, открытое лицо, короткий, круто выступающий треугольником подбородок. Веспасиан видит своего сына, он слышит, как шумит ветер в ветвях дуба, его заросшие волосами уши полны этим ветром. Издали, сквозь ветер, он слышит звуки труб, – так же они гремели, когда он в Англии или в Иудее отдавал приказ идти в атаку. У его Тита, к сожалению, нет чувства юмора, но зато в его голосе иногда слышится отзвук этих труб. Веспасиан может спокойно дать обожествить себя, спокойно войти в число богов. Если Геркулес и не был его предком, он все же может позволить себе говорить с ним как мужчина с мужчиной. Они будут подталкивать друг друга в бок, Геркулес рассмеется и опустит свою палицу, они сядут рядышком и будут рассказывать друг другу анекдоты.
Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… Туман в его голове вдруг рассеивается, и наступает острая ясность. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи – очень просто: это будет семьсот тридцать тысяч. На круг – он истратил на этого Иосифа миллион. Значит, один день посмертной славы обойдется ему меньше чем в полтора сестерция. Прямо даром!
Он испытывает легкость и полную удовлетворенность. Сейчас уже будет пора. Еще немного, еще две минуты, еще одна… Он должен выдержать. Он должен сохранить достоинство ради дуба.
Он делает рукой условный знак, слабый, едва приметный. Но они замечают, они приподнимают его. Не надо! Ему страшно больно. Он чудовищно слаб, пусть они оставят его на кровати. Но у него нет сил это сказать. Он ведь должен что-то сказать. Но что? Он же знал совершенно точно. Много дней готовился он к своему последнему слову. Они приподнимают его еще выше. Это невыносимо, но у них нет жалости.
Снаружи долетает ветер. Становится немного легче. Пусть не жалеют его. Нужна дисциплина. Он хочет умереть стоя – так он решил.
И действительно, он стоит, или, вернее, виснет, обхватив за плечи своего сына Тита и своего советчика Клавдия Регина, которые поддерживают его. Он тяжело повисает, клонясь вперед, он жалостно пыхтит, по твердой коже его лба стекает пот, капли пота выступили на огромной лысине.
Невозможно. Зачем эти мучения? Полуеврей Клавдий Регин решается, он делает Титу знак. Они дают ему опуститься.
И вот старик, владыка мира, так долго и упорно тащивший, ругаясь и остря, этот мир на своих плечах, опускается на ложе. Огромная тяжесть сваливается с него. Он видит дуб, он ощущает ветер, ощущает, какое блаженство опускаться, не сопротивляясь. Он лежит на жестком ложе, гордый, счастливый. О, теперь ему не нужно экономить, он может расточать свое дыхание. Он может позволить себе в последнем слове достойно сообщить ловкачу Регину, какая была его, Веспасиана, самая ловкая сделка. Задыхаясь, с жуткой игривостью шепчет он ему на ухо:
– А знаете, во что мне обходится один день посмертной славы? Один сестерций, один асс и шесть с половиной унций. Даром, верно? – И лишь после этого, собрав последние силы, с невероятным трудом поворачивая голову от одного к другому, отрывисто произносит: – Цезарь Тит и вы, господа, скажите сенату и римскому народу: император Веспасиан умер стоя.
Так, с ложью, лежа, он испускает дух.
На второй день после этого тщательно набальзамированное тело было перевезено в Рим, уложено на высокие носилки и выставлено в Палатинском дворце, в зале, где вдоль стен стояли восковые бюсты предков. И вот он лежал, мертвый Веспасиан, ногами к выходу, в пурпурном императорском облачении, под языком – медная монета с надписью: «Побежденная Иудея» – плата, приготовленная для лодочника в царстве мертвых; на голове – венок, на пальце – перстень с печатью; перед ним – ликторы в черных одеждах с опущенными связками прутьев. И ежедневно приходили Тит, Домициан, Юлия, Луция, громко называли его всеми именами и титулами. Впрочем, официально он был еще жив, ибо сенат постановил причислить его к богам. Поэтому до сожжения он еще считался живым: ему приносили кушанья, клали перед ним документы на подпись, приходили врачи, исследовали его, публиковали бюллетени о его здоровье.
Но уже во вторую половину дня потянулось мимо его ложа бесконечное шествие – прощаясь с императором, шли сенаторы и римский народ: сотни представителей знати первого ранга, тысячи – второго и многие сотни тысяч из двухмиллионного населения города Рима.
Никто не решался уклониться от этого; было известно, что полиция составляет списки. Явилась также и высшая знать из оппозиции с сенатором Гельвидием во главе. Император приказал умертвить его отца, так как тот смело защищал права сената как законодательного корпуса. Эти господа не были похожи на своих отцов, они не говорили, как те, много и громко, они смирялись. Но они не забывали. Настанет день, когда они смогут говорить и действовать.
Поэтому они сейчас и выказывали свои верноподданнические чувства, подходили к телу в траурных одеждах, как того требовал обычай. Они смотрели на императора: даже в смерти, с закрытыми глазами, его мощный череп казался им мужицким и грубым. Старик Гельвидий в свое время гордо протестовал, когда Веспасиан приписал себе честь восстановления разрушенного Капитолия. Они, молодые, были хитрее, они голосовали в сенате за то, чтобы мертвого парвеню причислили к богам. Пусть ему воздвигают храмы и статуи, он все равно останется мертвым. Вот он лежит, и его длинные тонкие губы не кривятся злобной усмешкой, он не может больше осыпать их грубыми шутками, к которым эти благородные, знатные господа совсем не привыкли. С ненавистью и насмешкой в сердце смотрели они на тело, скорбным почтительным жестом накрывали голову, подобно другим кричали: «О наш император Веспасиан! О ты, всеблагой, величайший император Веспасиан!»
Явился и сенатор Юний Марулл, знаменитый адвокат и красноречивый оратор, один из богатейших людей города. Он не был политическим противником умершего, но он являлся конкурентом императора в его деловых операциях, и между обоими шла скрытая, долгая, ожесточенная борьба. Когда Веспасиан увидел, что не может одолеть соперника экономически, он попытался уничтожить его политически: исключил из членов сената за то, – аргумент, шитый белыми нитками, – что тот когда-то перед публикой на арене боролся со спартанкой. Элегантный, утонченный Марулл принял это изгнание с тем же равнодушным и насмешливым жестом, как и другие мероприятия императора-мужлана. Разжалование, после того как он вкусил все наслаждения жизни, явилось для пресыщенного сноба только новым острым ощущением. Насмешливо обменял он широкую полосу пурпура и обувь высшей аристократии на одежду отречения, на волосяной плащ, страннический посох, нищенскую суму стоика и на строжайшее воздержание философа. Правда, его волосяной плащ был сшит у лучшего портного, его страннический посох инкрустирован золотом и слоновой костью, его сума – из тончайшей кожи. И его теперешний стоицизм был ему не менее к лицу, чем прежняя пышность. Никто не умел элегантнее обосновать положения стоической школы, и когда в своей роскошной библиотеке он рассуждал о философии, то все мало-мальски выдающиеся люди в городе стремились его послушать.
Юний Марулл явился и сегодня в своей одежде философа. Было явным неприличием, что он, бывший сенатор, приблизился к телу в подобном наряде, но чиновники, ведавшие церемонией, не смогли найти достаточно убедительного повода, чтобы его не допустить. Держа у бледно-голубого глаза увеличительный смарагд, он разглядывал умершего слишком обстоятельно и долго и сказал громким гнусавым голосом:
– Я хочу рассмотреть подробно нашего всеблагого, величайшего императора, прежде чем он станет богом.
Стоику разрешено многое, что сенатору, быть может, и не подобало бы.
Деметрий Либаний, придворный актер-иудей, также пробыл у тела неприлично долго. Глаза всех были устремлены на прославленного артиста, когда он проработанной поступью, искусно выражавшей достоинство, скорбь и почтительность, приблизился к носилкам. На должном расстоянии этот невысокий человек остановился, настойчиво устремил немного тусклые, серо-голубые глаза на закрытые глаза императора. У него свои счеты с Веспасианом. Последние годы были для него тяжелыми, и в этом вина умершего. Именно он лишил Либания возможности играть перед своей публикой, он принудил его уступить другим свой титул первого актера эпохи. Разве теперь не кажется уже почти сказкой, что приходилось прибегать к помощи полиции и войск, чтобы успокоить волнения, вызываемые его игрой? При новом императоре, при Тите, друге иудейской принцессы, будет иначе. Все эти бездарности – Фаворы и Латины – лишатся возможности затирать такого актера, как Деметрий Либаний.
Вот он лежит мертвый, его враг. Веспасиан не знает, какое зло причинил ему. Вероятно, не знал и при жизни. Для него дело было очень просто: массам не нравится, что наследный принц связался с еврейкой, – поэтому император показывает, что он этой связи не одобряет, евреев не любит и не дает ходу еврейскому актеру. В искусстве он ничего не смыслил, этот мужик, выскочка. Вероятно, он даже не подозревал, какое зло причинил ему, Деметрию. Да и откуда такому чурбану знать, что он натворил своей идиотской политикой! Никогда бы он не понял, что это значит: видеть, как другой калечит ту роль, которую ты сам мог бы сыграть мастерски. Задыхаешься от скорби об упущенных возможностях. Каким пришлось подвергаться опасностям, чтобы получить хоть какую-нибудь роль! Так, однажды ныне казненный старик Гельвидий, вождь антиимператорской партии в сенате, написал дерзкую пьесу «Катон» и захотел, чтобы эта вещь была сыграна в его доме, перед приглашенными им гостями. Какую борьбу пришлось выдержать ему, Деметрию, пока он решился в ней выступить! Играть в этой пьесе, враждебной существующему режиму, значило рисковать жизнью, а он не был храбрецом, да, кроме того, и роль ему мало подходила.
Спокойно, сдержанно, почтительно стоял он перед умершим, но в душе бурно с ним препирался. «Теперь ты, мертвец, не можешь больше мешать мне, теперь я опять выплыву. Я уже не молод, мне пятьдесят один год, а наша профессия изнашивает. За четыре долгих года я сыграл всего пять больших ролей, – а ведь без практики отвыкаешь, теряется контакт с публикой. Но я тренировался, соблюдал диету, и я смогу. Ты мертв, ты „бог“, но я – живой актер Деметрий Либаний, и если уж на то пошло – у меня статуи будут смеяться, как однажды сказал про мою игру старик Сенека. Берегись, твой сын, новый император, больше смыслит в искусстве, чем ты; он даст мне подняться. Двенадцать лет назад в похоронной процессии Поппеи я играл карикатуру на Поппею. Вот это была игра, это было мастерство! Теперь меня допустят к тебе. И я вас сыграю, ваше величество, на ваших похоронах, – я, а не Фавор. Это еще не решено, я не должен был бы говорить этого, даже думать. К сожалению, здесь нет ничего деревянного, обо что постучать. Может быть, подойти к носилкам и постучать? Нет, нельзя, да они, впрочем, и не деревянные. Но мне дадут эту роль. Теперь, когда ты умер, больше нет причин мне ее не давать. Никто не сыграет ее лучше меня, роль принадлежит мне, это ясно, все это видят. Нужно быть моим врагом, чтобы этого не видеть, а Тит мне не враг. И уж как я тебя сыграю, что я из тебя извлеку – увидишь, ты, император, ты, бог, ты, мертвец, ты, юдофоб».
Актер Деметрий Либаний созерцает умершего, накрыв голову, почтительно. Но в его глазах нет почтительности. Испытующе рассматривают они лицо императора, подстерегают в нем то, что может вызвать смех, подмечают то, чего другие не видят: признаки беспощадной скупости, резкий контраст между доморощенными повадками, расчетливостью, мужицкой грубостью и церемонной пышностью его сана. «Как долго затирал ты меня в мои лучшие годы, не давал мне развернуться. Но теперь уж мой черед. Таким, каким я тебя изображу, будешь ты жить и в памяти людей. Я определю ту маску, ту форму, в которую облечется воспоминание о тебе».
Накрыв голову, он, подобно другим подняв руку с вытянутой ладонью, приветствует умершего и вместе с другими восклицает: «О наш император Веспасиан! О ты, всеблагой, величайший император Веспасиан!»
Уже огневая сигнализация разнесла по отдаленнейшим провинциям весть о смерти императора, а с нею вместе – страх и надежду.
В Англии губернатор Агрикола выдвинул пограничные войска до самой реки Таус, опасаясь, чтобы смена императора не побудила северных пиктов к новым набегам на усмиренную область. На Нижнем Рейне зашевелились хатты, батавы. В провинции Африка губернатор Валерий Фест поспешно снарядил второй отряд всадников на верблюдах; он хотел своевременно показать гарматам, племенам южной пустыни, склонным к разбойничьим набегам, что они и при новом повелителе будут иметь дело с не менее бдительными властями, чем при старом. На Нижнем Дунае между вождями даков носились взад и вперед курьеры: следовало ли сейчас рискнуть и снова перейти римскую границу? На Кавказе, на Азовском море аланы поднимали голову, старались учуять, настало ли уже их время.
Весь Восток был охвачен волнением. Скупой Веспасиан отнял у провинции Греции ее привилегии, дарованные ей поклонником искусств Нероном. Новый император моложе, он вырос на греческих идеях, на греческой культуре. Он, наверное, вернет благороднейшей из народностей, входящих в состав государства, похищенные у нее права.
В Египте губернатор Тиберий Александр вызвал всех офицеров и солдат из летнего отпуска. Его резиденция Александрия – второй по величине и самый оживленный из городов населенного мира – была словно в лихорадке. Тамошние евреи, составлявшие почти половину всех жителей, богатые и могущественные, некогда показали первыми свою преданность новой династии и поддержали тогдашнего претендента на престол, Веспасиана, деньгами и влиянием. Он их за это не отблагодарил. Наоборот: введя особый постыдный налог, как бы заклеймил их и не препятствовал белобашмачникам, антисемитской партии Египта, руководимой некоторыми профессорами Александрийского университета, становиться все наглее. Теперь, надеялись евреи, когда Береника будет императрицей, белобашмачникам – крышка.
Сама провинция Иудея доставляла правительству немало забот. Генерал-губернатор Флавий Сильва был человек справедливый, но его положение становилось все труднее. Немало евреев погибло во время войны, многих продали в рабство, многие эмигрировали. Их города опустели, тогда как греческие – процветали и основывались все новые греко-сирийские поселки. Соперничество между угнетенными, озлобленными евреями и привилегированными греческими иммигрантами приводило к кровавым столкновениям. Смена императора ободрила евреев, пробудила в них надежду, что на опустошенной иерусалимской земле, где теперь единственными строениями были грозные военные бараки, голые и унылые, вскоре снова засверкают их город и их храм.
Летнее спокойствие всей Сирии было нарушено. При дворе персидского царя принцы Коммагены – Магн и Каллиник, земли которых аннексировал Веспасиан, зондировали почву и выжидали. Повсюду устраивались демонстрации в честь этих принцев, и губернатору Траяну пришлось прибегнуть к решительным мерам, чтобы обеспечить порядок.
Вплоть до отдаленного Китая оказала свое действие весть о смерти старого императора. Налогами на роскошь Веспасиан чрезвычайно стеснил торговлю китайским шелком и китайской бронзой. Города на побережье Красного моря ждали, что с воцарением молодого императора для них наступит новый расцвет; желая восстановить старые связи, они отправили посольство к генералу Пан Чао, великому маршалу династии Хань.
Так отовсюду, с надеждой и страхом, люди взирали на Палатин, на нового владыку, на Тита.
Тит же на четвертый день после смерти Веспасиана сидел в своем кабинете и обсуждал с церемониймейстером и интендантом зрелищ устройство траурного празднества. Церемониал похорон императора, причисленного к богам, был неясен, и приходилось уточнять его до мельчайших подробностей, ибо Тит знал, что при малейшей оплошности сенат и народ будут осыпать его злыми насмешками. Впрочем, теперь обсудили все, и эти господа могли бы удалиться, – чего же они ждут?
В глубине души Тит знает, чего они ждут. Об одном еще не переговорили, об одной подробности, несущественной, но которой интересуется весь Рим, а именно о том, кто в шествии будет воплощать умершего. Деметрия Либания публика любит, но все-таки остается щекотливый вопрос: можно ли дать еврею сыграть роль умершего императора? Тит смотрит прямо перед собой, подняв глаза на портрет Береники. Чтобы не сердить отца, он до сих пор держал портрет в своем маленьком кабинете; теперь он перенес его в эту комнату, куда имеют доступ и официальные посетители. Удлиненное, благородное лицо иудейской принцессы смотрит на него, белеет большая прекрасная рука, портрет похож до жути, – это один из шедевров художника Фабулла. Тит, рассматривая портрет, слышит ее чуть хриплый, вибрирующий голос, видит ее царственную поступь.
– Что же касается исполнителя для роли Веспасиана, – бросает он в заключение все еще медлящим собеседникам, – то я в течение дня сообщу вам свои предложения.
И вот он наконец остается один. Он откидывается назад, закрывает глаза; широкое, круглое лицо обвисает. Через четверть часа здесь будет его брат, «этот фрукт», Домициан. Объяснение предстоит не из приятных. Тит искренне готов пойти навстречу желаниям брата; но именно то, что Домициан об этом знает, делает Малыша особенно дерзким.
Новый император открыл глаза, смотрит перед собой почти глуповатым, мечтательным взглядом, выпятив губы, словно надувшийся ребенок. Еще пять минут. Он ужасно устал. Остаться ли ему в домашнем платье, как он есть? Домициан, наверное, явится в полном параде. Что бы Тит ни сделал, брат все равно сочтет это за оскорбление. Если он примет его в императорском одеянии, тот увидит в этом вызов; если в домашней одежде – пренебрежение. Тит решил остаться в чем был.
Офицеры охраны, стоящие у двери, со звоном берут на караул: Домициан приближается. Так и есть, он одет по всей форме. Тит встает, вежливо идет навстречу брату, который моложе его на двенадцать лет. Рассматривает его внимательно, словно постороннего. В сущности, брат выглядит лучше, чем он сам. Его лицо не такое мясистое, рост выше. Правда, его локти странно и неуклюже отставлены назад. Но, в общем, он держится хорошо, кажется сильным, юным. И только вздернутая верхняя губа, думает Тит, выдает его наглость.
– Здравствуй, Малыш! – говорит Тит и целует брата, как того требует обычай. Домициан холодно принимает поцелуй. Но его красивое лицо против воли вспыхивает. И он, конечно, потеет. Тит констатирует это с удовлетворением. Все оттого, что Малыш, несмотря на жару, облекся в такие тяжелые официальные одежды.
Не только жара угнетает Домициана. От этого разговора для него зависит больше, чем для его брата. Правда, он хорошо подготовился. Сенатор Марулл, искони не любивший старого императора и потому друживший с Домицианом, сошелся с ним после своего разжалования еще теснее, и с этим-то дьявольски умным советчиком Домициан подробно обсудил ситуацию. Дело обстоит так: старик не любил младшего, и Тит его не любит. Охотнее всего они бы от него избавились. Тит легко мог бы это сделать, ему дана власть. Но он не сделает, Марулл с очевидностью доказал это Домициану. Тит, наоборот, будет предлагать ему во время их разговора всевозможные компромиссы. Ибо для Тита в династии – весь смысл его жизни, а сейчас династия держится им, Домицианом. Правда, у Тита есть дочь, Юлия, но, спи он хоть с тысячью женщин, у него больше нет надежды родить сына.
Прежде чем начать, Домициан колеблется. Ему хочется наговорить резкостей и колкостей, но он считается с правилами вежливости. Он знает также, что от волнения, когда он говорит громко, его голос срывается, а он хочет быть спокойным, тихим. Он прощает брату, произносит наконец Домициан, что тот уже сегодня не титулует его как подобает, но к этому, вероятно, надо еще привыкнуть.
Внимательно смотрит Тит на губы брата прищуренными глазами, взгляд которых словно обращен вовнутрь.
– Не объяснишь ли ты мне, какие титулы? – спрашивает он, искренне удивленный.
Он убежден, отвечает Домициан, что человек, чье тело покоится внизу, в зале, назначил его единственным наследником. Веспасиан часто с ним об этом говорил, он знает наверно, что был составлен соответствующий документ. Из страха, чтобы это завещание не обнаружилось, Тит и не допускал его к смертному одру отца. Он произносит эти слова тихо, краснея, изредка запинаясь, очень вежливым тоном.
Тит слушает его по-прежнему спокойно и внимательно; он даже делает записи, стенографирует по своей привычке некоторые фразы. Так как Домициан все еще не может договорить свою мысль, то старший машинально сглаживает стилем воск, стирает написанное.
– Послушай-ка, Малыш, – приветливо обращается он к Домициану, когда тот наконец умолкает, – я пригласил тебя сюда, чтобы высказаться откровенно. Разве мы не можем поговорить друг с другом как взрослые разумные люди?
Он твердо решил не поддаваться тому вздору, который только что выложил брат. Все же, против воли, покраснел и он. Эта неспособность скрывать свое волнение у них от матери.
Домициан ждал с боязливым любопытством, как отнесется Тит к его дерзкому заявлению. Он опасался, что Тит накричит на него звенящим голосом, ибо этот солдатский металлический голос всегда нервировал его и вызывал робость. Спокойствие брата ободрило его. Метод, которого ему посоветовал держаться Марулл, оказался, как видно, правильным. Поэтому, продолжал Домициан все так же вежливо, он счел своим священным долгом поставить брата в известность относительно занятой им позиции. Он готов подтвердить и при свидетелях свое мнение насчет утаенного завещания. Если Тит хочет избежать неприятностей, то пусть сделает его хотя бы соправителем.
Тит устал. К чему вся эта долгая, ненужная болтовня, когда так много дела? Министры требуют от него решений, сенат, губернаторы провинций, генералы. Церемонии траурной недели, приготовления к похоронам утомительны, отнимают время. Неужели Домициан действительно не понимает, что Тит искренне хочет с ним договориться? Ах, как охотно разделил бы он с ним власть! Но к сожалению, работать с братом невозможно. Малыш такой неуравновешенный и зловредный, что он разрушит в три недели созданное десятью годами тяжелого труда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































