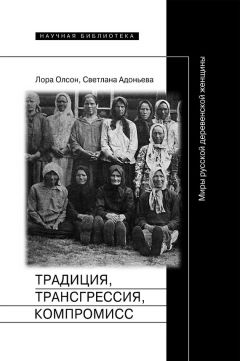
Автор книги: Лора Олсон
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 1
Патриархальные традиции и женское знание в истории российской фольклористики
Мы начинаем наше исследование с рассмотрения вопроса, который занимал нас в течение многих лет изучения женской культуры русской деревни. В своей полевой работе мы обычно учились на тех непониманиях, которые случались между нами и нашими собеседницами – деревенскими женщинами. Нас интересовало, как такие разрывы отразились в трудах фольклористов предшествующих поколений, уделяли ли исследователи вообще внимание обстоятельству, которое мы считаем одним из принципиальных: гендерной организации жизни русской деревни.
Как показывает наш обзор, гендер находился на периферии исследовательского интереса российских фольклористов вплоть до 1980-х годов[14]14
Это утверждение основано на исследовании публикаций, записных книжек и дневников собирателей русского фольклора, хранящихся в фольклорном архиве Рукописного отдела Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), которое было предпринято Лорой Олсон. Многие фольклорные и музыкальные коллекции первой половины двадцатого века содержат только имена людей, от которых были сделаны записи. Собиратели чаще записывали отдельных людей, а не группы. Только несколько собирателей, преимущественно эссеисты и журналисты, описывают жизнь своих информантов.
[Закрыть]. Т. А. Бернштам отмечала, что до ее книги, посвященной жизни деревенской молодежи [Бернштам 1988], к исследованию половозрастной структуры русского общества никто серьезно не относился. Советские исследователи, обращавшиеся к этому предмету вплоть до середины 80-х годов прошлого века, следуя марксистским советским установкам и не ища тому доказательств, полагали, что чем более развито общество, тем менее значимы для него гендерные категории. Дореволюционные исследователи, описывая этнографические явления, отмечали пол и возраст в качестве организующих принципов ритуала, но ограничивались констатацией, рассматривая эти параметры скорее как проявление биологического порядка. В отличие от них Т. А. Бернштам рассматривает пол и возраст как категории, посредством которых организована картина мира крестьян [Бернштам 1988: 3, 6]. Пол и возраст, как она показала, являются ключевыми параметрами социальной структуры крестьянского общества[15]15
Работа Т. А. Бернштам опиралась на позиции русских ученых, которые отмечали важность категорий пола и возраста для понимания русских ритуалов: П. Г. Богатырева, Д. К. Зеленина (особенно его «Russische (Ostslavische) Volkskunde», 1927) и В. Я. Проппа. Наша точка зрения также сформировалась под влиянием этих ученых, но, в отличие от Бернштам, работавшей в основном с архивными документами и историческими источниками, мы в качестве источников использовали наши полевые исследования.
[Закрыть]. Но если этнографы хотя бы фиксировали пол и возраст в своих описаниях[16]16
Этнографы склоняются к тенденции изучать фольклор как часть социальной и экономической жизни людей, предпочитая не рассматривать фольклорные тексты в отрыве от нее.
[Закрыть], гендерные характеристики фольклора долгое время не принимались во внимание вовсе.
Для исследователей XIX века «народная словесность» была массивом, не обладающим какими-то индивидуализирующими признаками. Например, А. Н. Афанасьев указывал только место записи сказки, но ничего не сообщал о ее исполнителе. Региональные и этнические особенности были важны, но предполагалось, что фольклорные произведения представляют скорее весь народ в целом, нежели конкретного исполнителя [Пыпин 1856: 49][17]17
Другое объяснение, впрочем не противоречащее нашему, дается Натальей Кононенко. Она пишет, что ученые не интересовались исполнителями, «потому что они предполагали, что устная литература рождается в среде высших классов и что народ, у которого они собирали фольклор, просто вспоминает тексты, созданные где-то еще, и к тому же помнит их плохо» [Kononenko 1994: 29].
[Закрыть]. Гендер находился вне поля зрения фольклористов вплоть до того времени, пока не появился интерес к личности исполнителей. Ситуация стала меняться в 60-х и 70-х годах XIX века: стремясь выявить наиболее ярких певцов и сказителей, фольклористы стали интересоваться конкретными информантами. Они делали это с целью улучшения своих фольклорных собраний, но также, возможно, и для того, чтобы представить нечто в противовес тому портрету крестьянства, который составила журналистика того времени [Frierson 1993a: 163, 168, 173]. Фольклористы представляли сказителей «благородными дикарями», деревенской интеллигенцией, хранящей сокровища национальной культуры. В этом контексте женщины-исполнительницы сказок и былин иногда выглядели бледно. Исполнение эпических жанров женщинами (в отличие от песен и причитаний) оценивалось как упадок традиции, предвосхищающий ее полное исчезновение. Поскольку женская эпическая традиция как самостоятельное явление не рассматривалась, нам неизвестно доподлинно, чтó именно женщины предпочитали исполнять и удерживать в памяти и чем определялся их выбор.
Так, вплоть до конца 1980-х годов из-за специфики исследовательских установок характер женского участия в фольклорной традиции не описывался детально и полно.
К началу ХХ века беллетристика, журналистика и популярная литература представляли женщин основными хранительницами традиции; предполагалось или открыто утверждалось, что крестьянки служат великую службу русскому народу, сохраняя национальные фольклорные сокровища. Однако в то же время ученые часто указывали на несовершенство женщин в роли хранителей этого бесценного культурного достояния. В результате женщины оказались зажатыми между этими оценками: общество возлагало на них тяжелую ношу хранительниц национального духа, в то время как ученые считали, что они с ней плохо справлялись. Неудача женщин была неизбежна, поскольку им парадоксальным образом была отведена миссия хранительниц патриархального наследия. И, поскольку знания деревенских женщин были «освоены» учеными и поняты как общее знание, их голоса оказались неразличимыми, а знание не осмыслено как собственно женское знание.
Наш полевой исследовательский опыт, работы современных российских этнографов и фольклористов и подходы, сформированные западной феминистской критикой, позволяют нам представить альтернативную интерпретацию вопроса о месте женщины в фольклорной традиции.
Ниже мы рассмотрим исследовательские установки, свойственные российской фольклористике с XIX века по середину XX века, на примере четырех жанров: сказок, былин, причитаний и песен – жанров, которые были признаны учеными основными для русской традиции. Мы полагаем, что приверженность романтическому представлению о традиции как о «предании отцов» [Fox 1987: 568] не позволила исследователям заметить, что женщины следовали своим, не менее ценным для них, «преданиям». Фольклористы упускали из виду то, что мы считаем наиболее важным для понимания природы фольклора: ту функцию, которую он выполнял для людей, его практикующих. Романтическое увлечение поиском исконного и древнейшего приводило к тому, что функции фольклора не учитывались; одним из результатов этого стало то, что женское исполнительство не ценилось так высоко, как мужское. Единственным жанром, гендерная природа которого была установлена, были причитания, поскольку в русской традиции они являются исключительно женским жанром.
Былины, сказки, причитания и песни не стали предметом отдельного анализа в нашей книге: в современной русской деревне эти жанры не являются продуктивными[18]18
Свидетельством продуктивности фольклорного жанра служит появление новых вариантов фольклорного произведения. См. [Dégh 1995: 34 – 35].
[Закрыть]. Тем не менее почти все они имеют «преемников» в современном фольклоре. В наши дни мы фиксируем волшебные сказки редко, но записываем множество анекдотов, иногда – детские сказки, сказки о животных и бытовые сказки. Ближайшими родственниками традиционных сказок, которые мы иногда слышим в деревне, могут считаться мифологические нарративы (рассказываемые в популярной форме быличек) и биографические нарративы (см. главы 3 и 8). Былички/мемораты и рассказы из жизни составляют большую часть устных фольклорных нарративов деревенских женщин, однако до последнего времени они не являлись объектом исследования фольклористов – отчасти потому, что биографические рассказы привязанных к дому женщин считались менее интересными, чем рассказы «мобильных» мужчин [Dégh 1995: 68]. Былина прекратила свое существование в качестве продуктивного жанра к середине прошлого века; ее следы прослеживаются в фильмах, являющихся частью российской популярной культуры, которые модернизируют историю с целью познакомить младшее поколение с героями «прежних дней» [Beumers 2014]. Причитания вышли из активного употребления младшего поколения (особенно родившихся после Второй мировой войны), но по-прежнему практикуются многими старшими женщинами. Жанр духовного стиха (исполняемого хором) может в некоторых регионах замещать собой причитания [Гладкова] (см. главу 9). Наиболее ценными народно-песенными формами фольклористы и музыковеды считают баллады, исторические песни, а также обрядовые и традиционные лирические песни. Но в наши дни только песни (чаще в современной форме романсов) и частушки остаются в активном репертуаре и исполняются на праздниках или в кругу друзей (см. главы 4 и 5).
Сказка
В 1860-х годах отдельные фольклористы стали фиксировать сведения о своих информантах (пол, возраст, занятие и т.п.). Этот подход был применен П. Н. Рыбниковым [Песни, собранные П. Н. Рыбниковым 1861 – 1867]. В течение трех последующих десятилетий собиратели сказочного и былинного эпоса постепенно стали не только записывать персональные сведения об исполнителях, но и выстраивать свои издания по персоналиям. Индивидуальность исполнителя (его репертуар и взгляды) служила основным принципом, организующим их исследования. Отчасти причиной ориентации на исполнителя было желание ученых добиться наилучшего качества текстов. В отношении сказки русские ученые – так же, как и Гриммы, – определяли качество текста по тому, насколько он соответствовал канону. В фольклористике это качество было названо «сказочной обрядностью» и определялось целым рядом признаков: утроениями (или «трехчленностью» [Азадовский 1932; Азадовский 1938]), зачинами и концовками, присказками и переходными формулами и наличием ритмически оформленных элементов. Ученые считали эти признаки свидетельствующими о древности сказки.
Установка на архаику, свойственная исследованиям этого времени, приводила фольклористов к тому, чтобы ценить мужчин-исполнителей выше, чем женщин. Некоторые собиратели считали, что сказки «исконно» рассказывали не любители, которым не хватило бы поэтического мастерства для создания столь сложно организованных формульных текстов, но профессионалы – бродячие актеры-скоморохи, которые исполняли сказки и песни, играли на музыкальных инструментах, выступая перед князьями, боярами и простыми людьми[19]19
См. [Бродский 1904: 8, 9; Азадовский 1932: 23; Howell 1992: 161 – 163, 169, 172, 173, 176]. Позднее теория о том, что сказки рассказывались профессионалами, утратила свою популярность. См., напр., [Howell 1992: 206].
[Закрыть]. В Древней Руси женщины никак не могли быть скоморохами. В статье 1904 года Н. Л. Бродский особо подчеркивал это обстоятельство: «сказка, которую теперь можно услышать от всякой старухи, могла выработаться только в известной школе, она, несомненно, побывала в опытных руках специалиста-бахаря» [Бродский 1904: 2]. Представление о существовании профессиональной школы сказочников по определению исключало женщин.
Бродский считал женщин неполноценными информантами для исследований фольклора, поскольку они были для него лишь «последними хранителями» и того, что он считал древнейшей традицией: «наши собиратели сказок записывали их от тех, кто является лишь последним хранителем сказочного материала, получившим его как бы по наследству от стариков-предков» [Там же]. Комментарии других исследователей только дополняют эту картину. В своем издании 1915 года братья Соколовы утверждали, что мужчины были главными хранителями фольклорной традиции в Белозерском крае; женщины, – пишут они, – были «менее искусными, менее опытными», чем мужчины [Соколов, Соколов 1999: 57]. С. Савченко отмечал, что женщины становились сказительницами скорее «по необходимости», нежели по причине своего умения рассказывать сказки; их слушателями были дети, которым они приходились бабушками, матерями или няньками, мужчины же рассказывали сказки взрослым [Савченко 1914: 29 – 31]. Н. Е. Ончуков считал сказки мужской практикой, он высоко ценил волшебные сказки, рассказанные «тем старинным укладом, которым оне, вероятно, первоначально были составлены, с полным сохранением того склада их, который А. Н. Афанасьев называет “обрядностью” сказки» [Северные сказки 1998: 27]. Ончуков отметил, что в отличие от мужчин рассказчицы вставляют в свои сказки реалистические подробности женской жизни, особенно ухаживание и свадьбу [Там же: 27, 41]. Все собиратели отдавали предпочтение волшебным сказкам, которые обычно рассказывали вечером мужчины на отхожих промыслах (охотники, рыбаки, лесорубы, извозчики и пр.). Ученые признавали существование ситуаций, в которых рассказывали сказки женщины, – дома, на вечерних собраниях молодежи или детям, – но находили эту практику сказывания менее значимой для сохранения традиции, поскольку считали, что такая обстановка не предполагала обмен сказками между искусными исполнителями[20]20
Современный фольклорист Джек Хейни повторяет некоторые из подобных мнений как общепризнанный факт (однако не цитируя их) в своем «Введении в русский фольклор» [Haney 1999: 18].
[Закрыть].
Некоторые из этих ученых описывали женскую манеру сказывания, следуя тем же стереотипам, которые сложились по отношению к женским текстам в русской литературной критике XIX столетия[21]21
Соколовы сами проводят сравнение с женской поэзией [Соколов, Соколов 1999: 199а: I, 29].
[Закрыть]. Братья Соколовы писали: «если мы вообще в женской поэзии находим свои типичные особенности, господство чувства, тонкость и нежность задушевного тона, то весьма сходное мы обнаруживаем и в сказках, говоримых женщинами» [Соколов, Соколов 1999: I, 129]. Соколовы заметили, что одна рассказчица использовала большое количество уменьшительно-ласкательных форм, чтобы выразить свое сочувствие персонажам; другая прибегала «к усилению впечатления путем буквального повторения того или другого слова, или путем тавтологических повторений: “глубокой, глубокой ров”, “девицы плацют, ужасно как плацют”»; эта же сказочница, как отметили исследователи, представляла положительные характеристики героев «в мягких, женственных чертах» [Там же: 131]. Хотя уменьшительные формы действительно используются в женской речи при обращении к детям и могут, следовательно, быть маркированы как женские, ситуация далеко не так проста, как ее изображали Соколовы. Уменьшительные формы, описывающие предметы домашнего обихода, часто используются для того, чтобы обозначить близость предмета, интимизировать его; Соколовы приводят примеры именно таких употреблений [Адоньева 2004: 266−273]. Повторяющиеся слова поддерживают ритм сказки и вовсе не обязательно создают эмоциональный эффект. Что касается описания героев, то Соколовы не приводят примера; нам же описание рассказчицей персонажей кажется весьма лаконичным: «Жил-был богатый купец. Был у них сын Ванюшка» [Соколов, Соколов (1915) 1999: 1, 192]. Трудно полностью воссоздать и определить те стандарты, посредством которых фольклористы оценивали сказочниц-женщин, но очевидно, что тогдашняя парадигма склоняла их к тому, чтобы находить в этих сказках отражения общего мнения о женской физической слабости и мягкости, большей чувствительности и склонности придавать особое значение «делам сердечным» [Vowles 2002: 66].
В начале 1910-х годов были заложены основные принципы описания женского типа сказывания, сохранявшиеся десятилетиями. В издании северных русских сказок Н. Е. Ончуков [Северные сказки 1908] отводит целую главу предисловия – восемь страниц – описанию различий между женской и мужской манерами сказывания. Он подчеркивал «реализм» женских сказок, утверждая, что женщины рассказывают сказки о том, что они знают, и, соответственно, включают в них описание важных моментов своей жизни, таких как свадьба, рождение детей и семейные отношения. Ончуков признавал при этом, что такие бытовые описания сопутствовали фантастическим событиям и их приходилось «отбрасывать», чтобы увидеть реалистическое отражение жизни женщин. Но тем самым Ончуков сводил женское сказывание к сырому этнографическому материалу. Он придавал особое значение ценности таких сказок для этнографов, но не проявлял никакого интереса к тому, в чем состоит их ценность или значимость для самих женщин – рассказчиц и слушательниц[22]22
По мнению Т. А. Бернштам, интерпретация сказок как не очень внятного отражения этнографической реальности представляет собой одну из проблем, связанных с изучением народных сказок в России. Она утверждает, что ученые строят свои интерпретации «безо всякого представления о той роли, которую народная сказка играет в традициях и культуре общины» (см. [Бернштам 1996: 620]).
[Закрыть]. Так, например, он рассматривал сказку «Анюшка и Варушка». В ней рассказывалось о двух девушках: у одной есть мать, а у другой нет, они живут в двух верстах друг от друга и каждый день ходят друг к другу в гости. Ончуков оценивает эту сказку так: «Если отбросить элемент невероятного в конце сказки, картина получается очень реальная» [Северные сказки 1998: I, 41]. Но «конец» и есть кульминация всей сказки, и именно он образует ее смысл. В этой сказке Анюшку трижды предупреждают, что если она пойдет еще раз в гости к своей подруге, то та ее съест, но она защищает подругу: «И пойдёт Анюшка к Варушке в гости. Ей девка встрету с именинами (с пирогом). “Куда ты пошла, Анюшка?” – “К Варушки в гости”. – “Не ходи ты к Варушки, тебя Варушка съес”. – “Нет, мы не первой день гостимся, ходим, она ко мне, а я к ей”. Идёт вперёд, жонка с полосканьем идёт: “Куда ты пошла, Анюшка?” – “К Варушки в гости”. – “А не ходила бы, тебя Варушка съес”. – “Не раз ведь ходим, гостим”. Опять вперёд пошла. Опять мужик едет с сеном. “Куда ты пошла, Анюшка?” – “К Варушки в гости”. – “А не ходила бы ты, девка, сегодни Варушка людей ес”». [Северные сказки 1998: II, 265]. Варушка все-таки съедает свою подружку; мать Анюшки, придя к ней, обнаруживает на пороге дочкины руки и ноги. Крестьяне ставят железный тын вокруг дома, чтобы заточить Варушку, она умирает, и крестьяне сжигают дом. Если эта сказка про женскую жизнь, то мы бы оценивали не реалистическое описание ритуала гостьбы, но социальный комментарий о важности матерей (у Варушки-людоедки нет матери, она сирота); предупреждение об опасности, исходящей от ведьм (см. главу 7); и предостережение: девушки, не внимающие предупреждениям сообщества, подвергают себя опасности.
Через два десятилетия после Ончукова и Соколовых критики продолжали использовать те же критерии для оценки сказок. В собрании 1932 года М. К. Азадовский вводит термин «женская сказка» (т.е. сказка, рассказанная женщиной) и использует эту категорию, чтобы показать, как личные характеристики повествователя отражаются на морали сказок. Например, сказки о «неверной матери» часто заканчиваются ее смертью, но, как отмечает Азадовский, женщины смягчают это наказание, отправляя мать в заточение вместо того, чтобы убить ее [Азадовский 1932: 29]. Как и собиратели до него, Азадовский находит в женских сказках особую «задушевность, мягкость и нежность тона», сосредоточенность на бытовых и психологических деталях. Об одной из женщин-рассказчиц он пишет, что «сюжетные линии для нее только канва, необходимая для скрепа бытовых и психологических деталей» [Там же: 54].
В 1969 году Э. В. Померанцева в комментариях к сказкам Анны Корольковой повторяет некоторые из характеристик женской сказки, не связывая эти характеристики с гендером. Она пишет, что, хотя Королькова и была мастером традиционной сказки, она постоянно нарушала каноны жанра, склоняясь к быту и реалистичности. Померанцева воспринимала трансгрессии и нововведения Корольковой как подтверждение того, что традиция умирает[23]23
Померанцева пишет: «Сама рассказчица не чувствовала характерных отличий разного типа сказок, что объясняет тот факт, что она, с одной стороны, легко и естественно вводила повседневные реалистические подробности в волшебную сказку и, делая это, связывала ее с современной жизнью, и, с другой стороны, наполняла свои бытовые сказки элементами фольклорной ритуальности» [Русские народные сказки 1969: 16, 20 – 21].
[Закрыть]. В тех же случаях, когда исследователи писали о сказочниках-мужчинах, нарушающих канон, они приветствовали каждое такое изменение как продуктивную инновацию. Так, например, о сказочнике Егоре Сороковикове Азадовский пишет, что он не только сохраняет традиционные устоявшиеся концовки волшебных сказок, но также «творчески перерабатывает их, изменяя их, придавая им индивидуальный колорит» [Cказки Магая 1940: 21]. Инновациям рассказчиков-женщин позитивная оценка давалась редко[24]24
Линда Дейг соглашается с Азадовским и Ончуковым и приводит подтверждение из венгерских сказок, чтобы показать, что в сказках, рассказанных женщинами, подчеркивается «женская точка зрения», обусловленная их специфическим жизненным опытом [Dégh 1995: 69]. Поскольку у нашей работы были другие цели, мы не проводили аналогичного анализа в отношении русских сказок.
[Закрыть].
Итак, аргументы в пользу тезиса о том, что женщины отступают от исконной сказочной традиции, выстроены на следующих основаниях: (1) древние народные сказки рассказывались профессионалами или членами «школы»; (2) ритуальность и традиция обнаруживаются именно и только в наиболее «формульных» сказках; и (3) это качество, «формульность», гораздо более желанно, чем «реализм».
Первое убеждение основано на романтических представлениях, отождествляющих традицию и образование, «школу». И. Г. Гердер, немецкий философ-идеалист XVIII века, писал, что «все образование должно происходить из имитации и упражнений, посредством которых образец переходит в копию, и как это может быть лучшим образом выражено, чем понятием традиция?» [Fox 1987: 567]. Как отмечает Дженифер Фокс, функция образования по Гердеру – не прогресс, как это представляли в эпоху Просвещения; напротив, образование служит поддержанию социального порядка, который в Германии XVIII века (так же, как и в России) предполагал удерживание женщин в стороне от просвещения. Для Гердера основная социальная роль женщины состояла в обеспечении детей физической, а не духовной пищей, последняя же обеспечивалась традицией «отцов». Даже если русские последователи западноевропейских романтических идей придерживались более прогрессивных идей относительно роли женщины в обществе, можно утверждать, что и они под традицией понимали «предание отцов», выражаясь словами Гердера [Там же: 568].
В действительности же, даже если профессиональные сказители и существовали, они были не единственными искусными рассказчиками. Свидетельства, собранные в ХХ веке, подтверждают, что сказочный эпос был искусством, которым обладали многие и с разной степенью мастерства. В конце XIX – начале XX века, когда собирание фольклора было наиболее продуктивным, сказывание сказок мужчинами обычно происходило в публичном пространстве, в то время как женщины рассказывали сказки в приватной обстановке, в кругу семьи. Собирателям приходилось бы отклоняться от привычных стратегий записи фольклора, чтобы найти женщин-сказочниц. Более того, сообразуясь с правилами скромности, многие женщины неохотно рассказывали бы сказки посторонним, особенно мужчинам [Зеленин 1997: 23 – 24]. Как отмечает Ольга Кадикина, во многих районах не только молодые женщины, но даже старухи, известные рассказчицы, отказывались рассказывать сказки исследователям, говоря, что им «неловко» и «стыдно» [Кадикина 2003].
Обстоятельства, при которых могли рассказываться сказки, диктовались принятыми в деревенском сообществе нормами: женщины обычно рассказывали сказки дома, а не на работе или в поле, как это обычно делали мужчины. Присматривая за детьми, они рассказывали им сказки для развлечения, социализации и образования. Сказки рассказывались, когда девочки-подростки собирались рукодельничать на беседы в избы к старухам, которые часто оказывались талантливыми рассказчицами. Известно, что женщины, чьи дети были еще малы, не принимали активного участия в рассказывании сказок: считается, что в этом возрасте они «слишком заняты» [Соколов, Соколов 1999: I, 190; Кадикина 2003]. Существует очень мало непосредственных свидетельств того, что взрослые женщины рассказывали сказки своим ровесницам; напротив, взрослые мужчины часто рассказывали сказки в своем кругу – обычно во время работ, требовавших проведения значительного времени вдали от дома (рыбалка, лесозаготовки, охота и пр.). Если же женщины рассказывали сказки для своих ровесниц, то это происходило обычно во время праздников в качестве развлечения[25]25
Поскольку некоторые собиратели отмечали, что женщины-рассказчицы рассказывали им «взрослые» (эротические) сказки, мы можем предположить, что женщины действительно рассказывали такие сказки в кругу ровесников (была ли эта аудитория исключительно женской или же смешанной, неизвестно). См., например, комментарии Ончукова по поводу его информантки Натальи Дементьевой, которая рассказала ему пять «порнографических» сказок, не испытывая при этом не малейшего стыда [Северные сказки 1998: 230]. Также см. [Кадикина 2003].
[Закрыть].
Другая проблема, связанная с утверждением о том, что мужчины являются основными или «оригинальными» рассказчиками сказок, вращается вокруг термина «профессиональный». Он может быть применен к гораздо более широкому кругу исполнителей, нежели только к наследникам средневековых скоморохов. Например, одинокие старые женщины часто работали в чужих домах, занимаясь рукодельем и присмотром за детьми в обмен на жилье и стол; в таких случаях рассказывание сказок было одним из умений, которое делало их более привлекательными для потенциальных нанимателей. Как пишет Карнаухова об одной сказительнице, «в семьи ее принимают особенно охотно, потому что зимние длинные вечера она заполняет сказками, не переставая к тому же прясть» [Карнаухова 2006: 389][26]26
Мастерство определяется объемом репертуара и способностью к импровизации, а также сказочной обрядностью. И женщины, и мужчины-сказители достигают самых высоких оценок по этим критериям; до некоторой степени это зависит от возраста: чем старше сказитель, тем выше его уровень. См. описание сказителей, данное Карнауховой: [Карнаухова 2006: 389, 392, 394, 399 – 400].
[Закрыть]. Так же как и мужчины, некоторые женщины считали себя искусными сказителями и были заинтересованы в этой репутации. Мы знаем об этом, поскольку женщины-сказительницы высказывали свое мнение о других известных им сказительницах и ревниво охраняли свою репутацию по отношению к другим [Иванов 1990: 62 – 63; Кадикина 2003].
Второе утверждение – о том, что сказочная обрядность и традиционность обнаруживаются именно в наиболее формульных сказках, – представляется проблематичным, поскольку здесь посредством одного свойства, характерного для определенного типа сказок – а именно «обрядности», – определяется «фольклорность» сказки в целом. Так называемые бытовые сказки – сатирические рассказы о солдатах, попах, шутах, женах и пр. – не следовали сказочному речевому канону в той степени, в которой это имело место при исполнении волшебных сказок: сюжет в них был более важен. Эти сказки рассказывали как мужчины, так и женщины[27]27
Анализируя русскую бытовую сказку, Ю. И. Юдин не уделяет внимание тому, кто их рассказывает [Юдин 1988: 402]. Карнаухова рассматривает этот вопрос в контексте описания сказителей, которых она интервьюировала в конце 1920-х годов. Она отмечала, что мужчины часто рассказывают сказки про солдат, а женщины столь же охотно рассказывают «бытовые сказки» про попов, умных жен, чертей и т.д.; и те и другие рассказывают смешные сказки с эротическим компонентом [Карнаухова 2006].
[Закрыть]. Более того, сказки о животных, которые женщины рассказывают детям, как показывают замечания Карнауховой, действительно вполне формульные и ритуализированные. Эти сказки требуют от сказителя мастерства и вовлеченности. Не все сказители удосуживаются следовать всем законам жанра – менее искушенные сокращают «бесконечные» повторения, которые являются отличительной чертой таких сказок. Многие сказители не ценили детские сказки и были удивлены, когда Карнаухова спрашивала о них; но некоторые (такие, как 64-летняя П. Коренная, искусная рассказчица сказок о животных) ощущали себя «хранителями сказок» и считали сказывание таких сказок искусством [Карнаухова 2006: 399 – 400].
Как мы видим из приведенных выше примеров, представление о том, что формульные или волшебные сказки представляют собой бóльшую ценность, чем бытовые или детские сказки, поддерживалось не только учеными, но и самими сказителями, по крайней мере, в ХХ веке. В обоих случаях – и когда сказочницы представлялись нарушительницами архаической традиции, и когда просто рассматривались вне традиции – оценка могла быть связана с тем, что и ученые, и сами исполнители не знали, каким образом относиться к женскому творчеству. Если мужчины рассказывали сказки прежде всего для того, чтобы развлечь себя и других, то сказители-женщины использовали сказки – отчасти, а иногда и в первую очередь – как средство передачи ценностей следующему поколению. И действительно, исследователи заметили эту специфику, но недостаточно оценили дидактику народной сказки, ассоциируя ее с повседневным использованием и «необходимостью». Здесь уместно вспомнить разделение, которое проводит Фуко между доминирующим и доминируемым типами знания: «Я полагаю, что под доминируемыми знаниями следует понимать нечто иное, нечто в некотором смысле совершенно отличное, а именно, целый ряд знаний, которые были дисквалифицированы как неадекватные своей задаче или недостаточно проработанные: наивные знания, располагающиеся глубоко внизу в этой иерархии, ниже требуемого уровня познания и научности» [Foucault 1980: 82].
Формы доминируемого знания, которым располагали русские крестьянки, часто были недоступны собирателям в связи с принятыми в сообществе коммуникативными запретами, ограничивающими круг тех, кому женщины могли что-то рассказывать. Кроме того, нормы крестьянского общества предполагали практику освоения определенных жанров фольклора на определенных стадиях жизни. Девочки-подростки, которые присматривали за младшими братьями и сестрами, учились сказкам и колыбельным. Они также разучивали свадебные песни, включая причитания, и пели их на свадьбах своих ровесниц. Выйдя замуж, молодые женщины осваивали бытовую магию (обереги для скота и урожая, лечебные заговоры для защиты, исцеления и успокоения детей). С возрастом они учились оплакивать покойников и рассказывали сказки внукам и молодежи. На каждой из следующих стадий женщины не забывали знания, которые практиковались ими ранее, но их публичная демонстрация обычно рассматривалась как неприличное поведение «не по возрасту» [Кадикина 2003]. Таким образом, доминируемое знание женщин часто недооценивалось или даже не исследовалось фольклористами, которые искали вполне определенные формы знаний для пополнения своих научных собраний[28]28
О. Кадикина отмечает, что исследователи обычно предпочитают концентрировать внимание на одном жанре; она предполагает, что такой выбор может быть произвольным или зависеть от запланированной программы. В то же самое время в своих биографических высказываниях большинство женщин-информантов утверждают, что их репертуар состоит далеко не из одного жанра [Кадикина 2003].
[Закрыть].
Еще один вопрос остается открытым для обсуждения: отличаются ли сюжеты, которые рассказывают женщины, от тех, которые рассказываются мужчинами. Бенгт Холбек, исследователь датских сказок, предполагает, что в этой традиции, поскольку и сказитель, и слушатели идентифицируются со сказочным героем, мужчины рассказывают больше сказок, в которых действует протагонист-мужчина, в то время как женский репертуар содержит истории, изображающие и мужского, и женского протагонистов в приблизительно одинаковых пропорциях [Holbek 1989: 42]. Джек Хейни утверждает, что это не относится к русскому материалу: «Даже несмотря на то, что сравнительно мало русских сказок имеет женского протагониста, эти сказки обычно рассказывались мужчинами» [Haney 1999: 18][29]29
Подобным же образом Хейни утверждает, что в ХХ веке мужчины не рассказывали сказок о животных, считая их слишком наивными, а женщины не рассказывали непристойных сказок. Ни одно из этих утверждений нельзя признать справедливым. В собраниях Соколовых и Ончукова мужчины рассказывают животные сказки; по меньшей мере одна из информанток Ончукова рассказывала непристойные сказки, которые он счел невозможными для публикации. См. [Северные сказки 1998: I, 230]. Об открытой сексуальности женской сказки писал Никифоров [Никифоров 1929: 120 – 127, Никифоров 1995: 524].
[Закрыть]. Но, судя по нашим данным, это не так. Подсчет сказок, рассказанных мужчинами и женщинами в начале ХХ века и опубликованных в собраниях Ончукова и братьев Соколовых, а также в более поздних собраниях (за период с 1932 по 1983 год), опровергает утверждение Хейни и показывает, что наблюдение Холбека приложимо и к русскому контексту. Мужчины действительно рассказывают гораздо больше сказок, в которых действует мужской протагонист: лишь 3 – 4 процента сказок с женским протагонистом в сказках, записанных от мужчин, можно найти в ранних собраниях, и 25 процентов – в более поздних. В собрании Ончукова в половине от общего числа сказок, записанных от женщин, главный герой – женщина, а в более поздних собраниях – 60 процентов[30]30
Мы сосчитали все тексты в этих собраниях, включая нарративы, которые могут быть классифицированы как былички и личные истории; мы исключили только сказки о животных, небылицы и присказки, поскольку в них нет отчетливого протагониста или гендер протагониста не ясен. В случаях, когда в сказке действуют муж и жена, мы решали, кто главный протагонист, исходя из того, какой персонаж больше действует, а если объем действий был приблизительно одинаков, основывали наше суждение на том, кто оказывался «победителем» в финале. Мы получили следующие цифры: собрание Соколовых (т. 1): 14 сказителей-женщин рассказали 23 сказки о мужчинах, 6 – о женщинах, 4 других; 33 сказителя-мужчины рассказали 120 сказок о мужчинах, 4 – о женщинах и еще 6 других сказок; собрание Ончукова [Северные сказки 1908: I]: 30 сказителей-женщин рассказали 54 сказки о мужчинах, 27 сказок о женщинах и 7 других; 16 сказителей-мужчин рассказали 47 сказок про мужчин, 2 сказки о женщинах и 11 других; собрание Онегиной [Сказки Заонежья 1986]: 14 сказителей-женщин рассказали 21 сказку про женщин и 14 сказок, герой которых – мужчина; 11 сказителей-мужчин рассказали 7 сказок про женщин и 21 – про мужчин. И, наконец, последние статистические данные: в антологии ХХ века [Русские народные сказки 1993] из 87 сказок о мачехах и падчерицах 12 были рассказаны мужчинами (14 процентов). Статистика, которую приводит Линда Дейг относительно венгерской традиции, отличается радикальным образом. По-видимому, этот вопрос требует дальнейшего межкультурного исследования [Dégh 1995: 67].
[Закрыть]. Поскольку мы не можем говорить о каких-то особенных «женских» сказках так, как когда речь идет об эпосе, который гораздо легче квалифицировать (см. обсуждение ниже), остается лишь сделать вывод, что женщины действительно проявляют особый интерес к сказкам с женским главным героем. Такое отличие может отражать ситуацию, в которой рассказывается сказка, а также ее аудиторию: мужчины рассказывают свои сказки в мужской аудитории во время работы, женщины чаще рассказывают их в смешанной аудитории молодежи и подростков (на беседах) или в кругу семьи. Необходимость рассказывать сказки в смешанной аудитории заставляла женщин совершенствоваться как в сказках с героями-мужчинами, так и в сказках с героинями; но, вероятно, сказки с женским протагонистом были ближе сказительницам, поскольку в них отражались их собственные интересы и взгляды.









































