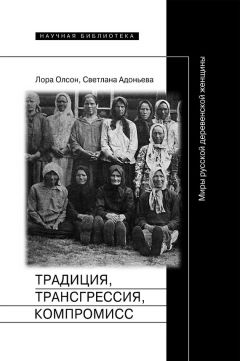
Автор книги: Лора Олсон
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Былина
Если древняя сказочная традиция считалась мужской, то в еще большей степени это касается былинного эпоса. Эпос ассоциируется с эпохой формирования национальной идентичности; эпический герой представляется мифологическим основателем этноса. Как пишут Д. М. Балашов и Т. А. Новичкова, «вопрос [как он ставится в эпосе]: кто – кого? – вопрос рождения и утверждения этноса и вопрос, каким будет этнос, чье национальное начало победит и утвердится в борьбе» [Балашов, Новичкова 2001: 37]. Эпическая коллизия не только утверждает национальное начало – она утверждает и саму патриархальную социальную систему. В сюжетах о том, как герой завоевывает жену, представлена возможность доминирования как мужского, так и женского родов; но женская родовая линия в результате терпит поражение: герой непременно побеждает свою невесту-воительницу и таким образом утверждает патриархат.
Соответственно, нет ничего удивительного в том, что русская былина считалась учеными мужской традицией. В 1962 году В. Г. Базанов выражает это общераспространенное допущение так: «героическая былевая поэзия, поэзия мужественного красноречия, возникла в воинских походах, и она безусловно была рассчитана в первую очередь на мужскую аудиторию» [Базанов 1962: 4][31]31
Наталья Кононенко выражает эту мысль еще сильнее: ссылаясь на Р. Якобсона, она утверждает, что только мужчины исполняли былины, – мысль, с которой трудно согласиться, учитывая представленные здесь свидетельства. См. [Kononenko 1994: 18; Jakobson 1966: 444]. Кононенко связывает исполнение эпоса женщинами в XIX веке с мастерством причитания [Kononenko 1994: 28].
[Закрыть]. По мнению ученых, в тех местах, где мужчины перестают исполнять былины, а женщины начинают преобладать в исполнении этого жанра, традиция «угасает». Тем не менее мы считаем, что имеющиеся данные можно интерпретировать и иным образом. Так, например, представляется очевидным, что собиратели раннего периода не искали информантов-женщин (или не воспринимали женщин как информантов): они исходно полагали, что мужчины были лучшими исполнителями. Практика полевой работы собирателей-мужчин приводила их к контакту с другими мужчинами. В 1860-х годах первым собирателем, указавшим свои источники, был П. Н. Рыбников, который обращался к очень немногим информантам-женщинам (только 3 из 39 его информантов, всего 9 процентов); описание того, как он находил информантов, показывает, что ему трудно было бы найти женщин-исполнителей былин, даже если бы он намеренно искал их. Исполнители становились известными ему, когда он обнаруживал их в публичных местах – там, где собирались «дорожные люди», – а встретить в трактирах и гостевых домах можно было только мужчин. Он также искал исполнителей по рекомендации других людей – обычно это были друзья и родственники его спутников, но время от времени эти мужчины рекомендовали ему своих жен, родственниц или жен своих друзей. Одна женщина-сказительница была хозяйкой дома, в котором Рыбников ночевал [Песни, собранные П. Н. Рыбниковым 1991: 62].
Как уже упоминалось выше при обсуждении сказок, главным полем деятельности женщин был дом: и сказки, и былины они исполняли преимущественно в домашней обстановке. Если собиратели напрямую не спрашивали о женщинах-сказительницах, то, скорее всего, они могли обнаружить их лишь в очень небольшом количестве – как по причине социальных запретов на выступление женщин перед посторонними, так и оттого, что исполнители-женщины часто не были известны за пределами своей семьи. Как и народные сказки, былины рассказывались мужчинами во время перерывов в работе, например на рыбном промысле. Многие собиратели приписывали сохранность традиции неизменности этой мужской практики (например, А. Д. Григорьев [Архангельские былины 1904: 24]). Тем не менее, есть основание полагать, что мужская традиция публичного исполнения былин сопровождалась женской традицией приватного исполнения былин дома[32]32
Это заключение было сделано Ириной Семаковой, исследовавшей сходное явление среди карел, проживающих у Белого моря. Она пишет: «…почти все женщины беломорской Карелии в той или иной степени были знакомы с рунами, но рассказывали их, как правило, в кругу женщин» [Семакова].
[Закрыть]. В этом смысле важно, что, несмотря на всем известные запреты, связанные с тем, когда могли исполняться былины, нет сведений о запретах, связанных с тем, кто их мог исполнять[33]33
О существующих табу см. [Бернштам 1983: 206]. Кононенко придерживается точки зрения, противоположной той, которую мы описали здесь: вслед за большинством русских ученых, она утверждает, что женщинам «разрешалось» исполнять былины только когда традиция начинала вымирать [Kononenko 1994: 28].
[Закрыть].
Собиратели более позднего периода изменили методы работы – и действительно нашли больше сказителей-женщин. Александр Григорьев, как это следует из его рассказа, путешествуя по деревням в 1899 – 1901 годах, расспрашивал стариков и старух о тех, кто в их деревне может знать былины, стараясь записать весь былинный репертуар. Судя по его рассказу, он находил сказителей былин, о которых не знали даже их соседи [Архангельские былины 1904: 136]. В некоторых местах он нашел больше женщин-исполнителей, чем исполнителей-мужчин (77 процентов женщин в районе Поморья и Пинежья). Его данные были подтверждены А. М. Астаховой, посвятившей свою научную деятельность записи былин – она работала в 1920 – 1930-х годах на тех же территориях. Женщины-сказители, от которых Астахова записывала былины, составляют 68 процентов от общего числа ее информантов. В других местах у тех же собирателей количество женщин-сказителей было гораздо меньше: от 16 до 26 процентов. Григорьев и другие фольклористы пытались объяснить территориальную специфику различной сохранностью традиции. Для Григорьева увеличение количества женщин-сказителей было признаком упадка былинной традиции. Он противопоставлял ситуацию, сложившуюся вдоль берега Белого моря и реки Пинеги, где традиция находилась в упадке, ситуации в бассейнах рек Кулой и Мезень (к северо-востоку по побережью Белого моря), где традиция по-прежнему процветала. На Кулое и Мезени Григорьев записал в три раза больше мужчин, чем женщин; большинство былин, исполненных мужчинами, были героического типа, женщины же исполняли баллады [Григорьев 1939]. В Поморье и на Пинеге, наоборот, женщин-исполнителей было в три раза больше, чем мужчин, и исполнение былин там считалось женским делом; Григорьев добавляет, что в этих районах былины были «короче, их было меньше и знали их хуже» [Архангельские былины 1904: 14]. Для Григорьева преобладание женщин-эподов было одним из факторов, однозначно указывающих на упадок традиции; другими факторами были краткость былины, знание исполнителями только небольшого их количества и недостаток разнообразия в мелодиях, на которые исполнялись тексты [Там же]. Не приписывая упадок эпической традиции преобладанию женщин-сказителей, Астахова соглашается с Григорьевым в том, что эпическую традицию Поморья нельзя считать действительно живой: сказители былин обоего пола почти не имели аудитории, деревенская молодежь смеялась над ними (Астахова записывала в период коллективизации и советского культурного строительства, предполагавшего активный отказ от традиций прошлого). Большую часть былин, которые оставались актуальными в ограниченном репертуаре сказителей, составляли не героические былины, а былины-новеллы [Астахова 1927: 77 – 103][34]34
В исследовании 1938 года Астахова изменила это утверждение на противоположное и объявила традицию живой. Однако в связи с политической ситуацией в науке ее ранние формулировки, вероятно, следует считать более достоверными. См. [Былины Севера 1938 – 1951: I, 90, 103 – 104].
[Закрыть]; этот жанр, предпочитаемый женщинами, связывался с упадком традиции. Тем не менее мы интерпретируем эти данные иным образом. Мы можем согласиться с собирателями в том, что они находили больше сказителей-женщин на одной территории потому, что на этой территории в тот момент было меньше сказителей-мужчин[35]35
Или потому, что, как отмечал один из собирателей, на момент записи большинство мужчин отсутствовали в деревне, находясь на рыбном или охотничьем промыслах. См. [Марков 2002: 1028].
[Закрыть], но не с тем, что это свидетельствовало об упадке традиции. Если женская сказительская традиция на одной территории была более развитой, чем на другой, это могло быть обеспечено разными причинами: наличием хороших сказителей-женщин, или же местными обычаями, в которых женское исполнение было предпочтительным, или же наличием в местном репертуаре текстов, которые женщины предпочитали. Социальные запреты также могли изменяться или быть различными на разных территориях.
Наличие эпических текстов, адресованных скорее женской аудитории, чем мужской, представляет собой гипотезу, которую пытались разработать многие собиратели. Так, один из первых собирателей русского эпоса П. Н. Рыбников отметил определение «бабьи старины», которое было использовано одним из его информантов-мужчин, и пытался дополнить эту картину; другие собиратели также отмечали группы былин, любимых женщинами. Но эпос, предпочитаемый женщинами, не был одним и тем же в разных областях, а для некоторых территорий «женские былины» было вообще трудно определить. Большинство былин, о которых говорилось как о привлекательных для женщин-сказителей, были позднее квалифицированы учеными как новеллистические былины или баллады[36]36
Примечательно, что Е. Барсов, рассказывая о своей первой встрече с Ириной Федосовой перед ее выступлением на заседании Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1896 году, перечислил эпические сюжеты, которые он тогда от нее записал: «о Чуриле Пленковиче и жене Бельмаса, о девяти братьях-разбойниках и обесчещенной ими сестре, а также былина из разряда сказаний о злых матерях, губительницах зазнобушки сыновей своих под заглавием “Софья”» [Чистов 1988: 42].
[Закрыть]. Если героические былины изображают битвы, в которых участвует герой-мужчина, то былина-новелла повествует о приключениях героя-мужчины, среди которых не последнее место занимают приключения любовные. Баллады, фольклорный жанр более позднего происхождения, изображают трагические любовные истории или семейные драмы и часто фокусируются на судьбе главного женского персонажа [Кулагина 2001: 6; Bailey, Ivanova 1998: 22].
Исследуя новеллистические былины и баллады, которые женщины-исполнители включали в свой репертуар, мы заметили, что в этих текстах изображаются яркие женские персонажи – как положительные, так и отрицательные. Одна из таких баллад – о князе Михайле, в которой мать князя убивает его беременную жену, потому что Михайло не спросил у матери разрешения на брак[37]37
См., напр.: [Архангельские былины 1904: 187 – 189, 205 – 206, 304 – 320]. Все три былины записаны от женщин.
[Закрыть]. Причина, по которой сказительниц могли интересовать сюжеты, в которых фигурируют женщины-злодейки и женщины-жертвы, рассматривается в четвертой главе. Но, основываясь на комментариях сказительниц, мы можем отметить, что сценарий «плохая женщина» обладает для них особенной притягательностью в силу своей трансгрессивности: она выступает нарушительницей социальных норм. Например, такая злодейка изображается в былине «Чурило и Катерина», которая записывалась и от мужчин, и от женщин [Былины 2001а: №№ 153 – 164]. Героиня Катерина проявляет свою агентивность, когда решается на любовную связь с франтом Чурилой, пока ее муж в отлучке. Когда муж возвращается, Катерина пытается скрыть от него свой проступок, но он узнает о нем и убивает Чурилу. В большинстве версий муж убивает и Катерину. В одной версии, которую ученые считают «творчеством сказительницы» [Там же: 755], когда муж прощает Катерине ее «первую ошибку», она называет его разбойником и говорит, что, будь у нее меч, она бы его убила, а потом говорит ему, используя поэтические образы, что она хотела бы присоединиться в смерти к Чуриле. Муж выполняет это желание и убивает ее [Там же: № 156]. Поскольку героиня сама выбирает себе возлюбленного, открыто высказывает то, что у нее на уме, и выбирает смерть, такая концовка подчеркивает активность женского протагониста. Тем не менее именно эта рассказчица, 69-летняя женщина, осуждает героиню: когда она исполняла финальный диалог между мужем и женой, сказительница делала перерывы, чтобы вставить восклицания, порицающие поведение женщины. Очевидно, что исполнительница одновременно и восхищается поведением героини (раз она решила исполнять эту былину), и осуждает ее (судя по комментариям)[38]38
Ее комментарии к описываемым событиям: «Как еще его ругает!» и «Вот какую грубость сказала!» [Былины 2001а: 647].
[Закрыть].
Интрига былины «Иван Годинович», названной Рыбниковым «бабьей стариной», – о женском стремлении к власти. Героиня былины Настасья вместо Ивана выбирает иноверца Кощуя или литовского царского сына, когда тот обещает ей, что она станет царицей, если выйдет за него замуж[39]39
Рыбников писал, что эта былина была любима женщинами; тем не менее, мужчины ее также исполняли [Песни, собранные П. Н. Рыбниковым 1991: I, 144 – 146], [Былины 2001б: 454 – 456], [Былины 2004: 666 – 670].
[Закрыть]. Другие «женские былины» помогают дополнить картину того, какие виды агентивности проявляют героини в эпических сюжетах. В их числе – баллада «Князь Дмитрий и Домна», в которой Домна убивает себя, вонзая ножи в грудь, чтобы не отдаться нелюбимому князю Дмитрию[40]40
В собрании баллад, которое содержит ряд записанных вариантов этого сюжета, два из четырех записаны от женщин, один – от мужчины, источник же четвертого неизвестен [Баллады 2001: 415].
[Закрыть]. Казалось бы, в этом действии можно усмотреть свободолюбие героини, но при внимательном рассмотрении сюжета мы видим, что Домна на самом деле убивает себя по иной причине. Ее заманили в дом Дмитрия обманом, сообщив, что его нет, когда он был там: это обстоятельство – посещение дома парня – лишало ее возможности выйти замуж за кого-нибудь другого. Дело в том, что, войдя в дом парня, в котором он в этот момент находится, девушка оказывается de jure его женой; поскольку эта норма была для женщины реальной угрозой, сказительницы могли находить этот сюжет особенно интересным[41]41
В современных сообществах такой вариант выхода замуж называется «самоходкой». См. главу 2, а также [Каретникова 2014].
[Закрыть].
Яркий пример женской отваги дает нам былина «Ставр Годинович»: уверенная в своих силах жена Ставра перехитрила князя Владимира, переодевшись мужчиной и с честью пройдя проверку на мужественность в таких «мужских» умениях, как стрельба из лука и борьба[42]42
«Ставр Годинович» в [Былины 2001b] представлен четырьмя версиями, записанными от исполнителей-мужчин, и одной, записанной от женщины (бассейн реки Печоры).
[Закрыть]. Известен своей агентивностью такой традиционный персонаж былин, как поленица – женщина-воительница, вовлекающая героя-мужчину в поединок. Одна из сказительниц, комментируя этот персонаж, воскликнула: «Размужичье!» Похожее прозвище − полмужичье – на Русском Севере используют в отношении одиноких женщин, обычно – вдов, выполняющих мужскую работу и вынужденных носить мужскую одежду. Прозвище предполагает, что женщина, которая выполняет «мужскую» работу, считается в некотором смысле лишившейся пола, девиантной [Липец 1939: 23][43]43
По материалам записей интервью, сделанных в 2009 – 2011 годах на Мезени, в отношении таких женщин и в наши дни используют прозвище «полмужичье».
[Закрыть]. Сюжеты о поленицах среди женщин были особенно популярны. И, наконец, другие былинные сюжеты, любимые женщинами, но не идентифицируемые собирателями как «женские», представляют жен и матерей героев, которые играют важную роль, либо помогая мужчинам, либо храня их честь[44]44
Например, былина о Добрыне и Алеше была записана от 16 женщин и 7 мужчин [Былины 2003]. Другой сюжет – «Добрыня Никитич и Змей» – представлен в третьем томе «Свода русского фольклора» пятью женскими и пятью мужскими вариантами. В них рассказывается о том, как богатырь Добрыня борется со змеем. Былины включают в себя эпизоды, посвященные матери Добрыни: она растила его одна; она предупреждает его, чтобы он не приближался к Пучай-реке, но он отправляется в путь без ее благословения; она дает ему с собой волшебную плетку и говорит, как понукать коня; а также в нескольких вариантах присутствуют эпизоды о поленице Настасье, на которой в некоторых версиях Добрыня женится. См. [Bailey, Ivanova 1998: 81].
[Закрыть].
Предпочтение, которое женщины отдают определенным эпическим сюжетам, предполагает, во-первых, что женский репертуар (хоть и пересекающийся с мужским, однако отличающийся от него), видимо, существовал параллельно с мужским, а во-вторых, что женщины предпочитали былины, которые могли быть адресованы к разнополой аудитории молодежи (как и в случае со сказками). Тем не менее, так же как и в случае сказок, ученые склонны рассматривать женский репертуар как более поздний, свидетельствующий об упадке традиции, и в целом рассматривать женщин как второстепенных носителей эпической традиции. Но признание того факта, что мужская эпическая традиция оказалась в упадке, не означает, что женское сказительство, существование которого представляется нам несомненным, было причиной ее угасания или пришло ей на смену.
Несмотря на то что женский вклад в эпическую традицию недооценивался, некоторые женщины-эподы все же отмечались учеными как заслуживающие внимания. Сказительницы, обладающие объемным репертуаром, были признаны достойными носителями русской фольклорной традиции[45]45
Традиция привозить исполнителей былин для выступлений в Москву и Санкт-Петербург началась в 1870-х годах с двух мужчин-сказителей; в 1890-х годах выступал один сказитель; в 1915 и 1922 – Кривополенова; и в 1937 – один мужчина и одна женщина. См. [Соколов 1929].
[Закрыть]. Например, в 1915 и 1916 годах фольклорист и исполнительница Ольга Озаровская привезла 72-летнюю Марию Кривополенову (одну из сказительниц, которых Григорьев записывал в 1900 году) из ее дома на Пинеге в Архангельской губернии для выступления в Москву, Петроград и другие российские города [Новичкова 2000: 15 – 16]. Писатели и ученые, например музыкальный критик В. Г. Каратыгин, придавали огромное значение выступлениям «бабушки» (как ее называла Озаровская), от которой «веет» «чем-то древне-культурным», «патриархальным бытом» [Каратыгин 1927: 230]. Кривополенову считали традиционной сказительницей, которая передавала то, чему она научилась, не внося ничего от себя в стилистику и содержание былины [Алексеев, Попов 1937: 87].
В противоположность этому сказительница Марфа Крюкова (1876 года рождения, с реки Онеги в Архангельской губернии) превозносилась советскими учеными в 1930-е годы как «творец», который не только сохраняет, но и обновляет традицию. То есть если в более ранние периоды ученые рассматривали изменение традиции как причину ее упадка, в тридцатые годы политика изменилась[46]46
Как объясняли ученые того времени, дореволюционные исследователи неверно оценивали мастерство этих творцов. См. [Соколов 1939: 9].
[Закрыть]. В сталинские времена журналисты, писатели и ученые использовали эпическое мастерство Крюковой для создания новых советских былин, которые должны были работать на легитимность советской власти. В тридцатые годы Крюкова выступала перед студентами, рабочими и писателями в Москве, Архангельске, на Кавказе, в Грузии и Азербайджане, ее былины передавались по радио. В 1937 году, во время ее первого турне, газета «Правда» организовала для нее экскурсию по достопримечательностям Москвы; когда в 1937 году она гастролировала на Кавказе, ей показывали родину Сталина. Оба турне были организованы, чтобы вдохновить ее к созданию новых былин, которые были названы «новинами»; она создавала новые былины на современные темы о Ленине, Сталине и достижениях Советского Союза. В 1938 году Крюкову сделали членом Союза писателей, она получала очень высокую для крестьянки пенсию – 150 рублей [Астахова 1939: 176 – 177; Липец 1939: 3, 5; Алексеев, Попов 1937: 84].
Творчество народных сказителей, привозимых в город для выступлений, очевидно, подвергалось коррекции со стороны их импресарио, которые стремились удовлетворить общественную потребность в символах национального прошлого. Несомненно, мастерство Крюковой было определенным образом оформлено организаторами ее туров и фольклористами, которые работали с ней. Ученые предпочитали мужчин-исполнителей былин, но публика предпочитала женщин – таких, как Крюкова и Кривополенова, – которые и являли собою образ хранительницы фольклорного достояния страны. Отчасти это происходило потому, что женщины-исполнители, в отличие от мужчин, владели разными фольклорными жанрами: они исполняли колыбельные, лирические песни, обрядовые и хороводные песни, баллады, сказки и причитания. Как в конце XIX столетия, так и в 1930-е годы любимый народом образ «старушки-матери» служил целительным бальзамом для горожан. В следующем разделе мы исследуем это явление более подробно на примере жанра причитаний.
Причитания
Если сказку и былину ученые рассматривали как исходно мужские жанры, то причитание имеет совершенно иную историю собирания и изучения. Зафиксированные в XIX веке свидетельства дают возможность предположить, что причитание было в России исключительно женским фольклорным жанром. Более ранние свидетельства не столь ясны: древнерусская литература приписывает причитания женщинам, мужчинам, а иногда «людям» вообще, что позволяет ученым считать, что в Древней Руси их могли исполнять и мужчины, и женщины ([Чистов 1960: 15 – 16], см. также [Kononenko 1994: 17 – 34]). Дополнительным свидетельством, поддерживающим это предположение, является существование мужских причитаний в соседних культурах (грузинской, осетинской, украинской, сербской); в корпусе записанных русских причитаний также встречаются фрагменты, изложенные с мужской точки зрения, от мужского лирического «я» [Ульянов 1914: 241 – 242; Чистов 1960: 16; Чистов 1988: 79; Kononenko 1994: 17 – 34; Чистов 1997: 480].
Поскольку ученые считают русские причитания исключительно женским жанром, они используют этот жанр как отправную точку для поэтизации женской роли «народных поэтесс» и «фольклорных жриц – хранительниц предания отцов», в особенности в отношении причитаний на смерть сыновей и отцов и причитаний по рекрутам [Ульянов 1914: 241]. Наталья Кононенко отмечает, что собранные учеными коллекции причитаний обычно включают больше причитаний на смерть мужчин, нежели женщин [Kononenko 1994: 25][47]47
Кононенко использует этот факт как свидетельство того, что для женщин свадебные причитания были более важными, чем похоронные.
[Закрыть]. Особое внимание ученых к женским плачам по мужьям, отцам и сыновьям тем не менее не означает, что женщины не оплакивали смерть матерей, сестер и дочерей. Наши полевые исследования показывают, что женщины причитают, оплакивая уход родственниц и родственников, и нет причины полагать, что эта ситуация была иной в прошлом. Возможно, акцент, который делают и собиратели, и исполнительницы на причитаниях по мужчинам, связан с тем, что потеря мужчины в патриархальном обществе более значима и напрямую связана с выживанием всего рода[48]48
Более того, предвзятость собирателей, как и предвзятость самих информантов, могла вести к тому, что в собраниях преобладали похоронные причитания на смерть мужчин. Так, одна из исполнительниц причитаний, вспомнив и проговорив речитативом плач, исполненный ею на смерть своего мужа, заметила: «женские города не стоят» (Бел17а-35).
[Закрыть]. Особая значимость потери мужчины прослеживается также и по срокам траура: они были меньше для вдовцов, нежели для вдов [Мадлевская 2005: 30].
В рамках русской патриархальной системы женщины были хранительницами духовных практик семьи и общины. Они отвечали за правильность исполнения ритуалов жизненного цикла, так что похоронные и поминальные практики были важной частью их знания (см. главу 9; также [Прокопьева 2005: 637 – 638]). Поэтому не вызывает удивления то, что именно женщины исполняют причитания – жанр, занимающий центральное место в похоронно-поминальной традиции. У мужчин была своя важная роль в похоронном обряде: они делали гроб и копали могилу; но, как правило, во время похоронного ритуала мужчины хранили молчание [Адоньева 2004: 196, 199]. Женщины же во время похорон могли оказаться в одной из двух ритуальных ролей – посвящаемой или посвящающей. Посвящение в причетную традицию происходило, когда женщина первый раз в своей жизни причитала публично, впервые потеряв кого-то из близких: родителя, ребенка или мужа. В причитании женщины выговаривали свое горе, но помимо этого причитание обладало особой ритуальной функцией, оно позволяло «правильно» провести своего близкого в мир мертвых. После того как женщина проходила такую инициацию, у нее был выбор: она могла продолжать причитать только по членам семьи – на похоронах и в поминальные дни – или же становилась признанной плакальщицей – в этом случае она принимала на себя роль посвящающей, принимала участие в похоронах не только родственников, но и соседей, открывая своей причетной речью сакральный смысл ритуала [Адоньева 2004: 220 – 222, 227, 231, 234].
Когда жанр причитаний впервые был зафиксирован (в 1860-е годы), фольклористы ссылались именно на творчество таких опытных, известных своим мастерством, «посвященных» причетниц[49]49
Чистов отмечал, что до появления собранных Барсовым причитаний Федосовой они обычно не рассматривались как самостоятельный жанр [Чистов 1988: 227].
[Закрыть]. Ученые рассматривали причитания скорее как поэтические произведения, наряду со сказками или былинами, нежели как ритуальную форму. Но, поскольку причитания составляют значимую часть ритуала, их характер существенно отличался от иных фольклорных жанров. Их звучание вне ритуала, в качестве поэтического произведения, исполненного для собирателей фольклора, не было естественным [Лихачев 1987: 522 – 529]. Причитания опытных плакальщиц провоцировали на то, чтобы видеть в них произведения искусства, поскольку в их устах плачи были не только экспликацией горя. Такие причетницы обладали как особой прозорливостью, даром особого видения, так и особым социальным статусом – заслуженным и признанным. Первое обеспечивало их способностью, а второе – наделяло правом говорить о моральном долге и чувствах других [Адоньева 2004: 233]. Практика причитаний таких воплениц действительно была связана с былинной: во многих случаях причетница заимствовала из былинной поэтики отдельные эпические обороты и даже целые периоды [Там же: 233; Причитанья Северного края 1997: I, 382].
Именно такой была Ирина Федосова, самая знаменитая русская вопленица XIX века. Ее причитания, записанные в 1860 – 1880-х годах и исполненные перед российской публикой в 1890-е годы, были для российской общественности образцом протестной поэзии, клеймящей «злодеев» и превозносящей «героев» крестьянского общества. Ее жизненная история может служить примером того, как воспринимались жанр и женское знание в целом учеными, журналистами и обычной публикой.
Как было упомянуто в разделе о былинах, в 1890-е годы появилась идея показать крестьян-исполнителей фольклора широкой публике: их привозили для концертов в Москву и Петербург. Среди них была и 75-летняя Ирина Федосова; городская аудитория приняла ее с энтузиазмом. Чтобы представить публике исполнителей-крестьян, некоторые ученые и музыканты организовывали «этнографические концерты», проходившие в научных обществах, школах и частных домах; в столичных газетах печатались объявления, сообщавшие о возможности пригласить исполнителей для частных концертов [Чистов 1988: 49; Смирнов 1996]. Так фольклористы надеялись заработать денег, а также увеличить свой социальный капитал. Вторжение в сферу арт-менеджмента завело их в такие неожиданные мероприятия, как, например, Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года, на которой выступала Федосова.
Крестьянка с озера Онего в Карелии, Федосова стала объектом огромного внимания со стороны фольклористов и интеллектуалов с семидесятых годов и широкой публики в девяностые. Ее «открыл» Е. В. Барсов, преподаватель психологии и логики петрозаводской семинарии. Он записал причитания с ее слов в конце 1860-х, опубликовал их в трех томах в 1872 – 1885 годах – и, благодаря этому изданию, существенно преуспел в карьере. Ее импресарио во время московских и петербургских гастролей 1895 – 1896 годов и на нижегородской выставке стал другой человек, П. Т. Виноградов, учитель Петрозаводской женской гимназии, который, очевидно, также предполагал сделать себе карьеру с помощью Федосовой. Во время многих выступлений Федосовой (в том числе в Нижнем Новгороде) Виноградов исполнял роль конферансье. Максим Горький, один из четырехсот российских и европейских журналистов, посетивших эту выставку, написал о ней серию статей для газеты «Одесские новости». Верный своим антимонархическим взглядам (Горький тогда принадлежал к подпольному социалистическому движению), он критикует и иронически описывает многие аспекты этой выставки: пишет о плохой организации, о толпах бездельников и гулящих женщин, которых она привлекала, и о недостатке «русскости» в оформлении и экспонатах. Четвертая его статья из этой серии характеризует Федосову как глоток свежего воздуха на фоне попытки демонстрации российской современности, индустриализации и европеизации. Статья начинается со слов: «Я давно не испытывал ничего подобного» [Горький 1953b: 230]. Горький противопоставляет публику (торговцев, учителей, светских дам) фигуре, появившейся на сцене, чтобы выступать перед ними, – вопленице Федосовой. Горький дал оценку Виноградову, описав его скучную, длинную, тусклую речь, которую никто не слушал. В отличие от всех этих безжизненных людей Федосова в описании Горького выглядит живой, яркой, исполненной мудрости и юмора.
На концертах Федосова исполняла былины, баллады, свадебные и лирические песни, но больше всего она стала известна своими причитаниями (в афишах ее именовали вопленицей), и для Горького именно они были кульминацией ее выступления. Для Горького и других критически относившихся к культуре царской России Федосова была воплощением истинной России, нетронутой псевдофольклором, псевдоискусством и духом декаданса. Судя по данному Горьким описанию реакции публики, скучавшая аудитория вначале почувствовала себя огорошенной, затем «разразилась громовыми аплодисментами» и в конце концов разрыдалась, околдованная «глубиной ее берущих за душу причитаний»: это было так непохоже на то, что они обычно слушали в кабаре и кафешантанах. «Федосова вся пропитана русским стоном, – пишет Горький. – Около семидесяти лет она жила им, выпевая в своих импровизациях чужое горе и выпевая горе своей жизни в старых русских песнях» [Горький 1953b: 232 – 233].
Для Горького Федосова стала не только символом аутентичной России, но и ее воплощением – тем, в чем нуждалась публика. В оценке Горького присутствует некий парадокс: ее поэзия принадлежала «народу», но была чем-то новым для российской аудитории. «Народ», к которому принадлежала Федосова, был далеким Другим для городской публики. Более того, ее экзотичность по отношению к горожанам подчеркивалась всеми, кто так или иначе использовал ее образ (Барсов, Виноградов и, наконец, Горький).
Почему Россия хотела слушать причитания? Очевидно, в конце столетия, в период устойчивого промышленного роста и при этом – голода и бедности, реакции и терроризма, за десять лет до первой русской революции, Федосова давала выход чувствам, которые испытывали многие [Riasanovsky 1993: 396, 431]. То, как она выражала горе, давало выход эмоциям, и в особенности – эмоциям мелодраматическим. Для Горького и ему подобных ее песни о крестьянских бедах были призывом к социальным переменам; для других – выражением их собственной скорби о личных потерях. Как отмечал К. В. Чистов, монографически исследовавший творчество Федосовой, для Некрасова и других она «была интересна не своей индивидуальностью, но, напротив, типичностью, точностью воспроизведения обстоятельств крестьянской жизни» [Чистов 1988: 287]. Они не осознавали как раз того, что Федосова и среди крестьян была не типичной, но выдающейся личностью, а владение причетной речью было одним из проявлений этого. Конечно, в крестьянских сообществах были такие, как она, но их было не много.
Одной из важных характеристик причитания была его импровизационная природа. Для Горького (и, возможно, для других слушателей) это придавало представлению ощущение спонтанности и аутентичности. Также, возможно, это позволяло сильнее воздействовать на аудиторию, чем во время программных фольклорных представлений. Однако причитания Федосовой были одновременно и импровизированными, и сконструированными. Как пишет К. В. Чистов, в процессе представления ей приходилось компенсировать то, что причитания были извлечены из ритуального контекста. Публичное исполнение похоронных причитаний вне ритуальной ситуации было нарушением традиционных норм, поскольку причитания имели особую функцию: они помогали умершему перейти в иной мир. Поэтому Федосова сохраняла определенную дистанцию по отношению к ритуальной ситуации причитания, уравновешивая ее с помощью принятия на себя разных ритуальных ролей (плач невесты на могиле матери, плач невесткиной свекрови по отцу невестки – свату и т.п.), представляя ситуации, которые ей случалось наблюдать, и даже создавала причитание, в котором учитывались разные точки зрения, что делало каждый текст полифоническим ([Чистов 1997: 479]; см. также [Кремлева 2004: 672 – 674]). Чтобы компенсировать дистанцию по отношению к «реальности причитания», она – возможно, намеренно, а возможно, и бессознательно – использовала известные ей техники усиления эмоционального воздействия исполняемых ею причетов. Она делала фольклор искусством [Чистов 1997: 464].
Фольклористы не всегда осознавали уровень импровизации в причитаниях Федосовой. «Открывший» ее в 1867 году Барсов думал, что существовали особые традиционные причитания, с устойчивыми текстами для определенных семейных отношений: так, когда в течение двух лет он записывал причитания Федосовой, он просил ее исполнить традиционные «причитания вдовы на смерть мужа», «причитания дочери по отцу», «причитания дочери по матери» и т.д., считая, что она вспоминает, а не создает их [Чистов 1997: 479]. Федосова делала то, о чем ее просил Барсов, но в некоторых случаях было ясно, что, создавая свои импровизации, она представляла конкретных людей и конкретные ситуации. Степень этого недопонимания стала очевидной, когда на концерте в Политехническом музее в Москве в 1896 году он попросил ее «исполнить некоторые из тех причитаний, которые он записал». Она ответила: «Да и теперь я тех покойников не помню. Ничего причитать о них не могу…» [Там же: 478].
Горизонты ожидания [Jauss 1982] фольклориста и исполнительницы кардинально не совпадали. Общее символическое пространство их миров было чрезвычайно мало – это случается часто, когда фольклористы говорят с деревенскими женщинами об их жизни. Барсов не только упустил из вида импровизационную природу причитаний – он также утверждал, что Федосова была профессиональной плакальщицей, тогда как в действительности похоронные причитания никогда не исполнялись за плату (крестьянская экономика основана на взаимности, а не на денежном обмене) [Чистов 1988: 32]. Его утверждение отражает позицию исследователей конца XIX века, придерживавшихся собственных представлений о творчестве и профессионализме и игнорировавших социальные характеристики фольклорной среды.









































