Текст книги "Клеа"
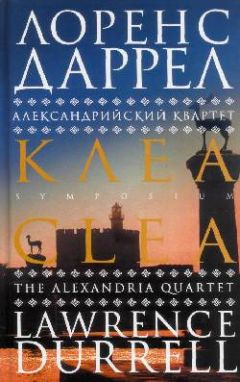
Автор книги: Лоренс Даррел
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
«А что думает Амариль?»
«Ничего он пока не думает. А если думает, то не говорит. Ей нужно как следует отдохнуть, не меньше суток, прежде чем заводить речь о каких-то там решениях. А ты действительно уезжаешь? – В голосе – глухая нотка упрека. – Знаешь, мне кажется, тебе следовало бы остаться».
«Она не хочет, чтобы я оставался».
«Я знаю. Мне даже как-то не по себе стало, когда я понял, что это она тебя попросила уехать. Но знаешь, что она мне сказала? „Ты не понимаешь. Я хочу проверить, смогу ли я его вернуть, притянуть обратно. Мы еще не созрели друг для друга. Но это придет“. И я был просто поражен: к ней вернулись прежняя уверенность и шарм. Удивительно. Садись, дорогой ты мой, выпьем чего-нибудь, и покрепче. И видно все как на ладони. И не в толпе».
Когда официант принес стаканы, он долго сидел и глядел на них, подперев голову руками. Потом вздохнул и покачал печально головой.
«Что еще случилось?» – спросил я, взял его стакан с подноса и поставил прямо перед ним, клацнув донцем о дешевый жестяной столик.
«Лейла умерла, – сказал он тихо. Слова, казалось, тяжким грузом легли ему на плечи. – Нессим позвонил уже вечером и сказал, что она умерла. И знаешь, что странно? Он как будто был даже рад. Успел уже выбить разрешение слетать туда, организовать там похороны. Знаешь, что он сказал? – Бальтазар глянул на меня исподлобья умным черным глазом и продолжил: – Он сказал: "Хотя, конечно, я ее любил и все такое, но неким странным образом ее смерть развязала мне руки. Начинается новая жизнь. Я словно помолодел на десять лет". Не знаю, может, слышно было плохо, но голос у него как будто и впрямь стал моложе. Он был так возбужден, еле сдерживался. Он знал, конечно, что мы с Лейлой были близкие друзья со времен незапамятных, но вот о чем он и ведать не ведал, так о том, что все это время она мне писала. Редкой души была человек, Дарли, редчайший в Александрии цветок. Она писала мне: «Дорогой мой Бальтазар, я умираю, жаль только, что умираю так медленно. Хоть ты не верь врачам, не верь диагнозам. Я родилась в Александрии и умираю от тоски, как то и должно всякому александрийцу»». Бальтазар вынул из нагрудного кармана пиджака старый теннисный носок и тщательно высморкался; потом свернул носок аккуратно, уголком, чтобы он был похож на платок, и сунул его обратно в карман. «Н-да, – сказал он медленно и мрачно, – что за слово такое „тоска“! И, сдается мне, уж если Персуордену, судя по твоим словам, смертный приговор подписала Лайза, то Маунтолив в свою очередь подставил ножку Лейле. Вот так мы и передаем по кругу эту чашу, любовную чашу, и вино в ней – отрава!» Он кивнул мне головой и шумно отхлебнул из своего стакана. Потом медленно и трудно заговорил опять, как будто переводя текст темный, слепой, на чужом языке. «Да-да, подобно тому как письмо от Лайзы с извещением о том, что незнакомец наконец явился, было для Персуордена своего рода coup de grace[98]98
Последним ударом (фр. ).
[Закрыть], и Лейла получила, мне кажется, такое же точно письмо. Бог его знает, как делаются такие вещи. Может, одними и теми же фразами. И те же слова искренней, страстной почти благодарности: «Я благословляю тебя, я благодарен тебе всем моим сердцем, ибо только через тебя я понял все и из твоих же рук получил неведомый непосвященным драгоценный дар». Это слова Маунтолива. Лейла мне их процитировала. Оттуда уже, из Кении. Она мне часто писала; такое было впечатление, что она там совсем одна и даже от Нессима отрезана, и ей не к кому обратиться, не с кем поговорить. Оттого и письма были такие длинные, она всю жизнь свою перебрала в них вдоль и поперек с такой тонкостью, с такой великолепной ясностью ума – я всегда этим в ней восхищался. И никаких уверток, ни жалости к себе, ничего. Да, она просто села меж двух стульев, меж двух жизней, двух Любовей. Она мне сама все это объяснила, сейчас попробую вспомнить. «Поначалу, получив его письмо, я подумала, что это просто очередное увлечение, как тогда, с русской балериной. Он никогда не скрывал от меня своих любовей, и оттого наши собственные с ним чувства казались такими… настоящими, что ли, бессмертными, вне времени и места. Любовь без страха и упрека. Но я поняла, я все поняла, когда он отказался назвать мне ее имя, не стал, так сказать, ее со мной делить! И тут мне стало ясно, что все кончено. Конечно, в глубине души я знала: так оно и будет – и ждала, и готовилась быть великодушной. А потом вдруг поняла, что нет, не выйдет. И сама удивилась. Потому-то я и тянула столько времени, хотя знала, что вот он, в Египте, и страстно жаждет встречи со мной, но я никак не могла заставить себя увидеть его, взглянуть ему в глаза. Я, конечно, делала вид, что причины тут иные, чисто женские. Но это все чушь. Что будто бы я трусила: из-за болезни, из-за того, что былой красы не сыщешь и следа, – но нет! Ведь на самом-то деле сердце у меня – мужское»».
Бальтазар посидел немного молча, глядя на пустые стаканы, тихо сложив пальцы в домик. Я мало что понял из этой его истории, да и не очень-то хотел понять, – вот разве что удивился, предположив в Маунтоливе способность к сильным чувствам, и еще растерялся немного: я ведь и понятия не имел о его тайной связи с матерью Нессима.
«Темная Ласточка! – сказал Бальтазар и хлопнул в ладони, заказал еще по стакану. – Таких, как она, больше нет и не будет».
Однако ночь, эта пронзительная ночь, вдруг изнутри набухла иным, нездешним шумом, шумом праздничного шествия. Меж крыш уже плясали розовые блики факелов. Улицы, и без того переполненные, были теперь черным-черны от нескончаемого людского потока. Предощущение праздника степным пожаром, повальной эпидемией нервического возбуждения пробегало по улице, и толпа загудела, как растревоженный пчелиный рой. Стали слышны вдалеке гулкие выдохи барабанов и жестяной шепоток цимбал, размеряющих диковатые ритмы древней пульсирующей перистальтики танца – неспешный плавный шаг и чудные паузы, как раз, чтобы танцоры, зашедшиеся в пляске, могли вернуться в общий синкопированный ритм шествия. Шествие прокладывало себе путь сквозь узкую воронку Татвиг-стрит, подобное реке весной, когда вода неудержима и в привычном русле ей недостает места. Так и здесь: боковые улочки были битком забиты зрителями и текли параллельно, соизмеряя свой шаг с шагом шествия.
Первыми шли скоморохи в масках или с разукрашенными лицами; они катились кубарем, ломали свои тела самым невероятным образом, подпрыгивали в воздух и ходили на руках. Следом на повозках ехали кандидаты на обрезание, одетые в роскошные шелка и шитые бисером шапочки, в окружении своих поручительниц – первых леди гаремов. Держались они гордо, пели высокими юношескими голосами и кивали толпе: блеянье жертвенных ягнят, ни дать ни взять. Бальтазар проворчал у меня под ухом: «Н-да, похоже, что кусочки крайней плоти посыпятся сегодня, словно снег. И как они только ухитряются не заполучить заражение крови? Знаешь, они ведь до сих пор прижигают ранку черным порохом и лаймовым соком».
Вот придвинулись, проследовали мимо, кренясь, тихо покачиваясь, хоругви религиозных орденов с выведенными яркой краской именами святых – и трепетали на ходу, как листья. Каждую нес разодетый почтенный шейх, прогнувшись под тяжестью древка, но все так же мерно блюдя ритм шага. Уличные проповедники выкликали на ходу Сто Святых Имен. Одним большим созвездием несли жаровни с горящим в них ярким высоким пламенем, и следом за жаровнями такой же плотной группой шли высокие мусульманские чины, суровые бородатые лица в бликах пламени, большие бумажные светильники на высоких древках в вытянутых руках – как детские воздушные шары. Они прошествовали мимо нас долгой переливчатой лентой и утекли по Татвиг-стрит, а на смену им из кромешной тьмы явились дервиши, орден за орденом, у каждого свой цвет. Вели их рифайаты в черных шапках, пожиратели скорпионов, кудесники и маги. Они кричали на ходу: короткие, лающие крики, верный знак того, что на них уже успел снизойти религиозный экстаз. Мутные глаза, безумные взгляды. У некоторых щеки были пробиты насквозь вертелами, другие лизали докрасна раскаленные ножи. Наконец показалась и статная фигура Абу Зейда с небольшой свитой: в пузырящихся за спинами плащах, на низкорослых лошадках в драгоценной сбруе – они все подняли сабли вверх в извечном благородном жесте, как рыцари, открывающие шествием турнир. Прямо перед ними беспорядочной пестрой гурьбой бежали мужчины-проститутки с напудренными лицами и длинными, вьющимися по ветру волосами; они хихикали и щебетали на бегу, как цыплята на птичьем дворе. И всю эту странную, разноликую, но гармоничную в своем разнообразии толпу музыка цементировала в единое целое, увязывала и держала взаперти за решетчатою дробью барабанов, за режущими выкриками флейт и зубовным скрежетом цимбал. Круг, перебежка, пауза; круг, перебежка, пауза – так длинная танцующая череда людей продвигалась к раке, могучей приливной волной вливаясь в преддверие этой новой Скобиной квартиры, растекаясь по площади радугой движения и цвета в густых клубах пыли.
Уже ушли певцы – исполнители священных текстов, и в самом центре сцены вдруг – откуда ни возьмись – очутились шестеро дервишей Мевлеви и тихо разошлись, чуть покачиваясь на ходу, пока не встали все широким полукругом. Роскошные белые халаты, длинные, чуть не до самой земли; зеленые туфли и высокие коричневые чалмы на головах, словно некие огромные bombes glacйes.[99]99
Букв.: «ледяные бомбы» (фр. ); сорт мороженого.
[Закрыть] Плавно, тихо, грациозно эти истинные «волчки Божьи» начали вращаться вокруг своей оси, и флейты подстегивали их своей вертлявой скороговоркой. Они набрали скорость, и руки их, прижатые поначалу к бокам, постепенно выпрямились, будто под действием центробежной силы, и разошлись на полную длину: правая ладонь к небу, левая – к земле. Так они и стояли, чуть склонив – подобием недвижной земной оси – головы и чалмы на головах, бешено вращаясь, ногами уже едва касаясь земли, великолепная пародия на небесные тела в их безостановочном и вечном движении. Еще, еще, все быстрей и быстрей, покуда глаз не уставал поспевать за ними. Я вспомнил стих Джелаль-ад-Дина – Персуорден, бывало, цитировал его по случаю. Во внешнем круге начали свое обычное самоистязание и рифайаты – жуткое на вид, оно, судя по всему, было для них вполне безопасно. Стоит только шейху дотронуться до ран на груди, в щеках ли – просто пальцем, и раны тут же заживают. Вот дервиш проколол себе вертелом обе ноздри, вот другой упал с размаху на острие кинжала, вогнав сталь сквозь горло прямо в череп. Но в центре были – Мевлеви, безостановочный белый вихрь, неосторожно закрученный в самой середине сцены, в сердцевине души.
«Бог ты мой, – хохотнул над ухом Бальтазар, – и ведь он мне сразу показался знакомым. Это Магзуб, собственной персоной. Вон тот, самый дальний. Когда-то был для этих мест бичом Божьим, он сумасшедший наполовину. Было еще и такое подозрение, что именно он украл девочку и продал ее в бордель. Полюбуйся-ка на него».
Я увидел лицо бесконечно усталое и спокойное, глаза закрыты, уголки губ чуть приподняты подобием улыбки; он как раз остановился ненадолго, высокий, худой, подхватил играючи, не напоказ пучок сухих терний и зажег их от ближайшей жаровни, мигом сунул вспыхнувший колючий факел себе за пазуху, прямо к телу; и закружился опять, как дерево, объятое пламенем. Потом, когда все они наконец остановились, нетвердо стоя на ногах, пьяно покачиваясь, он снова выхватил пучок и ударил им, все так же играючи, в шутку, соседа-дервиша в лицо.
Но сошелся еще один круг, еще, и вот уже весь дворик заметался, закружился в танце, поймав один на всех ритм. Из раки лился монотонный молитвенный речитатив, размеченный высокими резкими выкриками впавших в священный экстаз.
«Н-да, Скоби, судя по всему, сегодня спать будет некогда, – заметил без всякого почтения к святому Бальтазар. – Считать ему на мусульманских небесах обрезанных в день сей во славу Аллаха – до самого утра».
Издалека, из гавани, пришел протяжный крик сирены, вернув меня в чувство. Ну, вот уже и пора. «Я провожу тебя», – сказал Бальтазар, и мы взялись вдвоем проталкиваться сквозь толпу по направлению к Корниш.
На Корниш мы наняли гхарри и долго ехали молча по длинной, лениво изогнутой набережной, слушая, как за спиной постепенно стихают музыка и барабанный бой. Сияла полная луна над тихим морем, чуть подернутым легкой рябью, дул полуночный бриз. Сонно кивали пальмы. По узким, спутанным в клубок здешним улочкам мы выехали к торговому порту, где у причалов покачивались призрачные силуэты кораблей. И полдюжины огней перемигивались на воде. От пирса отвалил океанский лайнер и тихо выскользнул на рейд – долгий, сияющий во тьме полумесяц света.
Небольшое суденышко, на коем я и должен был отправиться на остров, все еще стояло под погрузкой – багаж, провиант.
«Ну, Бальтазар, – сказал я. – Держись от всяких бед подальше».
«Мы еще увидимся с тобой, – тихо произнес он. – От меня так просто не уйдешь. Вечный Жид, так сказать. Я буду держать тебя в курсе – насчет Клеа. Я бы сказал тебе: „Возвращайся к нам, и поскорей“, – не будь у меня такого странного чувства, что возвращаться ты как раз и не собираешься. Убей меня Бог, если я знаю почему. Но вот в том, что мы с тобой еще встретимся, я уверен».
«И я тоже».
Мы обнялись крепко, дружески, потом он резко оттолкнул меня, вскочил обратно в гхарри и велел трогать.
«Помяни мое слово», – это когда лошадь уже цокотнула копытом, послушная указке кнута.
Я стоял и слушал стук копыт, покуда ночь не проглотила и лошадь, и повозку, и звук. И тогда я пошел носить вещи.
4
«Дорогая моя Клеа!
Три долгих месяца – и от тебя ни слова. Я бы начал беспокоиться уже всерьез, если бы верный Бальтазар не слал мне пунктуально, каждые несколько дней, по открытке с весьма любезным с его стороны отчетом о ходе твоего выздоровления, хотя и без особых деталей. Ты, конечно, все больше сердишься на мое бессердечное молчание, какового ты ничем не заслужила. Честное слово, мне очень стыдно. Я даже и не знаю, что за странный барьер мне мешал. Ни понять, в чем, собственно, дело, ни как-то со всем этим бороться был просто не в состоянии. Вроде как дверная ручка, которая не хочет поворачиваться. Почему? Странно вдвойне, ибо все это время я ощущал тебя рядом и много думал об этом твоем весьма активном во мне присутствии. Метафорически выражаясь, я прижимал тебя, прохладную, к горячей моей душе, как лезвие ножа. Возможно ли, чтобы я крепче сжился с мыслью о тебе, нежели с тобой живой, живущей в мире? Или слова оказались утешением слишком нестоящим, пустым, когда сравнишь их с расстоянием, нас разделившим? Не знаю, но теперь, когда работа близка к завершению, я, кажется, опять обрел дар речи.
Вещи будто бы меняют фокус на этом маленьком острове. Я помню, ты когда-то обозвала сей образ метафорой, но для меня здесь и сейчас в этой метафоре реальности через край – хотя нынче здешняя реальность мало похожа на небольшую тихую гавань, которую я знавал когда-то. И причиной тому – наше вторжение. Я и представить себе не мог, чтобы десяток специалистов мог такое наворотить. Но мы привезли сюда деньги и с помощью денег потихоньку меняем местный экономический уклад, подрывая дешевизной основы честного крестьянского труда, создавая все новые и новые потребности, о коих местные жители даже и знать раньше не знали и были счастливы. Потребности, которые в конечном счете разрушат изнутри сплетенную на века ткань этой средневековой деревушки с плотно осязаемой системой кровного родства, с наследными феодами и древними празднествами. Под чужеродным натиском от этой цельности вскоре не останется и следа. А все было сплетено так плотно, так симметрично и красиво, будто ласточкино гнездо. Мы же растаскиваем его на части, как шалопаи мальчишки, которые даже и понятия не имеют о том, какой наносят вред. Мы, сами того не желая, несем сюда смерть, смерть старому порядку, и лекарств от нее не бывает. К тому же и дело-то уже сделано – дюжина стальных балок, землеройный инвентарь, подъемный кран! И как-то вдруг вещи принялись менять фокус. Здесь появилась жадность, новая, не такая, как прежде. Начнется все с нескольких цирюлен, а закончится тем, что бухты будет не узнать. Через десяток лет тут будет не отличимый от всех других хаос пакгаузов, дансингов и дешевых борделей для моряков Торгового флота. Только дайте нам время!
Место, которое они выбрали для ретрансляционной станции, расположено в гористой восточной части острова, не там, где я жил прежде. И неким странным образом я обстоятельству этому рад. Я достаточно сентиментален, чтобы получать удовольствие от воспоминаний о прожитых здесь годах, – но сколь много выигрывают они, если чуть-чуть сместить центр тяжести: все не так, как прежде, и все как будто в первый раз. Вдобавок ко всему прочему эта часть острова совсем не похожа на все другие – долина, выходящая к морю, с крутыми, усаженными виноградом склонами. Почвы здесь золотистых, алых и бронзовых тонов – должно быть, мергели вулканического происхождения. Красное вино, которое делают из местного винограда, легкое и чуть-чуть pйtillant[100]100
Пенящееся (фр. ).
[Закрыть], будто в каждой бутылке дремлет свой маленький вулкан. Да, горы скрежещут здесь зубами (звук сей отчетливо слышен, когда потряхивает, а потряхивает часто) и стирают метаморфические скалы в зубной меловой порошок. Живу я в маленьком квадратном доме на две комнаты, он выстроен над винным погребом. Под окном – мощенный плиткой дворик, кругом террасы, а за ним другие такие же погреба – глубокие, темные, полные спящего в огромных бочках вина.
А виноградники тут кругом, и мы в самом центре; куда ни глянь, разбегаются, послушно рельефу голубых холмов над морем, неглубокие каналы взрыхленной и удобренной земли меж симметрично пышных, в полном соку шпалер. Галереи – нет, кегельбанные дорожки коричневой, с вулканическим пеплом земли, и каждая горстка взбита в пух кулачками и пальцами усердных здешних девушек. Кое-где над этим перебегающим рябью зеленым лесом, над сим виноградным ковром – одинокая смоковница или олива. Виноград настолько плотен, что заберись ты, пригнувшись, внутрь, и твое поле зрения мигом сократится до трех футов – как мышь во ржи. Я сижу и пишу, а где-то рядом по-кротовьи ходит дюжина невидимых девушек, копается в земле. Я слышу их голоса, но ничего не вижу. Они ползают там, как вольные стрелки за линией фронта. Солнце еще не встало, а они уже здесь, за работой. Я просыпаюсь и слышу: ага, идут, иногда – куплет из греческой песенки! А встаю я в пять. Появились пролетом первые птичьи стаи, на аэродроме их тепло приветствует немногочисленная делегация местных оптимистов охотников; постреляв лениво в белый свет, они идут себе дальше в гору, болтают и подначивают друг друга.
Прямо у моей террасы растет и дает днем тень большое и высокое тутовое дерево, и ягоды на нем – я таких не видел отроду: белые, огромные, как гусеницы. Они уже поспели, их нашли осы и упиваются теперь сладким соком. Они ведут себя совсем как люди, хохочут ни с того ни с сего во все горло, падают навзничь, затевают драки…
Жизнь трудна, но хороша. Сколько удовольствия потеть над решением реальной задачи и работать руками! И пока мы собираем, за дюймом дюйм растим из земли сталь, сей изящный, таинственный ex voto небу, – что ж, в то же самое время зреет виноград, и в его гроздьях течет напоминание, что и много времени спустя после того, как человек оставил свои невротические игры с инструментами смерти, в которых зримо выражен его страх жить, старые темные боги никуда не ушли – они здесь, под землей, схоронены во влажном гумусе хтонического мира (любимое слово П.). Они навечно осели в недрах человеческой воли. И не сдадутся никогда! (Я пишу что в голову взбредет, просто чтобы дать тебе представление о том, как я здесь живу.)
В горах уже жнут ячмень. То и дело встречаешь по дороге ходячие стога: стог, а под ним пара ног, и он бредет себе по здешним крутым тропкам. Непонятные крики местных женщин, гонят они скот или зовут друг друга, – с одного склона холма на другой. «Вау», «хуш», «ньяу». Ячмень укладывают на плоские крыши и молотят просто палками. Ячмень! едва скажешь слово, и тут же откуда ни возьмись являются муравьи, длинные цепочки черных муравьев, которые пытаются утащить сколько могут в свои потайные зернохранилища. Где муравьи, там непременно будут желтые ящерицы; они то лежат в засаде, моргая круглыми глазами, то воровато бегают туда и сюда, слизывая муравьев. Следом, словно в соответствии с некой гаммой причин и следствий в живой природе, в дело вступают кошки, они охотятся на ящериц и пойманных едят. Есть этих ящериц нельзя, должно быть, даже кошкам, потому что потом им бывает очень нехорошо и многие, объевшись ящериц, даже мрут. Но азарт охоты в них неистребим. А что потом? Ну, время от времени гадюка жалит кошку. Насмерть. Затем приходит человек с лопатой и перерубает гадюке спину. А человек? Прольются первые дожди, а после них наступит время осенних лихорадок. Старики так и посыпятся в могилы, будто яблоки с яблони. Finita la guerra![101]101
Конец войне! (ит. )
[Закрыть] Здешние места были оккупированы итальянцами, кое-кто из местных даже выучил язык – и по-итальянски здесь говорят с сиенским акцентом. Посреди маленькой площади стоит фонтан, там собираются женщины. Гордо демонстрируют друг другу детей и расхваливают их, будто на продажу. Тот худой, а этот толстый. По улице ходят молодые люди, горячие застенчивые взгляды. Один лукаво поет «Solo, рег te, Lucia».[102]102
«Тебе одной, Лючия» (ит. )
[Закрыть] Но те, у фонтана, только вскидывают головы и болтают себе дальше. Старик, по всей видимости глухой как пень, наполняет водой кувшин. Одна только фраза – и его словно током пробивает. «Дмитрий из большого дома помер». Его так и подбрасывает на месте. Он резко разворачивается, он вне себя от ярости. «Помер? Кто помер? А? Что?» Глухоту как рукой сняло.
Есть здесь свой маленький акрополь, теперь он называется Фонтана. Он высоко, уже в самых облаках. Но не так чтобы очень далеко. Крутой подъем по сухим, застывшим в руслах языкам вулканической лавы, сквозь облака черных мух; и вдруг навстречу, как из-под земли, выскакивает стадо черных коз, ну чисто бесы. На вершине – крохотная монастырская гостиница, и в ней единственный сумасшедший монах; ее как будто на гончарном круге лепили, этакая печь для обжига: из сухарей построена, сухой крупой посыпана. Отсюда можно вволю глоток за глотком пить ленивые туманные кривые, виды западной части острова.
А будущее?
Что ж, вот тебе набросок едва ли не идеального настоящего, которое, конечно же, не будет длиться вечно; в общем-то, срок почти что весь вышел, еще месяц или около того, и пользы от меня здесь не будет никакой, следовательно, сократится и должность, дающая мне пусть скудные, но средства к пропитанию. Собственных капиталов у меня нет, так что приходится искать ходы и выходы. Нет, будущее перекатывается у меня внутри с каждым креном корабля, так сказать, как расшатавшийся в трюме груз. Если бы не ты, не желание видеть тебя, сомневаюсь, попал бы ли я еще в Александрию. Я чувствую, как она тает во мне, в моих мыслях этаким прощальным миражом – будто печальная повесть о некой великой королеве, чьи сокровища канули среди разбитых армий и зыбучих песков времени! Душа моя все чаще и чаще стоит лицом на запад, к великому наследию Италии и Франции. Наверняка найдется подходящая работа среди тамошних руин – что-нибудь, что нужно будет хранить и лелеять, а может, даже и вернуть к жизни. Я задаю себе этот вопрос, но ведь по сути он обращен к тебе. Я еще не связан никакой дорогой, но та, которой я отдал бы предпочтение, ведет на запад и север. Есть и другие резоны. По условиям контракта мне обещана бесплатная «репатриация», как это там обозвали; возвращение в Англию не будет стоить мне ни гроша. А потом, на р-роскошное выходное пособие, каковое сей рабский контракт мне гарантирует, я думаю, смогу себе позволить небольшой отпуск в Европе. Душа моя поет при этой мысли.
Но что-то здесь должно решиться без меня, за меня; то есть у меня такое чувство, что решение должен принимать не я.
Прошу тебя, не сердись на мое молчание, коему убедительных объяснений у меня нет, – и черкни мне пару строк.
В прошлое воскресенье я вдруг обнаружил, что у меня выкраивается полтора свободных дня; я собрал пожитки в узелок и отправился пешком через весь остров, чтобы переночевать в том маленьком домике, где жил здесь раньше. Какой контраст в сравнении с плодородными долинами, где я уже успел обжиться, – сей ветреный пустынный мыс, кислотно-зеленое море, размытые береговые линии времен ушедших. Это и в самом деле был совсем другой остров – с прошлым всегда, наверно, так. Здесь всю ночь и весь следующий день я жил неким эхом прежней жизни, много думал о прошлом и о нас, что копошились в нем («избранные вымыслы»): нас тасовала жизнь, как талью карт, смешивала и разделяла, отзывала и возвращала на прежнее место. Мне даже показалось, что я не имею права чувствовать себя таким спокойным и счастливым: было ощущение Полноты Бытия, и единственный вопрос без ответа вставал передо мною всякий раз, как в памяти всплывало твое имя.
Да, совсем другой остров, суровый, терпкий на вкус, на вид – куда красивей. Держишь ночную тишину обеими руками и чувствуешь, она понемногу тает, – так ребенок держит пальцами кусок льда! В полдень в открытом море прыгнул дельфин. Вдоль линии воды легкая дымка – наверное, будет трясти. Платановая роща, гигантские деревья с черной слоновьей шкурой, ветер отдирает ее большими широкими свитками, обнажая мягкую серую кожу внутри… Я многое, оказывается, успел забыть.
От торных здешних троп он вдалеке, этот маленький мыс; разве что сборщики маслин сюда заглянут – когда сезон. А во все прочие времена единственные визитеры – углежоги; они проезжают через рощу каждый день перед рассветом: характерный перезвон стремян. Они выкопали на холме длинные узкие траншеи и горбатятся над ними день-деньской, черные как черти.
Но в прочем – живешь будто на луне. Тихий-тихий шум моря, днем – монотонный стрекот цикад. Утром у самой двери я поймал черепаху, на пляже видел раздавленное черепашье яйцо. Маленькие самоцветные предметы бытия прорастают в задумчивой душе, как разрозненные ноты некой огромной музыки, великой композиции, которую услышать, видимо, не судьба. Из черепахи вышел чудный и непритязательный домашний зверь. Так и слышишь ехидный голос П.: «Брат Осел и его черепаха. Счастливая встреча двух родственных душ!»
Картинка напоследок: вечером человек пускает голыши по тихой поверхности воды в лагуне. И ждет из тишины ответа».
Я едва успел вручить свое письмо почтальону – он разъезжал по всей округе на муле, собирал письма и отвозил их к морю, в «город», – и чуть ли не через час меня нашло письмо с египетской маркой, надписанное незнакомой рукой.
«Ну что, не узнал? В смысле – почерк на конверте? Каюсь, я даже хихикала, когда надписывала адрес, – прежде чем села за письмо, вдруг встало перед глазами твое ошарашенное лицо. И как ты вертишь письмо в руках, не вскрывая, и гадаешь, кто бы мог тебе его прислать!
Это первое серьезное письмо, на которое я решилась, если не считать коротеньких записок, с моей новой Рукой: такой странный косвенный соучастник, коим меня снабдил наш добрый Амариль! Хотела сперва отработать почерк, а уж потом писать тебе. Само собой, спервоначалу она меня пугала и раздражала, можешь себе представить. Но постепенно я научилась ее уважать, и еще как, эту красивую и умную стальную приспособу, которая лежит себе тихо со мной рядом в своей зеленой бархатной перчатке! И ничего из рук не валится, как казалось мне раньше. Я и сама бы не поверила, что приму ее настолько плотно и полно: резина и сталь – не самые близкие союзники человеческой плоти. Но Рука показала себя инструментом едва ли не более тонким, чем настоящая, из плоти и крови! Она столько всего умеет делать, и так ловко, что я ее даже побаиваюсь иногда. Она способна производить даже самые тонкие операции, листать, например, книгу, – и силовые тоже. Но самое главное – ах! Дарли, я пишу эти слова, и меня охватывает трепет: ОНА может писатъ
Я перешла границу и вступила во владение моим царством, и все благодаря Руке. Я и думать не думала. В один прекрасный день она просто взяла кисть, и – черт побери! – родилась картина, по-настоящему оригинальная и сильная. Теперь их у меня уже пять. Я взираю на них в почтительнейшем изумлении. Откуда они взялись? Но я знаю, что это Рука за все в ответе. И этот новый почерк тоже из недавних ее нововведений, крупный, уверенный, мягкий. Не думай, что я хвастаюсь. Я рассуждаю объективней некуда, потому что я за нее вроде бы и не отвечаю. Это все Рука, она ухитрилась как-то протащить меня через все рогатки – в компанию Тех, Всамделишних, как говаривал Персуорден. И все-таки я ее побаиваюсь немного: элегантная бархатная перчатка строго хранит свою тайну. А если я надеваю обе перчатки, анонимность гарантирована! Я наблюдаю за ней удивленно и с некоторой долей недоверия, как за красивым, но опасным ручным зверем, пантерой например. Кажется, нет ничего такого, чего она не могла бы сделать куда лучше меня. Это объясняет мое молчание и, я надеюсь, извиняет его. Я была полностью поглощена новым для меня немым языком пальцев и той внутренней метаморфозой, которую он за собой повлек. Все дороги предо мной открывались, и в первый раз в жизни все кажется возможным.
Я пишу, а на столе рядом со мною лежит билет на пароход во Францию; вчера я с абсолютной ясностью поняла, что должна туда ехать. Ты помнишь, Персуорден говорил, мол, художники, как больные кошки, знают абсолютно точно, какую травку им надо пожевать, чтобы выздороветь, и что сладкая и горькая на вкус трава их самопознания растет в одном-единственном месте, во Франции? Я уеду через десять дней! И среди многих вещей, которые я знаю теперь наверняка, недавно подняла голову – и еще одна уверенность: в том, что ты тоже последуешь туда за мной в свое положенное время. Я говорю об уверенности, не пророчестве – с предсказателями судеб я покончила раз и навсегда.
Я пишу все это для того, чтобы ты получил хоть малое представление о тех возможностях и той ответственности, которые пришли ко мне с Рукою вместе, я приняла их благодарно и с готовностью – и со смирением тоже. Всю прошедшую неделю я ходила по Городу с прощальными визитами; дело в том, что навряд ли я скоро вернусь в Александрию. Она утратила для меня всякую свежеть и не дает, говоря здешним языком, больше прибыли. Но разве можно не любить тех мест, которые заставляли нас страдать? Уехать – теперь это носится в воздухе; такое впечатление, словно вся гигантская конструкция наших здешних жизней двинулась вдруг неизвестно куда по воле нового, неведомого ранее течения. Ведь уезжаю-то не только я одна – куда там. Маунтолива, скажем, через пару месяцев здесь тоже не будет; невероятно удачное стечение обстоятельств, и ему досталась самая главная слива во всем их дипломатическом пудинге – пост посла в Париже! Он эту новость уже успел переварить, и вся былая неуверенность куда-то сразу делась; на прошлой неделе он обвенчался – тайно! С кем – я думаю, ты догадаешься сам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































