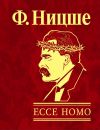Текст книги "Эротика"
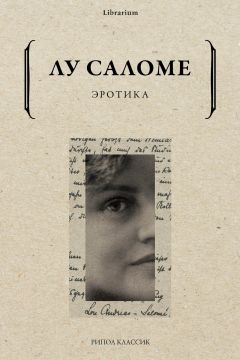
Автор книги: Лу Саломе
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Жизненный союз
Для того чтобы полностью отдать себе отчет в специфике наших любовных мечтаний, нам, словно с трамплина, необходимо совершить прыжок с небес на землю, и он будет тем более затяжным, чем смелее были наши мечты. Первоначально в иллюзии сублимируются только сопутствующие явления, только побочные эффекты физических процессов. И уже тогда они не являются опережением собственной действительности, продлением жизни, знаком и обещанием будущего; их напор приводит к забыванию того, что инстинкт жизни должен охватывать всю широту действительности, какой бы примитивной и грубой она не представлялась; как человек, зачарованный собственной влюбленностью ради того, чтобы в итоге прийти к самому себе, охватывает им самим рожденную призрачность. Непонятно, почему люди в порыве любви, сколь глубоким ни было бы их чувство, иногда все же могут испытывать определенное разочарование от соприкосновения с тем, что существует вовне: и это касается не только тех случаев, когда мечта не смогла осуществиться, но и тех, в которых все складывается, казалось бы, наилучшим образом. Тем не менее все живое всегда осуществляет свое бытие исключительно путем распада, деления и смешивания, посредством расщепления собственной личности, приблизительно так, как это происходит с зародышем в утробе матери, который длит свою жизнь путем деления и дробления. Допустим, что порыв любви и жизненный союз, брак, значительно не совпадают друг с другом, тогда не совсем ошибаются те, кто иронически утверждает, что некоторым свойственно находить нечто там, где другие только теряют, и это связано не с различием целей, которые они себе ставят, а с существованием двух фундаментально различных способов переживать любовь.
На самом деле эротический аффект заканчивается в особой этике чувства приблизительно так же, как река заканчивается в море: достигая общности, он прекращает свое существование, но вместе с тем облагораживается и начинает вбирать, впитывать в себя внеэротические явления. Жизненный союз осуществляется путем исчезновения более раннего аффекта, в тот момент, когда к нему присоединяется компонент воли. Ничего не поделаешь: смерть предыдущего в последующем – основа всего. Мужскому, чисто «головному», этически обусловленному понятию верности необходимо найти основу в женской интуиции целостности влечения. Вполне допустимо, что на основании новых данных психофизиологии будут сделаны выводы в пользу сексуальной воздержанности, следование которой было бы не только приемлемо в отношении здоровья, но сказывалось бы полезно в смысле аккумулирования жизненной энергии, а также имело бы преобразующий эффект. И тогда найдется немало женщин, которые с тайной улыбкой чувствовали бы, что они об этом давно уже что-то знали, они, в которых принудительное сексуальное воспитание всех христианских столетий, по меньшей мере на некоторых уровнях, обернулось естественной независимостью в противоположность голой потребности инстинкта. Хотя именно эротическая любовь служит основанием для становления жизненного союза, все же она учит лишь тому, что к ней следует относиться по преимуществу как к некоему феерическому промежуточному этапу, высшее назначение которого задавать пространство для дальнейшего развития. Дух, который перед тем возвысил эротическую любовь от сексуального инстинкта до праздника слияния душ, на этом этапе относится к ней как к буднему дню и оказывается вынужденным покинуть ее ради дальнейшего продвижения и углубления. Ему предстоит одухотворять новую, еще не испробованную форму бытия – жизненный союз двоих. В данном случае верность оценивается уже не как побочный продукт той сверхценности, которая приписывается тем особенным отношениям, что чудесно и восхитительно сложились между мужчиной и женщиной, а как принцип некой универсальной связи всего живого. Любовный порыв по отношению к жизненному союзу подобен буйству весеннего цветения по отношению к долговечности самого дерева, способного каждую весну черпать из почвы силы для нового роста. Любой радиус, в котором сконцентрировалась эротика, превращается в спасательный круг вечности в потоке временности. И чтобы покрывать вечность, к которой мы прикованы якорем эротики, дух должен отдавать должное природе. Вообще попытка разъять единое развитие на два отдельных потока – духовное восхождение и природную эволюцию – не более чем абстракция, ужасное расщепление неразделимого. Является ли брак чисто духовным установлением, санкцией, дарованной небесами, или результатом естественного отбора наиболее жизнестойких форм существования? Во всяком случае, мало какой жизненный союз способен удержаться от смешения самого возвышенного с откровенно пошлым. Враги супружества упрекают его чаще всего именно за этот эклектический характер. Знаменитая венчальная формула «навеки в радости и горе» еще не открывает, как практически, совсем по-иному, чем в порыве любви, должна проявиться подлинность супружеского чувства – претерпевание горестей и разделение радости не в непосредственности аффективного экстаза, а для конечной цели полной общности. В конечном счете тайна брака заключена в том, что он означает жизнь друг в друге, а не друг с другом, пусть даже в религиозном, совершенно идеальном смысле. Супруги «друг в друге» – это одновременно любимые, брат и сестра, беженцы, укрыватели, суровые судьи, милосердные ангелы, снисходительные друзья, непосредственные дети; более того – два распахнутых навстречу друг другу бытия, доверчивые в своей божественной наготе.
Опыт Бога
Наш первый опыт, исключительное переживание – это опыт утраты. Когда-то изначально мы были неделимым целым, полностью и неотъемлемо принадлежали Единому, и вот мы были выброшены в рождение, стали маленьким фрагментом этого Единства и с тех пор неотступно озабочены тем, чтобы не подвергнуться новым «ампутациям». Уберечь хоть осколок цельности и заявить о себе внешнему миру, который наваливается на нас в своем многообразии и в который, покидая наше абсолютное величие, мы упали, как в пустоту, – ту, что поначалу лишила нас всего.
Первая «память» – именно так мы назовем это чуть позже – одновременно шок, разочарование, связанное с потерей того, чего больше нет, и необъяснимая уверенность, запрятанная в каком-то уголке сознания, что это должно еще быть.
Здесь скрыта проблема детства – первая и изначальная. Это же присуще и всему человечеству в эпоху его детства – чувство принадлежности к бесконечной Вселенной, напоминающее о себе по мере того, как человеческое сознание пробуждается от соприкосновений с испытаниями жизни: кажется, здесь исток великого мифа об исконной причастности ко всемогуществу. И первые люди умели поддерживать эту веру с такой убежденностью, что мир вероятностей казался полностью зависимым от магии, практикуемой людьми. Последние всегда слегка сомневались в независимости внешнего мира, который, казалось, еще недавно представлял с ними единое целое: они всегда исправляли кажущийся разрыв, прокравшийся в их сознание благодаря воображению. Этот невидимый, но переживаемый мир над и рядом с собой, это воображаемое возражение посюсторонней проблематичности существования человек назвал своей религией.
И он был способен и смог по-детски непосредственно совместить в своем сознании религиозные верования с объективными ощущениями, потому что его пробуждающаяся способность здравого смысла еще очень слаба, а его природная склонность не хочет ничего признать невозможным и принимает любые чрезмерности как правдоподобные, – все превосходности сплелись магически в человеке.
Пусть не думают, что ребенок, не подвергшийся какому бы то ни было религиозному влиянию, может полностью избежать этой первой фазы: его смутная способность распознавания реальности никогда не оспаривает силу его желаний, по преимуществу чрезмерных. Потому что вначале мы не склонны отказываться от нашего чувства принадлежности ко всей Вселенной, которое достигает невиданных пропорций, охватывает все и непроизвольно переносится на предметы наших первых привязанностей или наших первых несогласий, требуя преображений или деформаций. Да, скажем ТАК: если время не помешало ребенку сохранить на дне души этот изначальный вид опыта и на него слишком плотно наслоились разочарования, которые неизбежно накапливаются, когда его ощущение реальности вынуждено слишком рано сделаться критическим, остается опасаться, что его естественное желание фантасмагорировать, которое предшествует во всей широте пробуждению сознания, будет насильственно подавлено и по-особому отомстит однажды прозаической действительности химерными экстравагантностями, и тогда увлеченная этой запоздалой реакцией личность может совсем лишиться критерия объективности.
Но нужно добавить и следующее: у нормального ребенка воспитание его слишком религиозным как бы стирает реальный облик того, что он замечает вокруг, и если на определенном этапе его особая любовь к сказочным историям не уступит место живому интересу к жизни, произойдет чаще всего воспрещение развития, разнобой между составными частями сознания – теми, которые ему представляют «вкус самой жизни», и мифопластами, которые его удерживают от смиренности перед ограничениями этой жизнью навязываемыми.
Фактически при нашем рождении происходит разрыв (между миром и чем-то другим, откуда, как нам кажется, мы могли бы явиться), который разделяет отныне две формы, и само наличие этого разрыва взывает к существованию «связного» между мирами. В моем случае многочисленным столкновениям раннего детства удалось спровоцировать определенную регрессию: тогда как мое суждение уже достаточно хорошо адаптировалось к реальности, я перенеслась в мир чистых эйдосов, безграничного воображения; родители, взгляды родственников были тогда мною оставлены (почти что преданы) ради более полного состояния, большей принадлежности к высшей силе, которая приближает к тотальной суверенности, даже ко всемогуществу.
Образно говоря, все происходит так, словно покидаешь утробу родителей, от которой однажды нужно оторваться, чтобы погрузиться в утробу Бога, который кажется Главным Отцом, пестующим нас безусловнее, позволяющим все, сверхвеликодушным, будто карманы его полны подарков, и это делает нас такими же сильными, как он, хотя и не такими «добрыми»; он представляет фактически слияние двух родителей – тепло материнской утробы, соединенное с отцовским всемогуществом. Разделять, разводить эти миры силы и любви означает насильственно взрывать состояние изначального блаженства, которое предшествует рождению и находится еще по ту сторону любых желаний, любых стяжаний из внешнего мира.
Но где человек берет способность извлечь продукт своего воображения для истинной действительности? Без сомнения, источник этого – в упрямой неспособности человека самоограничиться во внешнем мире, признать реальным, что то, что вне «Нас», уже не является нашим продолжением, что оно нас полностью исключает.
В моем случае эта неспособность оказалась причудливо связанной с моими отражениями в зеркале. Когда я должна была смотреться в него, я была странно поражена открытием, что Я – только то, что там вижу: существо, ограниченное со всех сторон и обреченное больше не существовать в других вещах, даже самых близких. Когда я не смотрелась в зеркала, это впечатление стиралось, и в какой-то степени мое чувство отказывалось верить в «неприсутствие» во всем: если частички моего «я» не находили больше приюта во всем, что окружало меня, это означало потерю вселенского пристанища. Порой мне кажется, что подсознательно эта проблема сбереглась во мне и позднее, во времена, когда внутреннее самоотражение давно уже выражает положенную четкую самоидентификацию: я всегда инстинктивно сливалась со внутренними мирами других, мне было непросто четко отмежевывать себя от близких.
Благодаря маленькому детскому воспоминанию, мне удалось позднее отрефлексировать, как мне приходилось тогда поступать, чтобы ограждать себя от сомнений. Однажды отец принес мне с праздника при Дворе изумительную папилотку, в которой я представила себя в одеждах из настоящего золота, но когда я узнала, что одежды были из тонкой шелковой бумаги с позолотой по краям, я просто не развернула пакет. Значит, там все-таки была, несмотря ни на что, одежда из золота, просто я оставила ее в волшебной неприкосновенности.
Так, подарки Бога-Праотца не должны были быть видимыми для меня, потому что их ценность и обилие представлялись мне огромными; они абсолютно присутствовали и не имели никакой привязки к реальным поводам, как другие, несакральные подарки, получаемые от людей в знак их внимания. Ведь всякие дары на празднества и дни рождения присутствовали там не абсолютно, а потому, что ты был послушным, или как аванс будущего послушания. Но я часто была непослушной девочкой, и из-за этого меня ужасно наказывали березовой веточкой, на которую я никогда не упускала случая пожаловаться надменно Доброму Богу. И он был полностью на моей стороне и даже разгневан иногда…
Конечно, эта живость моего воображения постепенно подводила меня к расширению рамок каждодневной жизни видениями, которые я накладывала на реальные события и которые чаще всего вызывали улыбку. Однажды летним днем, когда я возвращалась с прогулки с одной родственницей чуть старше меня, нас спросили: «Ну хорошо, что вы видели на прогулке?» Со множеством подробностей я рассказала целую драму. Моя маленькая спутница, по-детски честная и простодушная, посмотрела на меня с расстроенным видом и оборвала, крича ужасным голосом: «Но ты же лжешь!»
Мне кажется, что именно с того дня я старалась выражаться точно, пытаясь ничего не добавлять, даже самую малость, хотя эта ограниченность, которую мне навязывали, меня страшно огорчала.
Слишком многие не проводили различия между мифом и ложью. После этого случая я поняла, что нужно заменить слушателя своих историй на бесконечно щедрого и доверчивого: я начала рассказывать свои сказки о подлинной жизни Доброму Богу по вечерам в темноте. Я ему изливала легко, без понукания, целые истории. Эти истории были особенными. Они порождались, мне кажется, из желания обладать властью, чтобы присоединить к Доброму Богу внешний мир, такой будничный рядом со скрытым миром. И совсем не случайно, если я заимствовала материал для своих историй в реальных событиях, во встречах с людьми, животными или предметами, иметь Бога в качестве слушателя было достаточным основанием, чтобы придать им сказочный характер, который мне не нужно было подчеркивать. Напротив, речь шла только о том, чтобы убедиться в существовании реального мира. Конечно, я ничего не могла рассказать такого, чего Бог в своем вечном всеведении и могуществе уже бы не знал; и это как раз гарантировало в моих глазах несомненную реальность моих историй. Поэтому, не без удовлетворения, я начинала всегда с этих слов: «Как Тебе известно…»
О «маленькой трагедии», из-за которой эта воображаемая связь, хоть и неясная, оборвалась, мне вспомнилось во всех подробностях только очень поздно, на склоне моих дней; о ней упоминается в маленьком рассказе, названном «Час без Бога», но ребенок из рассказа помещен в другом месте и других условиях: может быть, для того, чтобы выразить свое скрытое «я», мне нужно было всегда создавать определенную дистанцию.
А дело было так.
Слуга, который зимой приносил в город свежие яйца из нашей сельской усадьбы, рассказал мне, что видел посреди сада, перед домиком, который принадлежал только мне одной, «семейную пару», которая хотела войти, но которую он выпроводил. Когда он в следующий раз пришел, я спросила о парочке конечно же потому, что мысль о их страданиях от холода и голода меня беспокоила:
– Куда же они смогли уйти?
– Ну, – сообщил он мне, – они не ушли.
– Тогда они все еще перед домиком?
– И это не так: они полностью изменились и, можно сказать, исчезли. Потому что однажды утром, когда он подметал перед домом, он нашел только черные пуговицы от белого манто женщины, а от мужчины осталась лишь совсем мятая шляпа; а земля в том месте была все еще покрыта их застывшими слезами.
То, что взволновало меня больше всего в этой истории, не было чувством жалости к паре, это была непонятная загадка времени, которое проходит и уносит с собой вещи неоспоримые и реальные…
Что-то, казалось, лишает меня настоящего объяснения этой загадки времени, и все во мне страстно требовало ответа. Обычно Бог не обязан был мне отвечать, ему требовалось только быть, так сказать, очень внимательным к тому, что он уже сам знал. На этот раз я тоже не просила у него много, но мне нужна была разгадка, окончательная. Своими невидимыми губами немого рта ему нужно было произнести только несколько слов: «Мсье и мадам Снег». Но он молчал, и это стало катастрофой. И это было не только моей личной катастрофой: она разорвала покрывало, скрывающее невыразимый ужас, который нас подстерегал. Потому что не только я одна видела, как уходит Бог, – его потеря коснулась всей Вселенной.
Эта катастрофа коснулась даже героев моих сказок и историй. Я помню, в разгар моей кори, в приступе горячки, кошмар, в котором я наблюдала многочисленных персонажей своих историй, бездомных и одиноких, покинутых мною. Без меня никто из них не знал, куда идти, ничто не могло их освободить от смятения. Ведь теперь мои истории не начинались, отдыхая какое-то время на нежных руках Бога, и он не извлекал их из своих огромных карманов, чтобы сделать мне подарок, полностью освященными и оправданными. Были ли они настоящими с тех пор, как я не начинала их больше с уверенного: «Как Тебе известно…»?
Отсутствие Бога, конечно, не превратило меня в маленькую дьяволицу: оно, что удивительно, сделало меня намного послушней, несомненно, потому, что моя удрученность должна была смягчить мое привычное неповиновение и строптивость. Я чувствовала непреодолимое сострадание к своим родителям, для которых я не должна была теперь быть причиной дополнительных забот, ведь они тоже были поражены в самое сердце, как и я; да, они тоже потеряли Бога, но они этого не знали.
Иногда я думаю, что «прививка» детской богоутраты уберегла меня позднее от шока и невроза «смерти Бога», который так смял душу Ницше, заставив его религиозный гений болезненно сконцентрироваться на себе самом вместо обращения к живительной силе, лежащей вне его и включающей его. Я слишком хорошо если не знала, то чувствовала благодаря этому столь мимолетному и столь глубоко запечатленному в душе эпизоду детства, что в утрате Бога всегда кроется… пусть не вина, но некое странное соучастие. Так, я помню, как во время наших обычных молитв я была буквально выброшена из оцепенения, когда имя дьявола или дьявольских сил было произнесено вслух: «А существует ли еще он, тот?» – вспыхнуло во мне. Он ли окончательно освободил меня от утробы Бога, где мне было так хорошо и спокойно? И если это он, то не облегчила ли я ему таким образом задачу? Ведь поразительная банальность обстоятельства, которое меня заставило подвергнуть моего Господа испытанию, с трудом позволяло верить в достаточность такого повода. И все же в своем самом первом детском стихотворении, начертанном в таинственном свете бессонных ночей бабьего лета, я обращалась если не к Богу, то к Небу:
О небо, ясно распустившееся надо мною,
Именно к тебе я взываю:
Сделай так, чтобы отныне радости и горести
Не мешали мне глядеть на тебя!
Ты, простирающееся над миром
Сквозь пространства и бури,
Укажи мне путь, в котором я нуждаюсь,
Чтобы обрести тебя…
Радостям я не хочу конца,
Но не хочу и прятаться от горя;
Хочу простора, синевы и моря,
Чтоб преклониться и растаять в нем.
Я помню свое удивление, когда однажды, роясь в бумагах, наткнулась на этот листок, совсем пожелтевший и истрепанный; я забыла об этих стихах, но когда я их перечитала, обнаружила там основную тональность, которая с тех пор прошла через всю мою жизнь и все мои поступки.
И этот пожелтевший листок напомнил мне другой, с ницшевским росчерком на обороте. Он выудил из моей памяти маленькую жизненную историю. В юности у меня над кроватью висел календарь библейских сентенций, содержавший 52 параграфа, сменяющих друг друга на протяжении года, и когда настала очередь Тезиса 4, 11, я его закрепила:
«Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии. Выполняйте ваше предназначение, не гнушаясь работы собственными руками».
Это изречение иррационально чем-то так взволновало меня, что, устроившись за границей, я попросила переслать мне наряду с другими различными вещами и этот листок. В то время я не могла бы убедительно объяснить, почему я это сделала. Но этот календарь с этим изречением и сегодня все еще у меня, и это можно понять, потому что до сих пор во мне еще просыпается это раннее чувство заброшенности, смешанное с полной покорностью судьбе. Эта цитата необъяснимо поддерживала меня все те годы, когда Бог был мне чужим. И она выстояла, даже несмотря на модификацию, которой ее подверг Ницше: прочитав, он перевернул листок и написал на обороте гётевский девиз из «Горячей исповеди»:
«Оставь привычку полумеры ради действительной жизни во всей ее полноте и красоте».
Это искушение Ницше не заставило меня отречься от изначальных, глубинных переживаний. А от внешней религиозности отвлекать меня было излишне: ко времени встречи с Ницше я уже прошла через опыт отказа от конфирмации. Когда мне было 17 лет, именно одно внешнее событие пробудило в моей памяти религиозные столкновения раннего детства. Я готовилась к конфирмации с Германом Дальтоном, пастором Евангелистской Реформатской Церкви. По этому случаю что-то во мне приняло сторону Бога моего детства, казалось бы, исчезнувшего с давних пор, столкнувшись с оправданиями и нравоучениями, в которых он тогда совсем не нуждался. Что-то вроде благоговейного и тайного бунта заставило меня отвергнуть доказательства его существования, его прав, власти, его несравненной доброты; я испытывала что-то вроде стыда, потому что все это мне казалось глубокими тайнами моего детства. Пастор слушал все это, изумленный. Конкретно вопрос о конфирмации был решен следующим образом: апеллируя к болезни моего отца, Дальтон убедил меня остаться на второй год подготовки, чтобы, покидая Церковь, не спровоцировать конфликт, который неизбежно расстроит мою семью. Но я все-таки ее покинула. То, что повлекло это решение, не было фанатичной любовью к правде, а, скорее, инстинктивным и бесповоротным внутренним чувством Судьбы. Перед этим я увидела сон, в котором мои губы произносили «нет».
В течение жизни моя учеба и другие обстоятельства привели меня к занятиям философией и даже теологией – сферам, к которым меня всегда стихийно влекло. Однако это вовсе не было связано с прирожденной набожностью моей натуры и уж совсем никак с моим внутренним переломом. Никогда интеллектуальным усилием я не пыталась возродить прежнюю детскую веру, так как она никогда не осмеливалась проникать в «мысль взрослого человека». Слишком ранний характер впечатлений детства, описанных мною, мог бы по справедливости показаться исключительным и вызвать удивление, потому что он был, без сомнения, связан, как я уже сказала, с сильной инфантильной регрессивностью, или желанием задержаться в детстве. Слишком ранний образ Бога, сформировавшийся в этих недрах, не выдержал бы попытки позднейшего одухотворения: никакая концепция Бога не «приручила» бы моих смутных детских интуиций, а разрушила бы их более чем жестоко и только вызвала бы сильное потрясение. Разумеется, я одобряла и нередко восхищалась тем, как другим удавалось демаршем мысли создать для себя какой-то суррогат – отсеянный и интеллектуализированный – из своей непосредственной изначальной набожности, которую им приходилось каким-то способом связывать с ментальной зрелостью. Конечно, это часто было для них наилучшим способом прослеживать свою внутреннюю эволюцию, постичь урок своей жизни, что им действительно удалось много лучше, чем мне, которая никогда не могла «переварить» этот «урок своей жизни», не останавливаясь многократно и не переводя дух на «промежуточных станциях». В конце концов, это так и осталось для меня неисполнимой задачей.
Что меня, однако, больше всего привлекало к людям – и к живым, и к уже не живущим, – которые полностью посвятили себя этому виду размышлений, так это их индивидуальность. Напрасно призывали они на помощь всю возможную философскую сдержанность; было ясно, что в динамическом развитии Бог был их первым и последним опытом среди всех, которые им суждено было пережить. Что другое, пережитое ими, можно было бы сравнить с этим опытом? Я никогда не переставала любить их любовью, которая ищет путь к человеческому сердцу, откуда таинственно проистекает наша подлинная судьба.
И все же помимо негативного результата мой инфантильный опыт богоутраты имел на том этапе и решающий позитив: он заставил меня, отрешенную, погруженно-мечтательную, окончательно окунуться в реальность жизни. Я уверена, что для меня, насколько я могу судить по своей биографии, сентиментальные заменители Бога смогли бы только уменьшить его значение, умалить его, оскорбить. Однако охотно признаю, что для многих опыт интеллектуальной трансформации детской веры является совершенно иным, для них это образ, ведущий их дальше, – то, чего я не смогла достичь.
И тем не менее я сумела достичь чего-то принципиально другого – мне удалось дать продуктивный, творческий ответ на первое детское испытание: вера в чудесное всемогущество Доброго Бога была преобразована в фундаментальное чувство беспредельной солидарности моей судьбы со всем, что существует. Оно родилось спонтанно в то самое время и никогда уже не теряло своей силы – это была презумпция всеобщего равенства судьбы, которая простирается не только на других людей, но готова слиться со всеми песчинками Космоса. Ценность любой вещи не может быть поколеблена ничем – ни убийством, ни разрушением, ничто не смеет нас заставить не считаться с его онтологической священностью, уважая бремя его существования, которое оно разделяет с нами, потому что, как и мы, он есть.
Не могу подобрать слово, чтобы вы смогли понять эмоциональный шлейф, тянущийся от изначального моего отношения к Богу. В действительности, не было никакого другого желания во всей моей жизни более непреодолимого, чем потребность в священном почитании, ибо любое иное желание по отношению к чему-то или к кому-то всегда уже было вторичным. Так что это слово – почитание – еще раз помогает мне выразить солидарность нашей судьбы с другими судьбами, солидарность, которая касается самых важных вещей, хотя, когда речь идет о Судьбе, и самые маленькие вещи имеют свое значение. Иными словами, всегда, когда нечто «есть», оно аккумулирует в себе всю силу Бытия, как если бы эта вещь была всем.
И потому, вне всякой логики и, может быть, вразрез всему рассказанному выше, я должна признать, что любая форма веры, даже самая абсурдная, была бы предпочтительней того, что человечество окончательно утратит сакралитет – священное чувство почитания, единственно способное высекать в нас искру сопричастности со Всем, с целостностью и переплетенностью судеб.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?