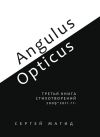Текст книги "Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020"

Автор книги: Людмила Зубова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Людмила Зубова
Грамматические вольности современной поэзии, 1950—2020
ПРЕДИСЛОВИЕ11
Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта Университета г. Трир (Германия) при поддержке DFG Russischsprachige Lyrik in Transition: Poetische Formen des Umgangs mit Grenzen der Gattung, Sprache, Kultur und Gesellschaft zwischen Europa, Asien und Amerika (FOR 2603) и при поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Грамматика в современной поэзии» РГНФ № 08-04-00214а (2008–2010 гг.).
[Закрыть]
Жизнь, расшибаясь о встречи,
Жаждала смысла, дела…
Шероховатости речи —
Лучшее, чем я владела.
Татьяна Бек
Современная поэзия22
В книге анализируются поэтические тексты начиная со 2‐й половины ХХ века.
[Закрыть], ориентированная на свободу языковых экспериментов, во многом противостоит стандартам мировосприятия, которые диктуются привычными языковыми структурами, в частности предсказуемостью лексических и грамматических связей в речи и тексте.
Лингвистическая теория часто опирается на исследование границ допустимого в нормативном языке. Поэты тоже исследуют границы допустимого – нарушая их. При этом поэты, предлагая увидеть мир в неожиданном ракурсе, исследуют не только выразительные, но и познавательные возможности языка.
Резкое возрастание степеней свободы по отношению к реальности делает искусство полюсом экспериментирования <…> Гениальным свойством искусства вообще является мысленный эксперимент, позволяющий проверить неприкасаемость тех или иных структур мира (Лотман 2000: 130).
В языке наиболее стабильна грамматика. Ее устойчивость «находит разительное подтверждение в том активном сопротивлении, которое оказывают грамматические структуры требованиям экспериментальной поэзии» (Якобсон 1987: 84).
Грамматические преобразования в языке, хотя и очень медленные33
«Морфологический строй языка характеризуется минимальной восприимчивостью к внешним явлениям и чрезвычайно медленной изменяемостью» (Панов 1968: 9).
[Закрыть], а также игровые сдвиги и авторские эксперименты, не прибавляя и не убавляя языковых единиц, изменяют способ восприятия и отражения действительности, сложившийся в общем опыте носителей языка и, соответственно, закрепленный нормой. Кроме того, искусство в целом и поэзия в частности не столько отражают действительность, сколько творят собственный художественный мир.
Двадцатый век экспериментировал с грамматикой весьма активно и радикально. Футуристы, имажинисты, обэриуты с разных позиций объявляли войну грамматике:
[После футуристов и обэриутов. – Л. З.] нацеленность на «расшатывание», «разрушение», «ломку», «преодоление» грамматики вошла в языковое сознание или дала рефлексы в реальной поэтической практике многих поэтов (Красильникова 1993: 222).
По существу, современная поэзия с ее повышенной филологичностью – это своеобразная лингвистическая лаборатория, исследование языка в которой не менее продуктивно, чем научное. Поэзия часто пытается найти новое применение тому, что стихийно появляется в языке, и тем самым производит отбор функционально жизнеспособных элементов. Поэтому обращение к художественным текстам современных авторов оказывается полезным для постановки и решения теоретических и практических проблем лингвистики, касающихся осмысления новых языковых явлений. Как утверждал еще А. А. Потебня, «поэзия <…> является могущественным донаучным средством познания природы, человека и общества. Она указывает цели науке, всегда находится впереди ее и незаменима ею во веки» (Потебня 1990: 143).
Эстетическая функция языка способствует чувственному представлению грамматических категорий.
Современная поэзия, активно экспериментирующая со словом и грамматической формой, постоянно извлекает из языковых единиц и структур тот художественный смысл, который проявляет себя в нарушении правил сочетаемости и согласования форм, в конфликте между грамматикой и лексикой, в противоречиях между нормой и системой языка, в вариантности языковых единиц. Ю. Д. Апресян отмечал, что языковые аномалии – это «точки роста новых явлений» (Апресян 1990: 64), а Н. Д. Арутюнова – что они воспринимаются семиотически, являются знаками скрытого смысла (Арутюнова 1999: 90).
Употребление грамматических форм с отклонением от нормы и от узуса44
Узус – обычное, массовое употребление языковых единиц, не всегда соответсвующее норме.
[Закрыть] у поэтов часто сопровождается языковой рефлексией, выражением эмоций, иронической тональностью. Форма слова, на которой сосредоточено внимание авторов, нередко становится показателем отношения человека к жизни, выразителем социальных, идеологических и психологических факторов, а иногда и поведенческих установок.
Поэтому изучение поэтической грамматики имеет значение не только для лингвистики, но и для литературоведения, а также психологии, социологии и других смежных областей знания.
При цитировании поэтических текстов орфография, пунктуация и курсивное выделение воспроизводятся по тем источникам, на которые даются ссылки.
Выделение фрагментов текстов полужирным шрифтом мое – Л. З.
ГЛАВА 1. ИМЕННОЙ СИНКРЕТИЗМ
Язык мой – зверь мой. Зверь мой – язык и высок. <…> Язык мой пятнист и велосипедист <…> Зверь мой крылат и шоколад, членистотел и улетел.
Александр Левин
Рассмотрим поэтическое употребление кратких прилагательных, а также некоторых полных прилагательных – отсубстантивных поэтических неологизмов – как проявление именного синкретизма, характерного для современного поэтического языка.
Традиционно и в филологических исследованиях, и в преподавании подобные прилагательные в сочетаниях типа древесну сень считаются усеченными (см., например, Винокур 1959: 346–355), но я все же предпочту называть их краткими в соответствии с исторической достоверностью55
Не только фразеологизированные формы прилагательных в сочетаниях типа средь бела дня, на босу ногу были первичными по отношению к формам типа белого, босую, но и все прочие прилагательные, не вошедшие в устойчивые сочетания. Ни атрибутивная или предикативная функция, ни перенос ударения с основы на окончание (крáсна – краснá) не имеют решающего значения для отнесения прилагательных к разным категориям, так как сказуемыми вполне могут быть и полные, и краткие прилагательные: она умная и она умнá), а ударение в сказуемом далеко не всегда отличается от ударения в определении (она безумна, приятна, приветлива, заметна); нулевое окончание форм мужского рода вообще не может быть ударным (добр, весел и т. п.). Характеристика форм типа сладк, умн, верн как очевидно искусственных, вторичных по отношению к полным прилагательным (см.: Винокур 1959: 348) тоже не убедительна: в этих случаях язык осуществляет одну из возможностей, связанных с историей редуцированных гласных. И даже если формы типа сладк, умн, верн появились в поэзии через шесть-семь веков после утраты и прояснения редуцированных, язык сохранил возможность фонетического варьирования при формообразовании.
[Закрыть].
В современной поэзии мы наблюдаем очень заметную массовую активизацию кратких прилагательных в атрибутивной функции.
Подсчеты, выполненные А. С. Кулёвой (Кулёва 2017), показали, что в XVII веке атрибутивная функция кратких прилагательных еще была обычным явлением в языке, в XVIII веке такая функция воспринималась как поэтическая вольность – нарушение языковой нормы, допустимое в поэзии66
«По существу, списки поэтических вольностей – это петиция от поэта к Аполлону с перечислением индивидуальных провинностей, которые поэт просит не ставить ему в вину» (Живов 1996: 226).
[Закрыть].
Мнение о том, что употребление кратких (усеченных) прилагательных вместо полных сначала определялось только потребностями ритма и рифмы, было и остается достаточно устойчивым, его поддерживали и сами поэты XVIII века, и многие филологи (см.: Винокур 1959: 346–355) – несмотря на очевидные факты атрибутивного употребления нерифмованных кратких прилагательных, равносложных полным. Немало примеров такого употребления приведено в монографии А. С. Кулёвой (Кулёва 2017). Постепенно поэтическая вольность становилось новой художественной нормой. А. С. Кулёва исследовала динамику атрибутивных кратких прилагательных и показала, что на рубеже XVIII–XIX веков возникали штампы типа небесна красота, люта смерть, жестока страсть, нежны взоры; краткие прилагательные оказались особенно востребованными поэзией раннего романтизма, а во второй половине XIX века, с приближением поэтического языка к разговорному, употребление таких форм переориентировалось с церковнославянской традиции на фольклорную; в это время развивалось также ироническое и сатирическое употребление форм. В поэзии первой половины ХХ века сокращалось количество усеченных прилагательных, но расширялась сфера их употребления, становились разнообразнее функции. Начиная примерно со второй половины ХХ века количество кратких прилагательных-определений увеличивается, расширяется их репертуар (Кулёва 2017).
В современной поэзии, смешавшей новое со старым, шутливое с серьезным, свои слова с чужими, активизировался традиционный поэтизм (штамп), казалось бы, давно ставший непригодным для серьезного высказывания. Однако в случае атрибутивного краткого прилагательного это традиционный поэтизм не лексико-фразеологический, а структурный. А само смешение всего, что принято различать, обернулось на новой стадии поэтического мышления востребованностью синкретизма, который был характерен для общеиндоевропейской и общеславянской стадии развития языка.
Устранение стандартной сочетаемости кратких прилагательных
Общеязыковыми фразеологическим реликтами именного синкретизма являются выражения типа средь бела дня, на босу ногу. Краткие прилагательные в этих словосочетаниях жестко ограничены лексически, вполне можно составить список таких слов, и он будет коротким77
«В русском языке краткие (нечленные) формы прилагательных встречаются в атрибутивной функции только в немногих идиоматических сочетаниях типа средь бела дня» (Исаченко 2003: 190). Как правило, компоненты таких словосочетаний грамматически неизменны (в норме невозможно *бел день, *белу дню, *боса нога, *на босе ноге). Словосочетания склонны к лексикализации, наиболее отчетлива она в интонационном единстве и, соответственно, дефисном написании единиц типа сыр-бор.
[Закрыть].
Современная поэзия сопротивляется фразеологичности языка как воплощению стандарта при создании и восприятии текстов. Сопротивление обнаруживается и в том, что поэты не мирятся с лексической и грамматической идиоматичностью реликтов, оставшихся от прежних систем.
Так, Валерий Шубинский заменяет постоянный эпитет из сочетания сине море на индивидуальный, создавая тем самым напряжение между фольклорной и авторской картиной мира:
Наталья Горбаневская, воспроизводя языковую единицу сыр-бор в буквальном смысле (говоря о лесе, а не о скандале) и сохраняя дефис как знак лексикализованности сочетания, изменяет падежную форму:
Тамара Буковская, употребляя архаизированную грамматическую форму в терминологическом сочетании смирительная рубаха, перемещает лексическое значение прилагательного с бытового уровня на символический:
Обратим внимание на то, что слова смирительну рубаху в этих строчках представляют собой метафору снега. Для архаизма типична связь изображаемой реалии с вечностью, независимость этой реалии от времени. Важен здесь и контраст высокого стиля прилагательного-поэтизма с экспрессивно-разговорными выражениями не околеть, не одуреть со страху. Отстраняющее слово пейзаж вносит в текст неразличение реалии с ее изображением и тем самым соединяет природу с искусством. Возможно, подтекстом этих строчек являются стихи Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума…» и «Бесы»: в стихах Буковской сумасшедшей предстает природа.
В стихотворении Виктора Кривулина «Крыса» символический план грамматической формы представлен особенно отчетливо. Автором сакрализируется андеграунд, лидером которого в Ленинграде был именно Кривулин. При этом существенно, что магистральная линия в поэтике ленинградского андеграунда была связана с ориентацией на культурные ценности, воплощенные классической поэзией1111
Одна из статей о неофициальной поэзии Ленинграда была названа «Котельны юноши» (Бобышев 1991).
[Закрыть]:
Но то, что совестью зовем, —
не крыса ль с красными глазами?
Не крыса ль с красными глазами,
тайком следящая за нами,
как бы присутствуя во всем,
что ночи отдано, что стало
воспоминаньем запоздалым,
раскаяньем, каленым сном?
Вот пожирательница снов
приходит крыса, друг подполья…
Приходит крыса, друг подполья,
к подпольну жителю, что болью
духовной мучиться готов.
И пасть, усеяна зубами,
пред ним, как небо со звездами —
так совесть явится на зов.
Два уголька ручных ожгут,
мучительно впиваясь в кожу.
Мучительно впиваясь в кожу
подпольну жителю, похожу
на крысу. Два – Господен суд —
огня. Два глаза в тьме кромешной.
Что боль укуса плоти грешной
или крысиный скрытый труд,
когда писателя в Руси
судьба – пищать под половицей!
Судьба пищать под половицей,
воспеть народец остролицый,
с багровым отблеском. Спаси
нас, праведник! С багровым ликом,
в подполье сидя безъязыком
как бы совсем на небеси!
В сочетании подпольну жителю происходит пересимволизация верха и низа – и на лексическом, и на грамматическом уровне. О низком – и в переносном, и в буквальном пространственном смысле (о подполье) – говорится высоким слогом XVIII века. Возвышение образа в этом сравнении маркировано и пунктуационно: запятая после слова пасть в строке И пасть, усеяна зубами превращает краткое предикативное причастие в атрибутивное. Такая пунктуация позволяет заметить зыбкость границы между определением и сказуемым: в данном случае решающая роль принадлежит только выделительной интонации, которая обозначена запятой.
В цикле Марии Степановой «20 сонетов к М», демонстрирующем отсылку к «Памятнику» Пушкина, формы кратких прилагательных-определений предваряются архаизмом ветхоем, еще более отдаленным по времени:
Я памятник воздвиг, и -ла, и -ну.
В мышиной норке, в ветхоем жилище,
И на ристалище, и на кладбище,
Где ни была, куда ни помяну.
Хоть за руку одну, твою, родну,
Держатися на этом пепелище,
Где кое-что во мне находит пищу,
А я себя, как пиццу, протяну.
Такую структуру нестяженного полного прилагательного, сохраняющего в себе отчетливый след местоимения на пути его преобразования во флексию, можно наблюдать в фольклоре (см., напр.: Богатырев 1963).
Очень любопытно в этом тексте соседство слов одну и родну. Грамматическая близость форм усилена внутренней рифмой. При этом атрибутивность поэтизма родну ослаблена в пользу его номинативности, так как авторские запятые побуждают видеть здесь не только уточняющую конструкцию, но и перечислительный ряд. В этом контексте гораздо более определенно, чем в ранее рассмотренных текстах, создается ситуация для проявления кратким прилагательным его синкретического потенциала – комплексного представления имени-субстантива и имени-атрибута. При этом форма родну синтагматически связана в языке, а следовательно и в стихотворении Степановой, с фольклорным сочетанием на родну сторонушку. Только в этом фольклорном клише прилагательное метафорично в большей степени, чем у Степановой, и поэтому в стихотворении наглядно проявляется свойство синкретичного имени, описанное А. А. Потебней: «существительное, т. е. (первонач.) название признака вместе с субстанцией, которой и приписываются и другие признаки, ближе к чувственному образу» (Потебня 1968: 60).
Но все же у Степановой в этом тексте наблюдается скорее ситуация максимально приближенная к синкретизму, чем настоящий синкретизм. В современной поэзии встречается немало текстов, в которых синкретизм гораздо более отчетлив.
Совмещенная грамматическая полисемия и омонимия
Совмещенная грамматическая полисемия и омонимия – частое явление в современной поэзии.
Так, например, различие между прилагательным и существительным нейтрализуется в тексте Виктора Сосноры:
Слово вдовы можно читать в обоих случаях и как существительное, и как прилагательное. Тире между словами мы и вдовы не препятствует восприятию слова как прилагательного, потому что этот знак между подлежащим и сказуемым – обычное явление в поэзии ХХ века, особенно у Цветаевой, влияние которой на Соснору весьма значительно. Обратим внимание на то, что конструкции, воссоздающие условия для синкретического обозначения предмета и признака и для нейтрализации грамматического рода (в строке Вдовы наш хлеб, любовь, бытие), помещаются в контекст со словами Бег к Богу, то есть на сюжетном уровне речь идет о приближении к смерти как о возвращении к исходному состоянию, к творящему началу (В дождик музык, вин, пуль, слов славы / мы босиком!).
В стихотворении Александра Кушнера «Водопад» есть строки с неопределенной частеречной принадлежностью слов однолюб и нелюдим:
Чтобы снова захотелось жить, я вспомню водопад,
Он цепляется за камни, словно дикий виноград,
Он висит в слепой отчизне писем каменных и книг, —
Вот кто все берет от жизни, погибая каждый миг.
<…>
Пусть церквушка на церквушке там вздымаются подряд,
Как подушка на подушке горы плоские лежат,
Не тащи меня к машине: однолюб и нелюдим —
Даже ветер на вершине мешковат в сравненье с ним!
Если в русском языке имеются и существительное нелюдим, и омонимичное ему краткое прилагательное, а слово однолюб вне контекста воспринимается как существительное, то в конструкции, объединившей эти слова как однородные члены предложения, каждое из слов распространяет свои признаки на другое. Грамматическая двойственность (или диффузность) этих слов дополняется неопределенностью их смыслового отнесения к субъекту. Однолюбым и нелюдимым (однолюбом и нелюдимом) здесь можно считать и водопад, и ветер, и субъект «я».
У Бахыта Кенжеева обнаруживается грамматическая двойственность слова членистоног:
С одной стороны, основа этого слова побуждает видеть здесь краткое прилагательное, так как омонимичного существительного в общеупотребительном языке не имеется, а прилагательное членистоногий1717
Скорее, терминологическое, фразеологически связанное, способное субстантивироваться прилагательное среднего рода: членистоногое насекомое → членистоногое.
[Закрыть] есть. С другой стороны, в языке есть существительное осьминог при отсутствии современного нормативного прилагательного *осьминогий. Отнесение слова членистоног к автору, помещение этого слова в позицию уточняющего и, главное, обособленного члена предложения сообщает слову характер синкретического имени, находящего поддержку в словообразовательной аналогии.
Слово осьминог тоже становится прилагательным, при этом оно отнесено к восьминогому пауку, то есть при изменении грамматической принадлежности слова расширяется его значение. В том же тексте грамматически двойственно и слово истерик:
Александр Левин употребляет прилагательные одинока, черноока, выполняющие предикативную функцию, в синтаксическом параллелизме и рифменном подобии с существительным лежебока. Тем самым создается грамматическая двусмысленность всех этих слов:
На восприятие краткого прилагательного как существительного влияет рифма:
Возможно ль жить, не положив границы
меж холодом и хрупкой кожей рук?
Страдательная роль певца и очевидца —
озноб души распространять вокруг.
Кто вовлечен в игру – столбами соляными
застыли при обочине шоссе,
но кто промчался – исчезает в дыме
ступицей, искривленной в колесе.
Из этих двух не выбрать виновата,
когда я вижу: выбор совершен
помимо них, когда изменой брата,
как лихорадкой воздух заражен.
сам наш старш Гавр, сын наш сам старш
но ты сам Гавр, ты сам сын наш
спроси, как я сам отыскал
тебя средь скал, пока ты спал
Гавр спал устал, Семён сказал
наш Гавр упал у самых скал
тут спал уставш сам сын наш старш
как вдруг ему стал тут так страш
так, ни с чего, ну, ты сам знашь
и началось, и мне не жаль
с тех самых пор, ну, эта блажь
да сам ты врёшь, ну, вру, а что ж
У Дмитрия Бобышева наблюдается синтаксический параллелизм атрибутивных кратких прилагательных с существительным:
В данном случае граница между адъективностью и потенциальной субстантивностью слов припухлу и отлогу легко преодолевается не только параллелизмом с существительным отрогу, но и конструкцией с повторением предлога по, расчленяющим предложение таким образом, что определения припухлу и отлогу заметно отделяются от определяемого отрогу. Этой автономности немало способствует и замкнутость прилагательных внутри стихотворной строки. Следовательно, определения, проявляя возможную независимость от определяемого, сами принимают на себя функцию обозначения предмета, то есть приобретают свойства существительных. Обратим внимание на то, что члены рифменной пары отлогу – отрогу являются квазиомонимами (словами, различающимися одной фонемой). То есть звуковое сходство слов отзывается в стихах не только их семантическим подобием, как это обычно бывает при парономазии, но и грамматическим.
Все случаи совмещенной грамматической полисемии и омонимии вызывают сомнение в частеречной принадлежности соответствующих слов, и это принципиально важно. Сомнение естественно при синкретическом представлении грамматических значений:
Когда переход совершается на наших глазах, когда длинный процесс перехода своей серединой занял как раз переживаемую нами эпоху, тогда мы останавливаемся в недоумении над словом и не знаем, к какой части речи его отнести (Пешковский 2001: 142–143).
Наиболее приближено к древнему синкретизму употребление краткого прилагательного-существительного в позиции подлежащего, например:
Ну когда устанется навсегда
и вода перестанет ждать
и отстанет по берегу молода
за утопленником бежать,
и станет тогда так легко лететь —
как без камня над головой,
как машина падает на Литей…
и шумит летейской травой.
Обратим внимание на то, что ударение в авторском неологизме желта соответствует употреблению кратких прилагательных в предикативной, а не в атрибутивной функции.
Встретилось и существительное мужского рода желт:
Хлебушка краюху мне, черной сладости огней
над летящей в ночь рекой, я и сам еще такой.
Молока, что солнца желт разливает цвет парной.
Что ты чертик, что божок, ты сегодня не за мной.
Краткие прилагательные бывают омонимичны не только существительным, но и наречиям, соответственно в поэзии встречается их синкретическое представление:
Следующий пример демонстрирует двойственную грамматическую принадлежность слова в позиции анжамбемана – стихового переноса, когда границы строки не совпадают с границами предложения или синтагмы:
Слово горячо здесь можно прочитать и как краткое прилагательное, и как наречие.
На границе строк возможна и потенциальная субстантивация наречия, омонимичного прилагательному:
В обоих примерах потенциальная субстантивность слова горячо получает сильную рифменную поддержку существительными плечо и харчо.
Несовпадение ритмической структуры текста со структурой синтаксической является решающим фактором грамматического синкретизма, свойственного слову тихо в таком контексте:
Причастие дышащее – это слово, которое может активизировать и глагольные, и адъективные свойства. И те и другие оказываются релевантными в пределах строки (дышащее [как?] тихо и дышащее [что?] тихо). Приоритетно, конечно соответствующее норме прочтение слова тихо как наречия. Однако автор настойчиво вводит в текст существительные на -хо: эхо, мухо, мыхо, на фоне которых и слово тихо может быть воспринято как существительное.
В другом тексте слова тихо, душно и тошно тоже грамматически двойственны в позиции анжамбемана:
Быт заедало. Тикать
переставал быт,
и становилось тихо
на цыпочки копыт,
подслушивая в отдушину.
Но бил из скважины ключ,
и становилось душно
на корточки, и коклюш
хрипел из петли вязанья,
а в двери, где только мог,
меж тумбочкой и Рязанью
врезался дверной замок,
и становилось тошно
навыворот, за порог
В сочетаниях становилось тихо и становилось душно это безличные предикативы (слова категории состояния), а в сочетаниях становилось <…> на цыпочки, становилось <…> на корточки – существительные.
Форма становилось проявляет себя при безличных предикативах тихо, душно как безличный глагол, а при существительном – как личный.
Следующий пример показывает совмещение краткого прилагательного с наречием образа действия:
Компаратив прилагательного в пределах строки преобразуется в компаратив наречия:
Мария Ватутина превращает прилагательное в существительное орфографически и акцентологически:
Существительное-неологизм лишнями у Гали-Даны Зингер словообразовательно соотнесено со словами лишнее, лишишься, ли́шенье, а фонетически (рифменно) – со словоформой вишнями:
каперсник хватает за рукав, тянет за подол:
тетя! тетя!
связист ежевика
оплетает колючей проволокой
школьный двор.
LOVE процарапано на лавочке
чему там еще быть, казалось бы,
а там еще много всякого процарапано,
и это уже лишнее.
но его не лишишься.
и занозы. занозы – самое главное, поют в красном сердце
черного сердца на 78 оборотах,
заедая красно-черными лишнями
под клешней патефона памяти.
лишнями назову терновые ягоды.
терновник – ли́шенье.
У Светы Литвак в нарочито аграмматичном тексте с сочетаниями на шлёпанец босой <…> на шлёпанце босым <…> со шлёпанцем босом последнее из них содержит прилагательное с окончанием существительного:
затравленная Олька на шлёпанец босой
пример из математики из десять вычесть ноль
на швето отвечает ей У́та и Аны́
цени часы работы упорною больной
дороже, чем из десять, тебе не вычесть ноль
на десять длинных зубьев кто быстро устаёт
на длинной рукояти насаживает ноль
но маловероятно, что это совпадёт
поэтому ответа тебе не видно, Оль!
затравленная Олька на шлёпанце босым
плетётся неучёная, пример ей не решён
впусти меня, я – десять, – такой ей слышен стон
на это отвечает ей Ута и Аны
я верю, тем не менее, что всё наоборот
не десять умирает, а ноль его умрёт
затравленная Олька со шлёпанцем босом
смотрела виновато на Ута и Аны
пошла и разменяла десятку на рубли
за два рубля – корзина, за три рубля – штаны
и пять рублей заставила взять Ута и Аны
не говори как прежде про десять и про ноль
ответ хоть и неправилен, но адекватен он
Сергей Бирюков помещает слово лопата в такой контекст, в котором это существительное в параллелизме со словом мохната тоже может читаться как краткое прилагательное:
У современных поэтов нередко встречаются контексты, в которых нейтрализуются различия между глаголами прошедшего времени, краткими прилагательными и наречиями, что легко объясняется происхождением этих форм глагола из перфективного причастия. Разнообразные примеры такого словоупотребления приведены в книге: (Зубова 2000: 244–256). Здесь ограничусь тремя примерами, не вошедшими в книгу:
Тихий из стены выходит Эдип,
с озарённой арены он смотрит ввысь,
как плывёт по небу вещунья-сфинкс,
смертный пот его еще не прошиб.
Будущий из стены выходит царь,
чище плоти яблока его мозг,
как зерно проросший, ещё не промозгл
мир, – перстами его нашарь.
У Петра Чейгина потенциальная адъективность формы прошедшего времени застыл проявляется и активизируется в перечислительном ряду с полноценными прилагательными. Подобие поддерживается и совпадением конечного согласного звука в словах застыл и тяжел, у Давида Паташинского форма устало проявляет себя как возможное наречие образа действия в параллелизме с деепричастием стоя.
В тексте Владимира Гандельсмана адъективность формы промозгл поддерживается употребительным полным прилагательным промозглый, а от глагола промозгнуть в норме образуются малоупотребительные формы промозг и промозгнул. Суффикс бывшего перфективного причастия -л после согласных, например в таких словах, как мог, промок, пёк, свойствен древнерусскому языку (моглъ, промоклъ, пеклъ).
Поскольку глаголы прошедшего времени могут довольно легко становиться прилагательными, а прилагательные существительными, возможна и непосредственная субстантивация глаголов, как, например, у Сергея Петрова, Иосифа Бродского, Александра Левина4242
Другие примеры, в частности, из поэзии Иосифа Бродского, Анатолия Наймана, Виктора Кривулина см: Зубова 2000: 251–253.
[Закрыть]:
Не я, не ты, не он, а просто было,
как вдоль судьбы шагающее быдло.
Хоть бы брылы развесившее рыло!
Нет, просто было, и оно обрыдло.
Давно уже ушли до ветру жданки,
все данные собрали да и в печь!
И Было вонькое хоронят по гражданке,
И Былу не дадут подонки в землю лечь.
И поют подонки,
голосочки тонки,
Семки, Тоньки, Фомки,
милые потомки:
Ходи изба, ходи печь!
Былу нету места лечь.
(А следовательно, требуется сжечь,
и вместе с рукописями!)
В гробу везут чудовищное Было,
помнившееся над единым и одним.
И чья-то речь стучит-бубнит над ним,
как будто сей звонарь колотит в било.
«И он ему сказал»
<…>
«Один сказал другой сказал струит»
<…>
«И он сказал». «Но раз сказал – предмет,
то так же относиться должно к он’у».
<…>
«Где? В он-ему-сказал’е или в он’е».
<…>
«Лишь в промежутках он-ему-сказал’а».
<…>
сказал’ом, наподобие инцеста».
<…>
И Он Сказал носился между туч
<…>
«О как из существительных глаголет!»
В следующем тексте слово было может быть понято и как глагол, и как краткое прилагательное, и как существительное: