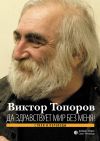Текст книги "Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020"

Автор книги: Людмила Зубова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Как и «плешивый месяц» в «Убийце», здесь «ядовитый мухомор» был предметом насмешки журнальных врагов Катенина <…> Мухомор удален, как образ сказочный, ложно ведущий к искусственной таинственности, когда нужна «природная» обстановка (Рудаков 1998: 228).
Рудаков ссылается на язвительные реплики Н. Гнедича, А. Марлинского, А. Бестужева, Н. Бахтина, Ф. Булгарина на тему мухомора, неуместного, по их мнению, в стихах (указ. соч.: 249). Там же говорится о литературном ученичестве Грибоедова у Катенина и о том, как Грибоедов отвергал упреки Катенина по поводу «Горя от ума».
Таким образом, в рассмотренном поэтическом тексте Александра Левина грамматика одушевленности оказывается контекстуально связанной с многочисленными явлениями на разных уровнях языка, в частности с фонетической ассоциативностью слов, с лексической полисемией и омонимией (как в литературном языке, так и в жаргонах), с другими участками грамматической системы, синтаксисом отрицательных конструкций, а также с историей литературы277277
А. Левин написал: «Про катенинский мухомор я ничего не знал, но пушкинского „Грибоеда“ учитывал» (электронное письмо, адресованное автору книги).
[Закрыть].
Ненормативная одушевленность
Нарушения нормы, связанные с категорией одушевленности, чаще всего отражают противоречия между лексическим значением слова и его нормативной грамматической формой, свойственные современному русскому языку. Самым типичным примером такого конфликта между лексикой и грамматикой является отнесение слова покойник к разряду одушевленных существительных, а слова труп – к разряду неодушевленных.
А если норма предписывает употреблять слово покойник как грамматически одушевленное, то и контекстуальный синоним этого слова способен приобретать ту же морфологическую характеристику:
Это же свойство распространяется в следующем тексте на слово труп:
Здесь сдвиг от неодушевленности к одушевленности поддерживается строкой (или порождает строку) Был сам из них один.
Следующий пример показывает, что и слово скелет, метонимически обозначающее умершего, способно употребляться как одушевленное:
В этом контексте грамматическая аномалия поддерживается глаголом встретить, отражающим, вместе с формой скелета, страх девочки в изображаемой ситуации: архетипическое опасение того, что покойник может ожить и причинить зло.
Если в нормативном языке слово жертва применительно к живому существу употребляется как неодушевленное, то в следующих строчках эта закономерность нарушается, чем подчеркивается драматизм ситуации:
Вероятно, нормативная неодушевленность слова жертва объясняется тем, что оно обозначает символ в большей степени, чем конкретный объект. Может быть, по той же причине употребление слова тотем у Бориса Херсонского как одушевленного тоже является отклонением от нормы:
Пытался сдержать, потом пытался бежать, затем
метался в доступных пределах. Он был тотем
нашего роду-племени, зверь, от которого мы
вышли на Божий свет из подколодной тьмы.
Тотема нельзя убивать, разве что раз в году.
Его приносят в жертву со словами: до встречи в аду!
Его изжарят, разделят мясо и скопом съедят на обед,
и каждый захочет съесть больше, чем съел сосед.
В стихотворении Светы Литвак одушевленным представлено слово личинки:
один цветок средь ядовитых плевел
хранит нектар, отравой напоён
его гнетёт могучий свежий ветер
сырой землёй он к небу наклонён
<…>
он весь пунцов от сладострастной муки
щекочут муравьи, грызут жуки
в его корнях кладут личинок мухи
и оплетают листья пауки.
Возможно, это мотивировано биологически близкой предметной отнесенностью слов личинки и мухи: в изображенной картине мира личинки – живые существа для мух.
Форму, одушевляющую существительное, можно наблюдать при употреблении собирательных гиперонимов, если одушевленность нормативно свойственна конкретным гипонимам:
В следующем тексте можно видеть, что если колебания нормы касаются имен существительных, обозначающих кукол, то возможна и форма игрушек в винительном падеже, отражающая ситуативное для игры представление об игрушках как о живых существах:
В этом случае гиперонимом игрушки не просто заменяется гипоним куклы: игрушками могут быть фигурки зверей, животных, птиц, а также и не антропоморфные и не зооморфные изделия или даже любые предметы, которые используются в игре.
При сравнении грамматически одушевляются даже такие средства игры, как письменные знаки:
Одушевлению способствует и сравнение человека (в следующем контексте – метонимически представленного только взглядом) с нарисованным изображением человека:
В поэтических текстах одушевленными предстают движущиеся предметы:
Возможно, что в этом случае на грамматический сдвиг повлияло и то, что внешний вид облаков принято сравнивать с очертаниями живых существ.
Способность к самостоятельному передвижению издавна признавалась одним из характерных признаков живого. Как указывал Аристотель, «начало движения возникает в нас от нас самих, даже если извне нас ничего не привело в движение. Подобного этому мы не видим в [телах] неодушевленных, но их всегда приводит в движение что-нибудь внешнее, а живое существо, как мы говорим, само себя движет (Нарушевич 2002: 77).
Но и несамостоятельное (каузированное) движение, подверженность какому-либо воздействию способствует поэтическому одушевлению – не только предметных, но и непредметных существительных:
Движение предмета (или его предназначенность для движения) как основание для художественного олицетворения в полной мере представлена в следующем стихотворении:
Широка страна родная,
есть в ней город Федосея,
в нём есть угол заповедный,
где дорожное железо
разветвлённое лежит.
Там идёт весёлый дизель,
механический любовник,
он кричит предельным басом,
трандычит железным мясом,
он ужасен и прекрасен
и от мощности дрожит.
Он идёт по переулкам,
отдалённым перегонам,
тупикам и закоулкам
собирать своих вагонов,
красных, чёрных и зелёных.
А печальные вагоны,
безголовые бараны,
а ещё точнее, овцы,
щиплют траву по газонам,
дуют воду из-под крана,
тёплым пузовом дымятся,
обрамляет их природа,
окружает их среда.
Их вытаскивает дизель,
механический любовник,
из бузинного прикрытья,
любит их с ужасной силой
и влечёт по белу свету,
по родной стране советской,
груз возить разнообразный
день туда, а день сюда.
И бегут они семейно,
под ногами рельсы гнутся,
и осмысленную пользу
производят между тем.
Так свершается в природе
и, конкретно, в Федосее,
сочетание различных
механизмов и систем.
Очевидно и олицетворение в таком тексте Левина:
Союз и, объединяющий формы задаваку и трамвая, требует восприятия формы трамвая как формы винительного падежа одушевленного существительного, а предикат не любит, предваряющий называние объектов, препятствует бесспорному одушевлению. При этом вся лексика фрагмента является олицетворяющей, и в строчках дразнит нервного такого, / неуклюжего такого / и рогатого такого прилагательные, находящиеся на значительной дистанции от определяемого слова трамвая, стоят явно в винительном падеже (им управляет глагол дразнит). Очевиден винительный падеж и в сочетании обгоняя чистоплюя.
В этом случае дополнительным фактором многоаспектного олицетворения является игровая интертекстуальность – ср.: Так идет веселый Дидель / С палкой, птицей и котомкой / Через Гарц, поросший лесом, / Вдоль по рейнским берегам (Эдуард Багрицкий. «Птицелов»).
Одушевление транспорта (лексическое и грамматическое) развернуто представлено у Елены Ванеян:
Трамваи родимые!
Я скучала —
Рельсы ж были разобраны,
Асфальт крошился,
Кирпичная песенка рассыпалась…
Лена плакала, просыпалась,
Ловила маршруток пугливых,
А тосковала по инвазивному ви-и-иду,
Хотя не подавала виду!
(Здесь я тискаю трамвай за щёчки)
Трамвай мой – Брунечка, рожки – панцирь!
Неси за справочкой в психдиспансырь
Меня, любимую твою тётю,
Не состоящую на учёте!
И номер 8 на твоей спинке!
Ненормативная грамматическая одушевленность может быть спровоцирована лексической омонимией одушевленных существительных с неодушевленными:
Последний пример примечателен и тем, что форма пастернака является точкой пересечения быта с культурой, как и строчка зато не зарастет тропинка, отсылающая к знаменитой строке Пушкина К нему не зарастет народная тропа из стихотворения «Памятник».
Однако далеко не все примеры настолько прозрачны для грамматической интерпретации.
Часто бывает проблематично отличить в художественном тексте ненормативную одушевленность от других конструкций с объектным генитивом, представленным в древнерусском языке и в русских говорах и не имеющим отношения к категории одушевленности – типа построить домов, петь песен, купить топора (см.: Малышева 2010; 2012; 2014).
Но поскольку такие контексты содержатся в стихах, написанных на современном литературном языке, хотя и с некоторыми грамматическими аномалиями, естественно, что современный читатель воспринимает объектный генитив исходя из того, что обозначение объекта винительным падежом, совпадающим с родительным, указывает на одушевленность298298
О таких фразеологизированных сочетаниях, как плясать гопака, дать тумака, влепить строгача И. А. Мельчук пишет: «В каком падеже стоят эти существительные? Я вижу только два разумных ответа на этот вопрос: либо надо считать, что существительные гопака и т. д. стоят в родительном (или партитивном) падеже; либо надо признать их падеж винительным, но тогда придется говорить, что данные существительные становятся в данных выражениях морфологически одушевленными» (Мельчук 1995: 552–553).
[Закрыть], тем более что в поэзии олицетворение – это обычный троп.
Так, например, в следующем тексте вполне может актуализироваться представление об антропоморфности мельниц с их вращающимися деталями:
Здесь примечательно то, что мельницы предстают не только образом движения, но и напоминают людей своими антропоморфными очертаниями300300
Ср. один из самых известных символов в культуре – сражение Дон Кихота с ветряными мельницами у Сервантеса.
[Закрыть].
Восприятие автомобилистами своих автомобилей (а также их деталей) как живых существ отражается в следующем примере:
Грамматические аномалии, связанные с категорией одушевленности, возникают и под влиянием конструкций с отрицанием при измененном порядке слов, когда в результате инверсии перераспределяются синтаксические связи слов:
Иногда в отрицательной конструкции одушевляющий сдвиг бывает обусловлен синтаксической аномалией, объединяющей разные возможности глагольного управления при обозначении объекта:
Мы все кричали и смеялись,
Карманные потомки бывших палачей,
Когда с глазами красными, как галстук,
Всей стаей славили врачей.
<…>
Теперь не то.
Ложусь ли на диван, иду ль к начальству,
в кассу,
Или в потемках натыкаюсь на себя,
Ты про небес теперь уже не вспомнишь,
И вас теперь не скажешь тленом октября.
Наиболее вероятно здесь предположить контаминацию выражений не вспомнишь небес и не вспомнишь про небеса. Обратим внимание и на смещенную референцию местоимений ты и вы: ты обращено к себе, а вы отнесено и к жертвам, и к обидчикам. Здесь же, в строке Всей стаей славили врачей глагол проявляет смысловую противоречивость одобрения и осуждения.
В некоторых случаях генитив отрицания не обозначен в тексте, но он имплицитно представлен фразеологическими связями глагола. Так, например, деепричастие щадя обычно употребляется именно с отрицанием, поэтому при чтении следующих строк с предикатом щадя возникает грамматическая неопределенность отнесения форм берез и пихт к родительному или винительному падежу:
Вероятно, в следующем контексте фоном (и фразеологическим основанием) грамматического сдвига в направлении одушевленности является выражение не забуду:
Вместе с тем при таком одушевлении книги предстают собеседниками субъекта речи.
Имплицитное отрицание представлено и в тексте Ивана Волкова:
«Мы с тобой, брат, мизантропы
От душевной простоты».
«Если мы и недотёпы —
То от жизни полноты!»
– Так с плохим поэтом Гошей
Пил плохой поэт Иван —
Разве кто-нибудь хороший
Выпьет с ними хоть стакан?
Кто потерпит их капризов,
Их нетрезвых номеров?
Лишь плохой художник Пшизов
И плохой поэт Бугров!
Семантика отрицания проявляет себя как смежная с семантикой лишения, и когда грамматические связи слов в отрицательных конструкциях переносятся на тексты без показателя отрицания, возникает сдвиг, связанный с категорией одушевленности:
Этот текст допускает разные толкования грамматической аномалии. Возможно, слова воздушного пуха стоят в форме родительного партитивного падежа.
Может быть, значение части целого представлено и в таких текстах, которые не дают семантического основания для сдвига в направлении от неодушевленности к одушевленности. Впрочем, партитив здесь тоже не очевиден:
на том берегу серая цапля долго ли коротко
ждет беглого почерка почитать а ну как не разберет
разозлится рубиновым глазом и все что я помню
иду на твое деньрождение с плюшевым что ли псом
в целлофане и розою жалкой.
Вероятно, на такое употребление грамматических форм – явно не в винительном, а в родительном падеже – влияет управление глаголов: сообразить чего-л. в значении ‘сделать, приготовить что-л., ждать чего-л.’.
Другие примеры объектного генитива:
Буйну голову повесил
дикий кот Пбоюл
и Инсектору страшному
говорит ему тогда:
– Ох ты гой-еси пожарный,
ты казны моей не трогай!
Я за то тебе, кощею,
эх-да на гусельках сыграю,
попляшу али станцую,
да спою тебе, Инсектор,
так спою, что позабудешь,
как жены твоей зовут.
Сидит чурзел на курбаке лицом как желтый жаб
хлебает Хлебникова суп – античный водохлеб
он видит сквозь и срез и врозь – фактически он слеп
Ладони сани млину гнут – сметана сатаны —
удочерил и в девы взял как вылепил жены —
весь Млечный Путь губам прижечь – все гродники
спины
Генрих Сапгир. «Чурзел» / «Генрих Буфарёв. Терцихи» 312312
Сапгир 2008: 282. Сидит чурзел на кубраке – перестановка слогов в сочетании сидит козел на чурбаке. Подзаголовок стихотворения: Памяти Тоси Зеленского – подмастерья Татлина. Деформация слов, в целом характерная для цикла Сапгира «Терцихи Генриха Буфарёва», в этом тексте пародирует деформацию реальности в живописи Татлина.
[Закрыть] ;
Мне был анальгином вдвойне Аполлон;
негаданный всуе товарищ
играть принимался с различных сторон,
а я полюбил его игрищ —
пуская слюной изумрудный алмаз,
пернатый гусар прогорал как-то раз;
извергнув такого урода,
стремглав отдыхала природа.
Мне грустно и легко, печать моя светла:
исчерпан картридж, и, туманный кембридж,
и зябка, и москва, но как свекла
красна собою родина… В Докембрий,
в моськву, в моськву! Нет, не как три, шустры —
как сорок тысяч русопятых братьев,
он мизерленд!, нах бутерлянд! Остры
желания напялить зимних платьев.
Подобные примеры свидетельствуют о возможности системной замены винительного падежа таким родительным, который не может быть интерпретирован как винительный одушевленных существительных. Особенно часто они встречаются в стихах Давида Паташинского – даже в тех ситуациях, когда нет провоцирующего влияния глагольного управления:
Мы знаем верные приметы, когда рассветы не в цене,
когда кричишь, а крика нету, но есть рисунок на стене,
когда летишь, и сон хрустален, и короток, как я привык,
он ускользнет, минуя спален, где мы останемся в живых.
Мои слоеные словесы сливовым салом веселы,
в лесу не замечая леса, ложимся мертвыми в стволы.
Не знаем сами за слезами, кто писем наших пролистал,
когда жестокими отцами соразмеряли пьедестал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?