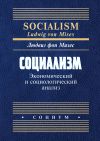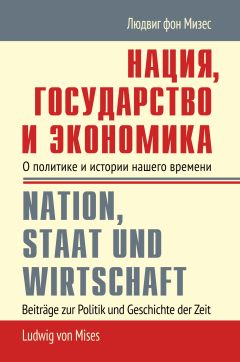
Автор книги: Людвиг Мизес
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Представители крупных европейских держав собрались в 1878 г. в Берлине, чтобы потребовать от России пересмотра жестких условий договора, который она заключила с Турцией после нанесения ей поражения в войне. Кроме того, Берлинский конгресс попутно уполномочил Австро-Венгрию оккупировать и взять под административный контроль турецкие провинции Боснию и Герцеговину, ныне входящие в состав Югославии. Оккупация прошла не вполне беспрепятственно: Мизес пишет о восстаниях в Герцеговине и вокруг Которского залива. В конце концов в 1908 г. Австрия аннексировала эти оккупированные провинции.
Другим важным событием в международной политике стали переговоры об альянсе между Германией и Австро-Венгрией в 1879 г. Мы видим, что решение Бисмарка не выдвигать чрезмерно суровые требования при заключении мирного договора с Австрией в 1866 г. приносило свои плоды. Этот союз, равно как франко-русский и другие союзы, подготовил почву для цепной реакции, в результате которой страны, непосредственно не участвовавшие в первоначальном споре между Австрией и Сербией, были втянуты в Первую мировую войну.
Упоминаемая Мизесом эпоха Вильгельма приходится на период правления германского императора Вильгельма II, в особенности начиная с отстранения Бисмарка от должности канцлера в 1890 г. и до начала Первой мировой войны.
Поражение центральных держав в этой войне привело к распаду Австро-Венгрии на несколько государств. Резко усилилась инфляция денег. В Германии спартаковцы, которые в декабре 1918 г. реорганизовались в коммунистическую партию Германии, в какой-то момент имели явную возможность, по крайней мере в крупных городах, взять власть в свои руки.
Теперь сделаем некоторые пояснения и уточнения, которые не вписались в предшествующий хронологический обзор. И в Германии, и в Австрии члены кабинета министров были подотчетны в первую очередь императору, а не парламенту. Хотя правительство нельзя было отправить в отставку посредством вотума недоверия, для введения в действие определенных законопроектов требовалось большинство голосов в парламенте; и правительство время от времени прибегало к политическим маневрам и уловкам, чтобы добиться необходимого большинства. Мизес пишет об этих обстоятельствах с презрением. В Австрии парламентская ситуация и расстановка партий усугублялись национальной чересполосицей и такими проблемами, как, например, вопрос о том, на каких языках вести обучение в конкретных школах. Мизес рассказывает, например, об избирательной реформе Бадени 1896 г. (В 1895 г. польский аристократ граф Казимир Феликс Бадени занял пост премьер-министра. Министры финансов и иностранных дел в его кабинете также были выходцами из польской части империи. Бадени был отправлен в отставку в 1897 г. под давлением германоязычных фракций, которые считали его политику относительно использования языка на государственной службе слишком благоприятной для чехов.) Мизес упоминает также о намеках, которые делались в свое время по поводу заигрывания правительства с социал-демократами, получившими ироническое прозвище «имперско-королевских» (термин «имперско-королевский», обычно сокращавшийся в немецком языке как «К.к.», относился к Австрийской империи и Венгерскому королевству и означал что-то наподобие «правительственный» или «официальный»).
Национальная ситуация служит фоном и при упоминании Мизесом программы Линца 1882 г. Крайние германские националисты предложили восстановить преобладание германской линии в австрийских делах посредством отделения от монархии Галиции, Буковины и Далмации, ослабления связей с Венгрией исключительно до личной унии под властью того же монарха, а также основания таможенного союза и других тесных связей с Германской империей. Они явно не отдавали себе отчета в том, что у Бисмарка не было веских оснований оказывать им поддержку, поскольку внутренняя ситуация, сложившаяся в Австро-Венгрии, вполне отвечала его подходу к международным делам. Лидером крайних германо-австрийских националистов являлся Георг Риттер фон Шюнерер, который позднее сделал антисемитизм частью своей программы.
Используя синекдоху, Мизес иногда противопоставляет Веймар и Потсдам. Потсдам являлся оплотом прусской монархии, и это слово символизирует авторитарное государство и милитаризм. Веймар как литературный и культурный центр символизирует то представление о Германии, которое можно передать, именуя ее «нацией поэтов и мыслителей». («Классический период» немецкой литературы, который также упоминается Мизесом, приблизительно соответствует эпохе Гёте.)
Гракхи, упоминаемые в цитируемой Мизесом латинской поговорке, – это братья Тиберий и Гай Гракхи, аграрные и общественно-политические реформаторы, жившие во II в. до н. э. Оба погибли в ходе народных волнений, причем один из них после того, как добивался для себя противоречащего конституции переизбрания в качестве народного трибуна.
Было бы совершенно излишним идентифицировать каждое событие, каждую личность или школу, о которых упоминает Мизес, – того же Александра Македонского и т. д. Тем не менее можно было бы еще добавить, что Манчестерская школа – это группа английских предпринимателей и общественных деятелей, существовавшая в первой половине XIX в., которую возглавляли Ричард Кобден и Джон Брайт, выступавшие за рыночную экономику и политику свободной торговли. Франсуа Кенэ (1694–1774) был французским медиком и экономистом, который подчеркивал центральную роль сельского хозяйства и который составил «экономическую таблицу», разновидность элементарной таблицы «затраты – выпуск».
Бенедикт Франц Лео Вальдек (1802–1870) приводится Мизесом в качестве примера того, как можно быть одновременно прусским националистом и искренним либеральным демократом. Вальдек, член коллегии Верховного суда Пруссии, проявил себя радикально настроенным депутатом прусского конституционного собрания в 1848 г. и главой комитета, разрабатывавшего конституцию. Позднее, будучи членом оппозиции в прусской палате депутатов, он продолжал противостоять авторитарным тенденциям в управлении государством.
В завершение данного предисловия вероятно будет уместным особенно порекомендовать читателям фрагмент, которым Мизес заканчивает свою книгу, – в нем он рассуждает о роли оценочных суждений и позитивного анализа при выборе между социализмом и либеральным капитализмом. Мизес руководствуется не только либерально-демократическими соображениями, но и – причем в немалой степени – принципами философии рационализма и утилитаризма.
Вступительное слово
Заметки, предлагаемые здесь вниманию читателя, представляют собой не более чем наблюдения за ходом переживаемого нами кризиса в мировой истории, а также посильным вкладом в понимание политических реалий нашего времени. Я осознаю, что любая попытка предложить что-то большее будет преждевременной, а значит, и ошибочной. Даже будь мы в состоянии отчетливо увидеть все взаимосвязи и понять, в каком направлении развиваются события, нам было бы трудно, а то и невозможно взглянуть на великие события наших дней объективно и не позволить чаяниям и надеждам затуманить наш взгляд. Находясь в гуще сражения, тщетно стремиться сохранить выдержку и хладнокровие. Трактовать насущные вопросы своего времени sine ira et studio1 выше человеческих возможностей. Прошу не винить меня за то, что я не являюсь исключением из этого правила.
Вероятно, кому-то может показаться, что темы, обсуждаемые в разных частях книги, соотносятся друг с другом лишь поверхностно. Тем не менее я убежден, что они тесно объединены той целью, которой служит данное исследование. Разумеется, размышления подобного рода, которые всегда будут оставаться отрывочными, не могут претендовать на полноту и рассматривать целое в его единстве. Моя задача может состоять лишь в том, чтобы обратить внимание читателя на те моменты, которым в общественной полемике обычно не уделяется должное внимание.
Вена, начало июля 1919 г. [10]10
[Без гнева и пристрастия (лат.). – Прим. ред.]
[Закрыть]
Введение
Только не понимая законы истории, можно ставить вопрос о том, возможно ли было, и если да, то каким образом, избежать Мировой войны. Уже сам тот факт, что война произошла, говорит о том, что силы, стремившиеся ее развязать, оказались могущественнее, чем силы, стремившиеся ее предотвратить. Постфактум легко указывать на то, как могли бы сложиться обстоятельства или как следовало ими распорядиться. Очевидно, что в ходе войны германский народ перенес испытания, которые удержали бы его от вступления в войну, если бы когда-то он уже прошел через подобные испытания. Однако нации, так же как и отдельные люди, становятся мудрее только благодаря опыту, причем только благодаря собственному опыту. Конечно же, легко понять, что, если бы германский народ сбросил ярмо монархической власти в том судьбоносном 1848 г., если бы Веймар восторжествовал над Потсдамом, а не Потсдам – над Веймаром, сегодня страна находилась бы в совершенно ином положении. Но каждый человек должен воспринимать свою жизнь, а каждая нация – воспринимать свою историю, такими, какие они есть; нет ничего более бессмысленного, чем сокрушаться по поводу ошибок, которые уже невозможно исправить, нет более бессмысленного занятия, чем сожаление. К прошлому следует обращаться не в роли судей, воздающих хвалу или порицание, и не в роли мстителей, ищущих виновных. Мы ищем истину, а не виноватых; мы хотим знать, как происходили события, чтобы понять их, а не выписывать обвинительные приговоры. Тому, кто подходит к истории так же, как обвинитель подходит к документам уголовного дела, – чтобы найти материал для обвинений, – лучше держаться от нее подальше. Перед историей не стоит задача удовлетворять потребность масс в героях и козлах отпущения.
Именно с такой позиции нация должна обращаться к своей истории. Задача истории не в том, чтобы переносить ненависть и разногласия дня сегодняшнего назад в прошлое и заимствовать из битв давно минувших дней оружие для споров своего времени. История должна научить нас распознавать причины и понимать движущие силы; поняв всё, мы всё простим. Именно так относятся к своей истории в Англии и Франции. Независимо от его политической принадлежности, англичанин способен объективно воспринимать историю религиозных и конституционных столкновений XVII в., историю утраты штатов Новой Англии в XVIII в.; ни один англичанин не видит в Кромвеле или Вашингтоне только воплощение национальных неудач. И ни один француз, независимо от того, бонапартист он, роялист или республиканец, не пожелает вычеркнуть Людовика XIV, Робеспьера или Наполеона из истории своего народа. И для чехов-католиков точно так же не составляет труда понять гуситов или моравских братьев с учетом обстоятельств их собственного времени. Подобное отношение к истории без труда ведет к пониманию и определению того, что не имеет отношения к делу.
Только немцы все еще не могут отказаться от такого представления об истории, которое не смотрит на прошлое глазами настоящего. Даже сегодня для одних немцев Мартин Лютер является великим освободителем умов, а для других – воплощением антихриста. Особенно это касается недавней истории. В отношении современного периода, начинающегося с Вестфальского мира (1648), в Германии существуют два подхода к истории – прусско-протестантский и австро-католический, которые вряд ли могут похвастать общей интерпретацией хотя бы одного эпизода. Начиная с 1815 г. проявляется еще более широкое расхождение взглядов, столкновение между либеральной и авторитарной государственными идеями[11]11
По этому поводу см.: Preufl Н. Das deutsche Volk und die Politik. Jena: Eugen Diedericchs, 1915. S. 97 ff.
[Закрыть]; и наконец, недавно была предпринята попытка противопоставить «капиталистической» историографии «пролетарскую». Все это указывает не только на поразительную нехватку научного здравого смысла и способностей к критическому толкованию истории, но и на прискорбную незрелость политических суждений.
Там, где оказалось невозможным достичь согласия в интерпретации давно минувших сражений, еще меньше следует ожидать взаимного согласия при оценке ближайшего прошлого. Здесь мы также уже наблюдаем возникновение двух крайне противоречивых мифов. С одной стороны, утверждается, что немецкий народ, введенный в заблуждение пораженческой пропагандой, потерял волю к власти; и, таким образом, вследствие «развала внутреннего фронта» неизбежная победа, которая должна была подчинить ему весь земной шар, была превращена в катастрофическое поражение. При этом забывается, что отчаяние овладело людьми только после того, как люди не дождались обещанных Генеральным штабом решающих побед, после того, как миллионы немцев полегли в бесцельных сражениях с противником, имеющим значительное превосходство в численности и лучше вооруженным, и голод принес смерть и болезни тем, кто оставался дома[12]12
Это не означает, что поведение радикального крыла социал-демократической партии в октябре и ноябре 1918 г. не повлекло за собой самые ужасные последствия для немецкого народа. Без полного развала, вызванного восстаниями в глубоком тылу и в расположении войск, условия прекращения огня и мирный договор могли бы оказаться совершенно иными.
[Закрыть]. Не менее далек от истины и другой миф, возлагающий вину за эту войну и, стало быть, за поражение, на капитализм, экономическую систему, основанную на частной собственности на средства производства. При этом забывается, что либерализм всегда отличался пацифизмом и антимилитаризмом, и лишь с его ниспровержением, которое было достигнуто только благодаря объединенным усилиям прусского юнкерского сословия[13]13
[Юнкеры — социальный класс дворян-землевладельцев (помещиков) Германии, прежде всего Пруссии. Исторически юнкеры как помещичий класс держали в своих руках бюрократический государственный аппарат Германской империи, формируя его контингент и проводимую политику. С началом формирования промышленной буржуазии в ходе промышленной революции юнкерство начинает вступать в конфликт и с этим классом, и с одновременно растущим классом рабочих. В результате в XIX в. оригинальный термин начинает использоваться в социально-экономической лексике в более широком смысле. Вначале либералы, социалисты и марксисты используют его в полемике с консервативными оппонентами из помещичье-буржуазных классов; с течением времени последние начинают использовать его и в качестве самоназвания. Наиболее последовательным проводником политики юнкерства был Отто фон Бисмарк. – Прим. ред.]
[Закрыть] и социал-демократического рабочего класса, был открыт путь для политики Бисмарка и Вильгельма II. Прежде чем народ поэтов и мыслителей смог превратиться в безвольное орудие партии войны, из Германии сначала должны были выветриться последние остатки либерального духа, и сам либерализм должен был превратиться для всех в некую постыдную идеологию. Также забывается, что германская социал-демократическая партия негласно поддерживала воинственную политику правительства и что дезертирство – вначале единичное, а затем все более массовое – началось лишь тогда, когда военные неудачи указали на неизбежность поражения со всей очевидностью и все сильнее начал ощущаться голод. До сражения при Марне и до сокрушительных поражений на востоке среди немецкого народа не наблюдалось никакого сопротивления политике войны.
Подобное мифотворчество свидетельствует об отсутствии политической зрелости, которой достигает только тот, кто должен нести политическую ответственность. Немцы не несли никакой ответственности; они были подданными, а не гражданами своего государства. Да, у нас было государство, которое называлось Германской империей и превозносилось как воплощение идеалов Церкви Св. Павла. Однако же эта Великая Пруссия была государством немцев не более, чем итальянское королевство Наполеона I было государством итальянцев или Царство Польское Александра I – государством поляков. Эта империя возникла не по воле немецкого народа. Помимо воли не только немецкого народа, но и большинства жителей Пруссии, оставшихся в тени ее вздорных депутатов, она была создана на поле битвы при Кёниггретце. Она включала в себя также поляков и датчан, но за ее пределами осталось много миллионов немцев-австрийцев. Это было государство немецких монархов, но не немецкого народа.
Многие достойные люди так никогда и не смирились с этим государством, другие сделали это не сразу и вынужденно. К тому же было весьма сложно стоять в стороне с недовольным видом. Для народа Германии наступили славные дни, богатые внешними почестями и военными победами. Прусско-немецкие армии праздновали победу и над императорской, и над республиканской Францией, вновь стали немецкими (или скорее прусскими) Эльзас и Лотарингия, был возрожден титул древней империи. Германская империя заняла признанное положение среди крупных европейских держав, германские военные корабли бороздили океаны, германский флаг реял – впрочем, скорее без особой пользы – над владениями в Африке, Полинезии и Восточной Азии. Вся эта романтичная деятельность не могла не овладеть умами широких масс, которые восторженно взирают на процессии и обожают увеселения. Они были довольны, потому что им было чем восхищаться и они были сыты. При этом благосостояние Германии росло невиданными прежде темпами. Это были годы, когда удивительные открытия самых отдаленных земель благодаря развитию современных средств транспорта приносили Германии немыслимые богатства. Это не имело никакого отношения к политическим или военным успехам германского государства, но людям свойственно делать поспешный вывод post hoc ergo propter hoc — после этого, значит, вследствие этого.
Люди, сидевшие в тюрьмах перед революцией в марте 1848 г. и стоявшие на баррикадах в 1848 г., а затем вынужденные отправиться в изгнание, к тому времени стали старыми и немощными; они либо смирились с новым порядком, либо отмалчивались. Выросло новое поколение, не видевшее и не замечавшее ничего, кроме непрерывного роста благосостояния, численности населения, объемов торговли, мощи флота, или, иными словами, всего, что люди привыкли называть эпохой расцвета. Они принялись высмеивать бедность и слабость своих отцов; к идеалам нации поэтов и мыслителей они не испытывали ничего, кроме презрения. В философии, истории и экономике появились новые идеи; на передний план выдвинулась теория силы и власти. Философия стала телохранителем[14]14
[Как пишет биограф Мизеса Й. Г. Хюльсманн, «такой позиции придерживались не только интеллектуалы, работавшие в „идеологических" сферах вроде истории, политической экономии или философии. То, что его университет был „интеллектуальным телохранителем династии Гогенцоллернов", в публичной лекции, прочитанной 3 августа 1870 г., заявил ректор Берлинского университета им. Фридриха-Вильгельма и первооткрыватель электрофизиологии Эмиль дю Буа-Реймон» [Хюльсманн Й. Г. Последний рыцарь либерализма: жизнь и идеи Людвига фон Мизеса. М.; Челябинск: Социум, 2013. С. 84. – Прим. ред.]
[Закрыть] трона и алтаря, история занялась прославлением Гогенцоллернов, экономическая наука превозносила социально ориентированную монархию и таможенные тарифы без пробелов[15]15
[ «Огульный», «сплошной» таможенный тариф «без пробелов» «проводит охрану всех отраслей производства… Далее, осуществляется защита таких производств, которые отсутствуют или слабо развиты и на рост которых в ближайшем времени нет основания рассчитывать, „протекционизм в кредит"… Наконец, таможенные сооружения доводятся до таких размеров, при которых ни один иноземный товар не может проникнуть на нашу территорию, а пошлины приобретают запретительный характер». См.: Кулишер И. М. Основные вопросы международной торговой политики. М.: Социум, 2002. С. 57 и др. – Прим. ред.]
[Закрыть], а также повела борьбу с «безжизненными абстракциями английской манчестерской школы»[16]16
[Манчестерская школа (манчестеризм, манчестерство, манчестерский либерализм) – либеральная политическая и экономическая программа (идеология), сформулированная в ходе агитации за отмену хлебных законов в Англии в середине XIX в. и впоследующие годы лидерами «Лиги за отмену хлебных законов» (прежде всего Ричардом Кобденом и Джоном Брайтом).
Фразу «манчестерская школа» часто использовал британский политический деятель Бенджамен Дизраэли для обозначения движения за свободу торговли, в Германии социалисты и националисты использовали придуманный Фердинандом Лассалем термин «манчестерство» (manchestertum) в качестве синонима «бездушного капитализма» для оскорбления и высмеивания своих либерально настроенных оппонентов.
Теоретической основой манчестерского либерализма послужили произведения Давида Юма, Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милля. В области внешней политики представители манчестерской школы выступали резко против войны и империализма, проповедуя мирные отношения между народами.
В 1927 г. Л. фон Мизес изложил основные положения манчестерской версии классического либерализма в своей книге «Либерализм», которая и сегодня остается единственным систематическим изложением принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики, демонстрируя тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием.
В более общем смысле Мизес использовал фразу «манчестерский либерализм» (наряду с французским выражением laissez faire) для обозначения политической и экономической программы классического либерализма XVIII–XIX вв., потому что к тому времени, как писал Мизес в специальном приложении о термине «либерализм» в одноименной книге, «почти все, кто называли себя либералами, отстаивали мероприятия частью социалистические, частью интервенционистские». См. также: Мизес. Либерализм. Челябинск: Социум, 2014. С. 211–214; Хайек Ф. Либерализм И Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М.; Челябинск: Социум, 2021. С. 327–362; Ротунда Р. Либерализм как слово и символ. М.; Челябинск: Социум, 2015. – Прим. ред.]
[Закрыть].
Для этатистской школы экономической политики экономика, предоставленная самой себе, представляется дичайшим хаосом, в который только государственное вмешательство способно привнести надлежащий порядок. Этатист подвергает сомнению любой экономический феномен и готов не признать его, если тот не сочетается с его этическими и политическими взглядами. Тогда от государственной власти требуется привести в исполнение приговор, вынесенный наукой, и заменить грубый брак, допущенный беспрепятственным ходом событий, на то, что обязательно послужит всеобщим интересам. То, что государство, будучи оплотом мудрости и справедливости, неизменно стремится только к общему благу и что ему под силу эффективно противостоять всем напастям, не подлежит ни малейшему сомнению. Несмотря на то что взгляды отдельных представителей этой школы в других отношениях могут не совпадать, в одном вопросе они все единодушны, а именно в том, что у них принято оспаривать существование экономических законов и приписывать все экономические события действию силовых факторов[17]17
Бём-Баверк мастерски оценивает эту доктрину в статье «Macht oder okonomisches Gesetz» (Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. Bd. 23. S. 205–271). Этатистская школа немецких экономистов достигла своей наивысшей точки в «Государственной теории денег» Георга Фридриха Кнаппа [рус. пер.: М.: Изд-во Ин-та Гайдара; СПб.: Центр экономической культуры, 2023]. Примечательно в ней не то, что она была выдвинута, – в том, что она доказывала, уже в течение нескольких веков были убеждены канонисты, юристы, романтики и многие социалисты. Примечательным был скорее успех книги. В Германии и Австрии она нашла многочисленных восторженных сторонников и общее признание даже среди тех, у кого возникали оговорки. За рубежом она была практически единодушно отвергнута или прошла незамеченной. В работе, недавно опубликованной в США, в отношении «Staatliche Theorie des Geldes» сказано так: «Эта книга оказала огромное влияние на немецкую мысль в области денег. Вполне типично для тенденции в немецком мышлении ставить государство во главу любого угла» (Anderson. The Value of Money. N.Y., 1917. P. 433 n). [См.: Новые идеи в экономике: Непериод. изд., выходящее под ред. [и с предисл.] проф. М. И. Туган-Барановского. Сб. 6: Теория денег Кнаппа. СПб.: Образование, 1914.]
[Закрыть].
Экономической мощи государство способно противопоставить собственную более эффективную военно-политическую мощь. Для выхода изо всех затруднений, с которыми германский народ сталкивался на родине и за рубежом, предписывалось военное решение; рациональной политикой может быть признано только безжалостное применение силы.
Таковы были немецкие политические идеи, которые мир назвал милитаризмом[18]18
В Германии широко распространено мнение о том, что в зарубежных странах под милитаризмом понимается наличие внушительных вооруженных сил; таким образом, подчеркивается, что Англия и Франция, которые содержали мощный флот и армию на воде и на суше, были по крайней мере не менее воинственными государствами, чем Германия и Австро-Венгрия. Это мнение основывается на заблуждении. Под милитаризмом следует понимать не вооруженные силы и готовность к войне, а определенный тип общества, т. е. именно тот, что был задуман пангерманскими, консервативными и социал-империалисти-ческими авторами как тип «германского государства» и «германской свободы», и который другие прославили как «идеи 1914 года». Его антитезой является промышленный тип общества, т. е. тот, который в Германии в период войны определенное направление общественного мнения заклеймило как идеал «лавочников», как воплощение «идей 1789 года». Ср.: Spencer Н. Die Prinzipien der Soziologie. Stuttgart, 1889. Bd. 3. S. 668–754 [Спенсер Г. Основания социологии. Т. II. СПб., 1898. С. 643–707]. При уточнении и противопоставлении этих двух типов немцы и англосаксы во многом сходятся между собой, но только не в терминологии. Единодушия в оценке двух типов, естественно, не существует. Даже до и в ходе войны в Германии имелись не только милитаристы, но и антимилитаристы, а в Англии и Америке – не только антимилитаристы, но и милитаристы.
[Закрыть].
Тем не менее доктрина, которая усматривает причины Мировой войны исключительно в кознях этого милитаризма, неверна. Германский милитаризм происходит не от жестоких инстинктов «тевтонской расы», как об этом говорится в английской и французской военной литературе; это не конечная причина, а следствие тех обстоятельств, в которых немецкий народ жил раньше и живет теперь. Не нужно особой проницательности в отношении того, как взаимосвязаны между собой исторические факты, чтобы понять, что немецкий народ желал бы войны 1914 г. отнюдь не больше, чем желали бы ее английский, французский или американский народы, если бы он находился в положении Англии, Франции или США. Немецкий народ проделал путь от мирного национализма и космополитизма времен классического периода до воинствующего империализма эпохи Вильгельма под воздействием политических и экономических обстоятельств, которые поставили перед ним совершенно иные проблемы, нежели перед более счастливыми народами Запада. Условия, в которых он должен приниматься сегодня за преобразование своей экономики и своего государства, вновь коренным образом отличаются от тех условий, в которых проживают его соседи на Западе и на Востоке. Если кто-то желает охватить эти условия во всем их своеобразии, то он не должен уклоняться от ознакомления с теми явлениями, которые на первый взгляд имеют лишь отдаленную взаимосвязь.
Нация и государство
Нация и национальность
1. Нация как языковое сообществоПонятия нации и национальности относительно новы в том значении, в котором мы их понимаем. Разумеется, слово «нация» имеет весьма давнюю историю, оно произошло из латинского языка и достаточно рано получило распространение во всех современных языках. Однако прежде оно имело совсем иное значение. Лишь со второй половины XVIII в. оно постепенно стало приобретать тот смысл, который оно имеет сегодня, и только в начале XIX в. данное употребление этого слова становится всеобщим1. Его политическое значение развивалось постепенно вслед за понятием, национальность превратилась в центральный вопрос политической мысли. Слово и понятие «нация» всецело принадлежит к современной области идей политического и философского индивидуализма, они приобрели значение для реальной жизни только при современной демократии.
Если мы хотим проникнуть в сущность национальности, вначале следует обратиться не к нации, а к индивиду. Мы должны спросить себя, в чем состоит национальный аспект индивида и чем определяется его принадлежность к конкретной нации.
Тогда мы незамедлительно поймем, что национальный аспект не может заключаться ни в том, где человек проживает, ни в его принадлежности к государству. Не каждый человек, который живет в Германии или имеет германское гражданство, только по этой причине является немцем. Есть немцы, которые не живут в Германии и не имеют германского гражданства. Проживание на одной территории и наличие той же государственной принадлежности, несомненно, играют свою роль в формировании национальности, но эти моменты [19]19
См.: Meinecke. Weltbiirgertum und Nationalstaat. 3. Aufl. Munchen, 1915. S. 22 ff.; Kjellen. Der Staat als Lebensfbrm. Leipzig, 1917. S. 102 ff.
[Закрыть] не относятся к ее сущности. То же можно сказать и об общности предков. Генеалогическое понимание национальности применимо не более, чем географическое или государственное. Нация и раса – это не одно и то же, чистокровных наций не существует[20]20
См.: Kjellen. Loc. cit. Р. 105 ff. и цитируемые там работы.
[Закрыть]. Все народы возникли в результате смешения рас. Происхождение не определяет принадлежность к нации. Не каждый человек, ведущий родословную от германских предков, только лишь по этой причине является немцем; в противном случае скольких англичан, американцев, венгров, чехов и русских следовало бы именовать немцами? Существуют немцы, в роду у которых нет ни одного немца. Среди представителей высших слоев общества и среди знатных людей, чьи родословные обычно установлены, предков-иностранцев можно обнаружить гораздо чаще, чем среди простолюдинов, чье происхождение покрыто мраком; при этом последние также гораздо реже сохраняют чистоту крови, чем принято полагать.
Некоторые авторы добросовестно изучали значимость происхождения и расы для истории и политики, мы не станем здесь обсуждать достигнутые ими успехи. Многие авторы настаивают на том, чтобы принадлежность к одной расе имела политическое значение, и призывают государство проводить расовую политику. Люди могут по-разному относиться к обоснованности подобного требования, его оценка в нашу задачу не входит. Можно также оставить открытым вопрос о том, не было ли это требование уже учтено в наши дни и не проводится ли (а если да, то каким образом) расовая политика на практике. Однако следует еще раз подчеркнуть, что понятия нации и расы не совпадают, поэтому национальная политика и расовая политика – вещи разные. Кроме того, понятие расы в том значении, в каком его используют сторонники расовой политики, возникло недавно, причем значительно позже, чем понятие нации. Оно было привнесено в политику с намерением противопоставить его понятию нации. Коллективистская идея расовой общности должна была заменить собой индивидуалистическую идею национальной общности. Эти усилия пока не увенчались успехом. Незначительное место, занимаемое расовым фактором в культурных и политических движениях сегодняшнего дня, резко контрастирует с первостепенной важностью, придаваемой национальным аспектам. Поколение назад один из основателей антропосоциологической школы Лапуж высказал мнение о том, что в XX в. люди будут уничтожатся миллионами вследствие различий на один-два уровня в черепном индексе[21]21
[Черепной индекс (черепной указатель) – антропологический показатель формы черепа, представляющий собой отношение его поперечного диаметра к продольному, умноженное на 100. Термин был введен в научный оборот антропологом Андерсом Ретциусом (1796–1860) и сначала использовался для классификации палеоантропологических находок на территории Европы. В соответствии со значением черепного индекса выделяют брахицефалию (короткоголовость, ч.и. > 80,9 %), мезоцефалию (ч.и. = 76–80,9) и долихоцефалию (длинноголовость, ч.и. < 74,9). Один из создателей расизма – французский социолог Жорж Лапуж (1854–1936) использовал черепной индекс для разделения человечества на высшие расы (долихоцефалы – арийская, или нордическая раса) и низшие (брахицефалы) и утверждал, что «раса – основной фактор истории». – Прим. ред.]
[Закрыть]’[22]22
См.: Manouvrier. L’indice cephalique et la pseudo-sociologie I I Revue Mensuelle de 1’Ecole Anthropologie de Paris. Neuvieme Annee. (1899.) P. 283.
[Закрыть]. Мы действительно стали свидетелями массового уничтожения миллионов людей, но никто не может утверждать, что долихоцефалия (длинноголовость) или брахицефалия (короткоголовость) явились объединяющими лозунгами для сторон, участвовавших в этой войне. Мы, конечно, живем лишь в конце второго десятилетия того века, в отношении которого Лапуж сделал свое предсказание. Вполне возможно, что он еще докажет свою правоту; мы не можем последовать за ним в область пророчеств и не намерены обсуждать то, что еще таится сокрытым в пелене отдаленного будущего. В политике дня сегодняшнего расовый фактор никакой роли не играет; вот что важно для нас в первую очередь.
Дилетантизм, пропитывающий сочинения расовых теоретиков, разумеется, не позволяет нам легкомысленно отмахнуться от расовой проблемы как таковой. Едва ли найдется какая-либо иная проблема, прояснение которой могло бы в большей степени содействовать углублению нашего понимания истории. Вполне возможно, что путь к абсолютному знанию в области исторических спадов и подъемов лежит через антропологию и расовую теорию. Открытия, сделанные в этих дисциплинах к настоящему времени, безусловно, весьма скудны и к тому же густо обросли наслоениями из заблуждений, фантазий и мистицизма. Однако в этой сфере существуют и подлинная наука, и требующие решения огромные проблемы. Возможно, нам никогда не удасться их решить, но это не повод отказываться от их изучения или отрицать значимость расового фактора в истории.
Если кто-то не считает расовое сходство сущностью национальности, это еще не означает, что он будет отрицать влияние расового сходства на политику вообще и на национальную политику в частности. В реальной жизни множество различных сил действует в различных направлениях; если мы хотим распознавать их, то должны стараться мысленно, насколько это возможно, отделять их друг от друга. Тем не менее это вовсе не означает, что, наблюдая за одной силой, мы должны полностью забывать о том, что другие силы по-прежнему действуют наряду с этой силой или же противодействуют ей.
Мы признаем, что одной из этих сил является языковая общность, это не подлежит никакому сомнению. Если же теперь мы скажем, что сущность национальности заключена в языке, то это не будет просто терминологическим моментом, по поводу которого спорить бессмысленно. Во-первых, нам следует установить, что, говоря подобным образом, мы используем слово «язык». Именно к языку и только к нему в его первоначальном значении мы в первую очередь применяем обозначение, которое затем становится обозначением нации. Мы говорим о немецком языке, и все остальное, что носит обозначение «немецкий», получает его от немецкого языка: когда мы говорим о немецкой письменности, немецкой литературе, о немцах и немках, связь с языком очевидна. Более того, не имеет значения, возникло ли название языка раньше названия народа, или же первое ведет происхождение от последнего; как только слово стало наименованием языка, именно оно получило определяющую роль в дальнейшем развитии употребления этого выражения. И если мы в заключение скажем о немецких реках и немецких городах, о немецкой истории и немцких войнах, то без труда сможем понять, что в конечном счете это выражение также происходит от первоначального наименования данного языка немецким. Понятие нации, как уже было сказано, является понятием политическим. Если мы хотим познать его суть, то должны направить свой взгляд на ту политику, в которой оно играет роль. Мы видим, что все национальные сражения суть сражения языковые, – они ведутся вокруг языковых проблем. То, что является специфически «национальным», заключено именно в языке[23]23
См.: Scherer. Vortrage und Aufsatze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Osterreich. Berlin, 1874. P. 45 ff. Мнения о том, что признак нации заключается в языке, придерживались Арндт и Якоб Гримм. Согласно Гримму, «народ – это общее количество людей, которые говорят на одном языке» (Grimm J. Kleinere Schriften. Bd. 7. Berlin, 1884. S. 557). Обзор истории теоретических представлений о понятии нации см.: Bauer О. Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie. Wien, 1907. S. 1 ff. [Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб.: Серп, 1909. С. 1 сл.]; Spann. Kurzgefasstes System der Gesellschaftslehre. Berlin, 1914. S. 195 ff.
[Закрыть].
Языковое сообщество в первую очередь является следствием этнического или социального сообщества; однако вне зависимости от его происхождения теперь оно само становится новой связующей силой, которая создает устойчивые общественные отношения. Обучаясь языку, ребенок впитывает способ мышления и выражения своих мыслей, предопределенный языком, и тем самым он получает отпечаток, который навряд ли сможет удалить из своей жизни. Язык открывает для человека способ обмена мыслями со всеми, кто владеет этим языком, он может влиять на них и испытывать на себе их влияние. Общность языка связывает, а языковое различие разделяет отдельных людей и целые народы. Если кому-то определение нации как языкового сообщества покажется слишком малоубедительным, пусть он рассмотрит хотя бы то огромное значение, которое язык имеет для мышления и для выражения мыслей, для общественных отношений и для любых видов жизнедеятельности.
Если, несмотря на признание этих связей, люди зачастую отказываются видеть сущность нации в языковом сообществе, это обуславливается определенными сложностями, которые влечет за собой разграничение отдельных наций по этому критерию[24]24
Кроме того, особо следует подчеркнуть, что при любом ином объяснении сущности нации возникает гораздо больше непреодолимых затруднений.
[Закрыть]. Нации и языки – не неизменные категории, а скорее временные результаты процесса, пребывающие в непрерывном течении; они изменяются с каждым днем, и поэтому мы видим перед собой изобилие промежуточных форм, классификация которых требует некоторых умственных усилий.
Немец – это тот, который думает и говорит на немецком языке. Подобно тому как существуют различные степени владения языком, так же есть и различные степени принадлежности к немцам. Образованные люди постигли дух и назначение языка в известном смысле совершенно иначе, нежели люди малограмотные. Способность к формированию представлений и искусное обращение со словом являются критерием образованности: школа справедливо делает упор на приобретение способности полностью осознавать то, что сказано или написано, и внятно выражать свои мысли в разговорной речи или на письме. Полноправными представителями немецкой нации являются только те, кто в полной мере овладел немецким языком. Необразованные люди являются немцами лишь в той мере, насколько доступным стало для них понимание немецкой речи. Крестьянина, живущего в деревне, изолированной от мира, который знает лишь свой местный диалект и не может объясниться с другими немцами и не может читать письменный язык, нельзя считаться представителем немецкой[25]25
То, что понятие национального сообщества это вопрос уровня, признает также и Шпан (Ibid. S. 207); то, что оно включает в себя только образованных людей, получает объяснение у Бауэра (Ibid. S. 70).
[Закрыть] нации. Если все остальные немцы вымрут, а выживут только люди, знающие лишь местный диалект, тогда придется сказать, что немецкая нация исчезла с лица земли. Даже эти крестьяне не лишены признаков национальности, вот только принадлежат они не к немецкой нации, а скорее к своей крохотной нации, состоящей из тех, кто говорит на одном диалекте.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?