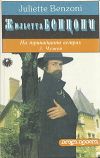Текст книги "Не говори, что у нас ничего нет"

Автор книги: Мадлен Тьен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Как и всегда, мама позволила мне думать то, что мне заблагорассудится.
Тем временем она отказалась от прежде любимой еды и взялась за бесконечную бюрократию больничных листов, больничных выплат, страхования жизни и здоровья, паутину бумаг и лекарств, что быстро взяли в кольцо ее жизнь, так что измерение времени разошлось с восходами и заходами солнца и вместо того прикрепилось к интервалам между курсами лечения, госпитализациям, приемам пищи, отдыхом и восстановлением. Она написала завещание и оставила Ай Мин сколько-то денег, права на которые и по сей день никто не предъявил; ни я, ни мамин поверенный так и не смогли ее разыскать. В тот год вышла моя статья в престижном журнале по математике, и я рада, что мама дожила до этого скромного успеха, проблеска будущей стабильности.
В те долгие больничные часы я заставляла себя понять все, что могла, об алгебраической геометрии; каким-то образом невыполнимость задачи меня спасала. Я писала статьи и пыталась отыскать в себе мамину силу. В последние два года ее жизни я изменилась. Диагноз мамы стал концом – и вместе с тем началом, насыщенно прожитым временем. Нам повезло, потому что наконец у нас было время поговорить, вернуться к вопросам, которые в пору сдержанности и тишины мы бы, может, и не подняли. Я очень многое узнала о непреклонности любви и о том, как чудовищно больно ее отпускать. Меня сформировала краткость жизни моих родителей.
В 1999 году мама попросила меня отыскать Ай Мин.
– Ты единственная знаешь, – сказала она.
Что это я такое знаю, удивилась я, что я тогда по-настоящему понимала?
– Мам, я постараюсь.
– Я не смогла ее найти. Я так старалась, но не смогла. А времени больше не осталось.
Но что, если произошел несчастный случай? Что, если Ай Мин больше нет в живых? Я хотела все это сказать, но и представить себе не могла, чтобы произнести это вслух.
Из-за обезболивающих она говорила тяжело и медленно.
– Она вернулась в Пекин. Может, в Шанхай. Я уверена.
– Мам, я поищу.
– Я написала Ай Мин письмо.
– Как?
– Я его отправила ее матери в Шанхай. Но оно вернулось, ее мать переехала. Адреса не оставила. Я столько раз звонила по этому номеру, – на глаза маме навернулись слезы. – Я обещала ее матери, что позабочусь об Ай Мин. Дала ей слово. Они были нашей семьей.
– Пожалуйста, не расстраивайся, – сказала я. – Пожалуйста. Я их найду.
– Смотри только вперед и не оборачивайся. Не гоняйся за иллюзиями, не забывай возвращаться домой. – Она словно предвидела будущее и знала, что я взвалю на себя отцовские сожаления и вину. – Ты меня слушаешь, а, Мари? Лилин…
– Тебе не о чем беспокоиться, мама. Я обещаю.
Она ни разу не спрашивала о моем отце, и все же я уверена, что каким-то образом это было одно и то же – что надежда на возвращение Ай Мин была и надеждой на его возвращение.
Перед смертью мама вручила мне фотографию, которую нам оставила Ай Мин. Карточка была копией той, которую Ай Мин носила при себе и которая принадлежала ее отцу. На фото были Воробушек, Кай и Чжу Ли. На обратной стороне мама написала: “Шанхайская консерватория музыки, 1966 год”.
Мама умерла пятнадцать лет назад, но я все чаще и чаще о ней думаю – о том, как она меня обнимала, о чертах ее характера, в особенности о преданности, практичности и смешливости. Она хотела показать мне другой пример того, как прожить свою жизнь – и как отпустить ее. И все же, в конце концов, ее слова противоречили сами себе. Смотреть вперед или оглядываться? Как мне было найти Ай Мин и вместе с тем отвернуться от собственного отца? Или она думала, что оба эти поступка – одно и то же? Годы ушли у меня на то, чтобы начать поиски, чтобы осознать, что дни нелинейны, что время не движется попросту вперед – но спускается по спирали все ближе и ближе к переменчивому центру. Как много было маме известно? Когда я пойму, что пора прекратить поиски? Думаю, из фактов возможно выстроить дом – но истина внутри него может оказаться совершенно иной обителью.
Возможно, я запуталась в датах, времени, главах и перетасовках этой истории. Что после я просто восстанавливала, что могла, о своей семье и о семье Ай Мин. Много лет спустя некоторые картины все еще стояли у меня перед глазами – бескрайняя пустыня, поэт, который ухаживал за красавицей Завитком, посылая ей чужую повесть, беззвучная музыка – и я все чаще и чаще к ним возвращалась. Я хотела снова ее найти, рассказать ей, что помню, и вернуть что-нибудь из ее даров.
Даже теперь я рассылаю письма на все известные мне последние адреса.
Когда я иду по нашему прежнему кварталу, ко мне возвращается голос Ай Мин, и мамин тоже. Мне хочется описать жизни, которым в этом мире уже не сопоставлено ничего телесного; или, быть может, более точно выражаясь, жизни, которые могут продлиться, только если мне будет, чем их видеть. Даже сейчас некоторые воспоминания становятся лишь ярче. “Воробушек еще раз продекламировал письмо от Вэня Мечтателя. У него теперь появилась собственная каденция, пульс как у либретто: “Дорогой друг, / надеюсь, это письмо найдет тебя в добром здравии / и ты меня помнишь – мечтательного друга…”
* * *
Прошлой ночью Воробушек рассказал Завитку и Большой Матушке про письмо и прочитал его наизусть. Большая Матушка весело хлопнула себя по одному колену и стукнула кулаком по другому:
– Пичужка все новости поклевала!
– Так, значит, это правда, – сказала Завиток. – Я знала, что это правда.
На мгновение она как будто снова стала такой же, какой Воробушек ее помнил – задолго до лагерей, убегающей от войны девочкой-подростком.
– Если он снова с тобой свяжется, скажи ему отправляться в оранжерею госпожи Достоевской, “Записки из подполья”. Город Ланьчжоу, провинция Ганьсу.
– “Записки из подполья”, – повторил Воробушек. – Город Ланьчжоу.
– Ты ведь позаботишься о Чжу Ли?
– Со мной и с Папашей Лютней Чжу Ли ни в чем не будет нуждаться. Обещаю.
– Будь бдителен и не теряй головы, – сказала Большая Матушка. – Шанхай полон наушников.
Она имела в виду осведомителей и шпионов. За спиной у нее ждали собранные и готовые ранцы, склонившись друг к другу, как заговорщики.
– Буду.
Лунный свет сочился в окна и собирался в умывальном тазу Большой Матушки. Хлопнув себя по животу как по барабану, она продекламировала:
Лунный свет у моей постели,
За изморозь принял я его,
Поднимаю я голову, гляжу на луну над горами,
Поникаю я ею и думаю о доме.
Воробушку же она резко сказала:
– Присматривай за отцом. Он понятия не имеет, как без меня жить, – глаза у нее покраснели.
– Береги себя, мам.
Большая Матушка рассмеялась – хриплый смешок, вспоровший воздух над луной и водой.
Быть может, когда-нибудь потом, думал теперь Воробушек, лежа в кровати, он напишет оперу о жизни Вэня Мечтателя. Вот гонец отправляется в провинцию Хубэй на поиски таинственного товарища Стеклянный Глаз и везет копию копии Книги записей. Увертюра будет самая пышная, с бравадой Шостаковича, а затем смодулирует к выверенной, аккуратной красоте Курта Вайля, с либретто из Маяковского:
и из Ли Хэ:
Желтая пыль, под тремя горами чистые воды,
смена тысячи лет стремительна, как конский галоп.
Вдалеке Китай – лишь девять струек дыма,
и в чашке воды кипит целый океан.
Способна ли такая опера стать большим, чем идея, подделка, имитация? Способен ли он сесть и написать оригинальную работу, рассказ о возможном будущем, а не о спорном прошлом?
Насколько сложно было бы выследить товарища Стеклянный Глаз? Уж наверное, в Деревне Кошек, около Уханя, отыскать его будет несложно.
Два дня спустя он сообщил Папаше Лютне, что принял назначение консерватории на сбор народных песен в провинции Хэбэй. Его студент по классу композиции, Цзян Кай, будет сопровождать его в шестидневной экспедиции и помогать с исследованиями. Воробушек даже показал отцу проволочный магнитофон и позаимствованные в консерватории проволочные катушки. Папаша Лютня только что не взлетел от гордости. Он извлек осыпающиеся карты и давно устаревшие расписания поездов, он и грузил Воробушка по самое некуда письмами к товарищам из Штаба, связь с которыми была давным-давно потеряна, пока Летучий Медведь не захихикал и не сказал:
– Пап, он же не на Почте Китая работает!
– С чего ты взял, что твои друзья еще живы? – мрачно сказал Да Шань.
Папаша Лютня уставился на того с разинутым ртом. Воробушек собрал письма и сказал:
– Папа, не волнуйся, я их все доставлю по адресу.
Чжу Ли постучала по крекеру, который держала в руке, откинула за плечи длинные волосы и сказала:
– Осторожней с этим головорезом.
Он улыбнулся и вернулся к сборам, а она принялась не спеша доедать крекер. Чжу Ли шепнула ему:
– Я никуда не еду, пока мама не вернется. Они с Большой Матушкой сейчас должны быть на полпути к пустыне. Тебе бы хотелось, чтобы я поехала с вами с Цзян Каем… так ведь?
Он продолжал собираться.
– Я бы с огромным удовольствием, – продолжила Чжу Ли, – но… что, если от отца придет посетитель или весточка?
И она уставилась на него испытующим взглядом.
– Ага, – сказал Воробушек. – Хорошая мысль.
Затем он велел ей:
– Думай только про свой концерт, Чжу Ли. Все время репетируй, не упусти эту возможность. Подумай только, сколько это будет значить для твоих родителей – если партия разрешит тебе выступать за рубежом.
Она сморгнула выступившие вдруг слезы.
– Братец, я их не подведу.
Назавтра рано поутру они с Каем встретились на вокзале. У приземистых зданий виднелись смутные очертания толп, стоявших за пайками; очереди заворачивали за углы и терялись на горизонте. Улицы казались напряженными и бдительными. Когда хлопнули, открываясь, двери их автобуса, Воробушку с Каем удалось найти два места в хвосте, на колесе. Кай настоял, что проволочный магнитофон понесет он. Воробушек прижимал эрху к груди и пытался сделать так, чтобы его не раздавили. Внутрь втискивалось все больше и больше людей, и автобус словно растягивался и сжимался, как человеческое легкое, а потом уже только сжимался. К сиденью Воробушка притиснуло невероятно древнюю старушку, и его вжало в плечо Кая. Пока автобус, подскакивая, ехал по улице Цзиньтан, Воробушек наблюдал, как сменяется городской пейзаж, бетонные глыбы уступают место открытым пространствам, пятна света скользят по равнинам на окраинах. Ветерок трепал непослушные волосы Кая. Воробушка бросило в пот. Автобус тащился дальше.
В какой-то момент он, должно быть, заснул. Проснувшись, он обнаружил, что Кай его обнимает, прикрывая его и эрху от старушки, которая обладала концентрированной тяжестью шара для боулинга. Дюйм за дюймом она продвигалась к сиденью, не переставая при этом щелкать подсолнечные семечки. Воробушек попытался вернуться в сон, от которого только что очнулся и который включал в себя герра Баха за комично маленьким пианофорте, игравшего тринадцатую из Гольдберг-вариаций, дабы продемонстрировать некую тонкость строгого контрапункта. Имя композитора связывало воедино слова “ба” (томление) и “хэ” (изумление). Лицо Баха было торжественно, как луна. На липком, потном автобусном сиденье, вышагивая по помеченным словами “ба”, “хэ”, “ба”, “хэ” камням, с плещущейся в памяти музыкой Воробушек снова уснул.
Кай разбудил его в Сучжоу. Они вывалились из автобуса как пьяные. Тридцать одна тетрадь Книги записей (все скопированные на мимеографе, кроме переписанной от руки семнадцатой главы) упиралась через ранец Воробушка ему в спину, словно он волок на плечах самих Да Вэя и Четвертое Мая. Они бегом догнали автобус на Нанкин, который только-только тронулся с места. Автобус со стоном пополз вперед, и кондуктор взмахом руки указал им на крышу – где им предстояло отыскать себе место среди кур, студентов и багажа.
Кай забрался наверх первым, затем обернулся, наклонился и схватил Воробушка за руку как раз тогда, когда автобус стал набирать скорость. Воробушек, голова у которого кружилась, поднял глаза и успел увидеть лишь честное лицо пианиста на фоне белого неба, а затем, паникующего и цепляющегося изо всех сил, его уже вздернули наверх, к Каю. Студенты на крыше расступились вокруг колдовского Кая, естественным путем выдвинувшегося на первый план. Пианист умел выражаться и ломаной городской скороговоркой, и по-деревенски напевно, он был разом и “Книгой песен” и “Книгой истории” в человеческом обличье. Кай отпустил хитрую шутку, от которой юноши взвыли, а девушки понимающе усмехнулись. От хватки Кая у Воробушка осталась ссадина, и от колыхания автобуса она болела.
– Учитель, – сказал пианист, коротко касаясь его руки, – не сыграете ли песню, чтобы скрасить нам путь?
В глазах Кая мерцала дразнящая привязанность, и девушки подсели к нему поближе.
– Этот товарищ, – сообщил он им, – самый прославленный молодой композитор нашего народа! Поверьте, вы запомните этот день до конца жизни.
Воробушек, не обращая на них ни малейшего внимания, настроил свою эрху и окунул их в “Галоп пяти коней”, отчего юноши принялись гикать, а девушки – петь. Каким-то образом румяная красавица с искорками в глазах очутилась у него на коленях. Когда он закончил, она попросила сыграть это снова, и так Воробушек и сделал, прежде чем перейти к “Шанхайской ночи”. Играя, он вспомнил, как стоял на круглых столах в чайных и пел “Жасмин” под звон монет и подношения чаем и дынными семечками, а мать и тетя Завиток пели в унисон – вспомнил, как впервые представил себе, что весь мир есть песня, спектакль или сон, что музыка означает выжить и в силах набить пустой живот и прогнать прочь войну.
Студенты пели и кричали, и водитель замолотил в крышу, чтобы они вели себя потише, а пассажиры внизу принялись выкрикивать “Цао дан!” (“Сатана!”) и осыпать их прочими исполненными ярости эпитетами, но те лишь рассеялись, не причинив никакого вреда. Кай предложил Воробушку сыграть “С птичьего полета”, уместную и вместе с тем полную меланхолии. Он сыграл, а Кай спел, и к концу мелодии у чувствительной девушки рядом с Воробушком в бархатных глазах стояли слезы, и Воробушку показалось, что внизу, в пузе автобуса, рыдают старики.
Минул день, стали спускаться сумерки – сперва медленно, затем все быстрее и быстрее. Беспорядочно выстроившиеся вдоль шоссе городки рассыпались на все более и более мелкие здания, пока наконец земля не победила – вечно огромная, золотая и бескрайняя. То тут, то там с автобуса сходило по горстке пассажиров, а на их место садился кто-то новый. В угасающем свете Воробушек видел, как за ним наблюдает Кай, и чувствовал руку пианиста у себя сперва на плече, затем на загривке, затем – вдоль тонкого позвоночника. К другой руке Воробушка была прижата девушка, и чистая сладость ее волос источала задумчивый аромат, полный надежды, словно букет зимних цветов. Партия заявляла, что вожделение, равно как ум и навыки, есть средство борьбы. Но любовь, если уж сперва служила меньшему “я”, и только потом – большему, в первую очередь – индивиду, а не народу, была предательством революционных идеалов, предательством самой любви.
Он следил, как исчезают равнины, уступая высотам побольше и ветрам посуше. Расстилались лоскутные одеяла, открывались термосы, и струйки пара сплетались воедино и завитками уносились в ночное небо. Воробушек спал под защитой звезд и полумесяца, спрятавшись под покрывалом, одним на двоих с Каем, в тепле объятий пианиста.
Они проехали мелкие речушки и однополосные эстакады и в конце концов спустились в средних размеров городок, ничем не отличавшийся от других средних размеров городков. Оба они были с головы до ног в пыли, окрасившей их в одинаковый оттенок красного дерева. Стояло раннее утро. Пока они ждали на бетонной скамье следующего автобуса, Кай рассказывал ему о своей родной деревне под Чанша.
– Мой родной город тут недалеко, всего несколько часов на велосипеде. Но если б вы туда приехали, учитель Воробушек, вы бы решили, что перенеслись в прошлое лет на сто, а то и того больше. Все те же лица появляются раз за разом, возвращаются в каждом поколении. Старый землепашец может переродиться соседским младенцем, богатый землевладелец – арендатором в долговом рабстве. В таких деревнях, как моя, отдельные люди умирают, но поколения и будничная жизнь вечно повторяются по кругу.
Пианист подвинул рюкзак, взглянул на уверенный поток велосипедов и трясущихся грузовиков и на рассевшуюся на скамейке напротив стаю ласточек.
– Но однажды, когда мой отец сам был еще ребенком, – продолжил Кай, – в соседнем городе открылась новая школа. Ее держали три бывших лавочника, которых миссионеры-иезуиты обратили в христианство. Эти трое помадили себе волосы и носили черные сутаны, такие длинные, что землю ими подметали. Они были богобоязненные люди – а еще предприимчивые. Как только приехали в город, выкупили две лавки и переделали их в церковь и в школу. Вместо денег за обучение они просили арендаторов платить им овощами и зерном, трудом – следить за состоянием зданий и собирать урожай, и верой в их бога, который походил на запеленатого в праздничные одежды упитанного младенца из Тяньцзиня на руках у императрицы. Люди младенцем восхищались, потому что он выглядел как веселый божок плодородия. И каждую неделю три священника собирали в церкви верующих и играли на маленьком пианино, которое, по их словам, привезли в Китай итальянцы тридцать лет назад, на корабле, поднявшемся по Янцзы. Но как этот музыкальный инструмент попал от итальянцев к трем священникам, никто не знал. Мой отец, – прибавил Кай, – сам был школьным учителем и возделывал несколько акров земли. Когда я был совсем еще маленький, он отправил меня к священникам, потому что хотел выяснить побольше об этом пианино. Мы вообще-то в каком-то смысле были верующие. Священники давали нам еду, займы, образование и медицину, и в это мы верили всем сердцем. Так что я пошел и учился со всем старанием, – сказал Кай. – Я в классе был не самый умный – но я был чувствителен. Я так отчаянно хотел вырваться из деревни, что мне было жаль даже траву, которая росла в том клятом месте. Я полагал, что все деревни на земле выглядят точно так же, и поэтому фантазировал, как бы мне отправиться далеко-далеко – на Луну или на другую планету. Тем временем три священника ошибочно приняли мое стремление изменить свою жизнь за подлинную веру, сиречь чистую ребяческую тоску по святому. Они приняли меня как своего. Когда мне было шесть, они стали учить меня играть на пианино. Не знаю, как они на самом деле раздобыли все эти инструменты, но на камерный ансамбль там бы хватило. Еще у них была хорошая библиотека. Я научился играть понемножку на всем: на скрипке и на альте, на органе, на флейте, даже на рожке – но всегда возвращался к пианино. Клавиши как будто были частью моего тела. Пианино, думал я, пришло из того внешнего, лучшего мира, с неба – а не из грязи. Практиковался я так безудержно, что пальцы у меня онемели и я даже подушечки себе ссадил. Как бы то ни было, я пел, я зубрил сольфеджио и контрапункт, а священники учили нас, что музыка освободит нас от скорбей нашей жизни, что нам больше не нужно перерождаться крысами, холопами или даже богачами, потому что все мы – часть одного плана, все дети одного Царствия Небесного. Так что, когда пришел Председатель Мао со своей освободительной армией, когда прибыли отряды земельной разверстки, когда помещиков сгоняли вместе и лишали имущества, когда некоторых хоронили заживо, когда крестьян продвигали до партсекретарей, мы были уже подготовлены и согласны принять это новое положение дел. Как сказано у Мэн-цзы, благонамеренный человек не может быть богат. Нам уже рассказали, что мы равны и что врата для нас открыты, а наше дело – лишь выбрать через них пройти. Три священника были убеждены, что коммунизм – провидение Господне. – Кай загадочно улыбнулся. – И все же, хоть я и стал свидетелем великой революции, я все равно чувствовал, что судьба мне – покинуть эту деревню.
– Но что стало со школой, со священниками и с пианино после земельной реформы? – спросил Воробушек.
Кай пожал плечами. Он казался решительно и навсегда отделившимся от сцены, которую описывал.
– Школа до сих пор на месте, а священники до сих пор учат. На самом деле, во время кампании по земельной реформе главный священник, отец Игнатий, стал партсекретарем коммуны. Он возглавил перераспределение земель от имени города, осудил всех до единого землевладельцев, хотя церковь сама была землевладельцем. Священники отказались от своих участков и объявили Председателя Мао вторым пришествием Спасителя. Так что даже после революции людские жизни повторяются циклически, а не по прямой. Я каждый раз на Новый год возвращаюсь домой играть для них, и они меня тихо спрашивают, не отступился ли я от Бога. В душе я заменяю “Бога” на партию, родину и семью и отвечаю, что нет. Когда в пятьдесят девятом начался голод, выяснилось, что священники все-таки всего лишь люди и понятия не имеют, как умножать хлебы и рыб. Мои мать, отец и две сестры той зимой умерли. Даже отец Игнатий умер от голода, – Кай подвинул рюкзак и поставил его на колени, частью загородив лицо. – Я смотрел, как они умирают. Я был самый младший и единственный сын, и они все сделали, чтобы меня спасти. Наши деревенские партийцы перехватывали письма к дальней родне. Всех, кто пытался покинуть деревню, арестовывали. Наказание было суровым. Если вы никогда не голодали, вы и представить себе не можете… Когда я впервые попал в Шанхай, я решил, что это все равно что другая планета. Люди не… они понятия не имели о голоде и разрухе. Когда я был помладше, я твердо намеревался встроиться в этот новый мир, спастись, потому что Шанхай был раем.
Они помолчали. Наконец Воробушек сказал:
– Да и, в принципе, приехать в Шанхай, из вашей деревни добраться до города, это все равно что океан переплыть.
Кай кивнул.
– Когда умерли мои родители, меня спас один учитель музыки. Он обратил внимание на мои способности и отправил меня пожить у друга семьи, человека образованного, профессора словесности тут в Шанхайском университете. Он первым из нашей деревни поступил в университет. С моих десяти лет он мне как отец. Только представьте себе! – Кай горько и безрадостно рассмеялся. – Заикающегося дремучего ребенка вдруг отмыли дочиста и посадили в профессорскую гостиную. Шесть лет прошло, а я до сих пор зову его “Профессор”! Мне нравится думать, что если б у него были свои сыновья, они бы обращались к нему точно так же. Поймете, когда с ним познакомитесь. Я сидел там как пень, пока его студенты и сослуживцы спорили и кричали. Порой я себя чувствовал зверьком, которого принесли из лесу. Я понимаю, что напоминал Профессору его самого много лет назад. Но я мог играть музыку. Даже когда образование и речь у меня были самые зачаточные, я уже умел играть Баха и Моцарта. Я был твердо намерен изменить свою жизнь к лучшему, мне нужно было научиться подражать Профессору и его кругу – во всем, в одежде, привычках и речи. Снаружи, на улицах, партия могла провозглашать новый порядок, конец феодального строя, восстание против старых классовых предубеждений, но в гостиной Профессора, – Кай понизил голос почти до шепота, – старый порядок был все еще в силе. Я его не виню. Видите ли, дитя деревни не слишком склонно славить деревню. Но благодаря друзьям Профессора я стал мыслить по-другому. Шанхай, как я со временем понял, для меня мал и никогда не ответит на все вопросы в моей душе. Я на слишком многих людей разделился. Я виню в этом священников, прививших мне идею лучшего мира и веру в то, что я предназначен для большего. И Профессора тоже, который когда-то раскрыл мне глаза, а сам теперь скован ностальгией по прошлому. Я хочу, чтобы родители и сестры мной гордились. Хочу подняться еще выше. А вы, учитель, не чувствуете того же самого? Ваша музыка для меня стала всем, показала мне… Я все себя спрашиваю, почему ваши симфонии никогда не исполняются, и я думаю, что это потому, что они столько чувств в нас вызывают, заставляют задаваться вопросами не только о том, кто мы, но и кем мы хотим стать. Фу Цун женился на дочери Иегуди Менухина, он играет на рояле повсюду, от Лондона до Берлина, и все же его родители подвергаются критике как буржуазные элементы. Нам, пианистам, не велено следовать его примеру, несмотря на все, чего он достиг. Но мы бы, вне всякого сомнения, послужили народу лучше, если бы были частью большего мира. Что плохого, если вашу музыку полюбят в Москве, или Париже, или Нью-Йорке?
Молодой человек говорил с полной уверенностью – с ребяческой решительностью, которая для Воробушка была как обломок иного времени. И все же, как и некоторые студенты – ровесники Кая, он говорил так, словно не было никакой разницы между учителем и учеником, отцом и сыном, никакой формальности. У них разница в возрасте всего в десять лет, подумал Воробушек, а они как будто родом из разных столетий.
– Моя музыка… – наконец сказал Воробушек. – Когда я был помладше, я хотел только писать музыку. И ничего кроме. И я по-прежнему именно это и чувствую.
– Я в ваших сочинениях слышу кое-что еще. Слышу пробел между тем, что вы говорите, и тем, чего желаете. Музыка просит большего… Я убежден, что мы одинаковые. – Он обернулся и взглянул Воробушку прямо в глаза. – Учитель, я больше не желаю жить скованно. Я желаю отбросить посредственность. Профессор стал с годами бояться революции. Я ее не боюсь. Я желаю, чтобы пробуждение нашего времени пробудило и меня тоже. Мы не можем просто учиться у западной музыки и искусства, нам нужно также исследовать и критиковать свой повседневный опыт и собственную мысль. Не стоит нам бояться собственных голосов. Настало время говорить то, что мы на самом деле думаем.
Тут подошел автобус, и Воробушек был избавлен от необходимости отвечать.
Первые два дня они провели, собирая музыку в деревнях близ Уханя, и еще два – в самом городе Ухань, считая и день на фабрике цимбал и гонгов. Всякий раз, как Воробушек исподволь упоминал товарища Стеклянный Глаз, ответом на его расспросы была неловкость – но большей частью безразличие. Впрочем, на пятый день, когда они сидели в чайной “Красная опера”, к ним подошел незнакомец.
То был небольшой человек лет под семьдесят с большой блестящей головой и полуприкрытыми глазами азартного игрока.
– Товарищи, – сказал он, – мы ехали из Нанкина на одном автобусе. Какая радость встретить вас снова! Скажите, пожалуйста, вы в Ухане надолго?
– Как минимум еще на день и на ночь, – сказал Воробушек.
– Рад это слышать, и кстати говоря, да здравствует Председатель Мао! Да здравствует ни с чем не сравнимая Коммунистическая партия! – В горле у него на этих словах запершило, и он вынужден был прерваться и откашляться. – Прошлым вечером моя малютка племянница сказала мне, что слыхала, мол, в Персиковом садике выступают музыканты из Шанхая, и я сразу понял, что это, должно быть, вы. – Он раскрыл веер, словно выкидной нож. – Жара, правда? Ухань, как говорится, плавильня Юга. – Медленно, с силой помахивая веером, он поведал, как до войны жил в Шанхае и какое-то небольшое время брал у Тань Хуна уроки скрипки. – Кстати говоря, зовут меня Старик Хуан, но обращайтесь ко мне, пожалуйста, “Цзянь”; друзья зовут меня Цзянь. Не то “цзянь”, которое “камбала”, а то “цзянь”, которое как одноглазая однокрылая птица из легенд.
Он пододвинул свой стул к ним поближе и прочувствованно шепнул:
– Прошу вас, расскажите, как там мой дорогой друг Тань Хун. Он еще преподает в Шанхайской консерватории?
Пол-утра они провели за поеданием дынных семечек и бесед о положении дел в музыке.
Цзянь пригласил их остановиться у него.
– Комната у меня скромная, – сказал он, правой рукой обмахивая себе темечко. – Едва ли она подойдет для двух таких прославленных музыкантов, как вы, но в саду хорошая акустика. Услышав вас в автобусе, я понял, что очень давно уже не слыхал, чтобы на эрху играли с таким чувством. И, товарищ Воробушек, позвольте быть с вами откровенным, у меня такое ощущение, что мы с вами уже знакомы. В прошлом году во Дворце культуры Уханя заезжие музыканты давали ваш струнный квартет до-мажор. Великим преуменьшением было бы сказать, что ваши сочинения меня околдовали! Воистину, столь тонкий контрапункт и глубина чувства в наше время необычны. Прошу вас оказать мне честь своим присутствием!
Воробушек принял предложение от имени их обоих.
У Цзяня, отобедав обжигающе острой лапшой, они сидели под зонтичным деревом и курили. Воробушек был благодарен за солнце, гревшее ему макушку и колени, за бледный, но все же крепкий чай и ароматный бисквит, который Цзянь поделил на два больших куска, а себе отщипнул только крошечный ломтик. Мысли Воробушка обратились внутрь, и он сосредоточился на лекции по композиции, которую собирался прочитать о революционном экспрессионизме, “Трактате о гармонии” Шенберга и статье Черепнина о вечной линии народной музыки. “Развитие вариации, – начал бы он с цитаты из Шенберга, – означает, что начинаем мы с основной темы и с нее развиваем дальнейшую идею пьесы. Композиторы, учитывайте беглость, контраст, разнообразие, логику и единство, с одной стороны, и характер, настроение, выразительность – с другой…”
Тут-то Цзянь и хлопнул себя по голове, словно забыл загасить жаровню. Он выбежал, а вернулся уже с очень старой, поразительно красивой скрипкой. Он предложил ее Каю, который, в свою очередь, вручил ее Воробушку, который с благоговением ее принял. Под пристальным взглядом старика Воробушек настроил инструмент. Он ощутил тонкость струн и хрупкость корпуса скрипки. Интересно, подумал он, какая музыка лучше всего подойдет столь родовитому и почтенному инструменту. Он протер струны и оценил варианты. В конце концов он вскинул скрипку и сыграл вступительную арию из “Ксеркса” Генделя, а затем “Песню без слов” Мендельсона. Скрипка была выразительна и полна жизненной мудрости. Воробушек покосился на Цзяня. Хозяин дома сидел в теньке, предавался воспоминаниям, улыбался и словно снова помолодел.
Доиграв, Воробушек вернул скрипку владельцу.
– Теперь, когда мы по-братски сблизились, – сказал, принимая ее, Цзянь, – могу ли я узнать, что привело вас в Ухань? Полагаю, не просто желание повидать знаменитые сады Гуциня, – на его широком лбу меланхолически бликовал полуденный свет.
– Мы с товарищем Каем собираем народные песни провинции Хэбэй. – Мгновение спустя он прибавил: – И, если обстоятельства позволяют, я разыскиваю друга семьи.
Цзянь кивнул. Он позволил доверию Воробушка ненадолго повиснуть в воздухе, прежде чем ответить:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?