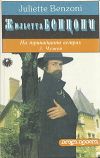Текст книги "Не говори, что у нас ничего нет"

Автор книги: Мадлен Тьен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Большая Матушка будет преподавать в провинции Ганьсу новую революционную оперу, – сказала Завиток. – Она руководитель Ансамбля песни и танца и устроила так, чтобы я ее сопровождала. Она уже рассказала соседям, что займется возвращением меня к жизни в обществе. И сказала им, что, стоит мне несколько недель пожить в мазанке в Ганьсу, как я искуплю свои проступки и глупости юности.
Мать нерешительно протянула руку и коснулась кончиков длинных волос Чжу Ли. Глаза ее смотрели прямо и спокойно.
– Глупенькая моя, – мягко, поддразнивая, сказала она, – я уже побывала на краю света и вернулась. А это всего-то маленькая поездка.
Серая блузка и штаны матери были выглажены и чисты, пристойны и непритязательны, и все же выражение ее глаз не имело ничего общего с покорностью и пристойностью. Никакого смирения – блестят, как острый нож в воде. Ее мать, подумала Чжу Ли, точно в знаменитой пословице: в бедствиях процветает, в сытости чахнет.
– Мам, – сказала Чжу Ли, – пожалуйста, разреши мне поехать с вами! – Еще только произнося это, она понимала, что не хочет никуда уезжать. – Большая Матушка ведь может это устроить, правда?
Мать промолчала, словно такую мысль и выслушивать не стоило.
Вместо этого Завиток взяла собственноручно переписанную семнадцатую главу романа о Да Вэе и принялась листать ее, словно вечернюю газету. С остальных глав, сказала она, она тоже снимет копию, каждую переплетет в отдельную тетрадь, всего тридцать одна тетрадка. Но в каждой будет самую малость поправлен текст и добавлена дата переписывания. Они воспользуются тем же шифром, что и первоначальный автор, вкладывая места и информацию в имена Да Вэя и Четвертого Мая – улики, что были значимы лишь для отца Чжу Ли, изменения, которые он тут же опознает как не имеющие отношения к первоначальной Книге записей.
– А какое место? – спросила Чжу Ли. – Сюда ему приезжать опасно.
Мать все продумала. Место принадлежало третьему лицу, госпоже Достоевской, которую партия воскресила к жизни и которая жила теперь в провинции Ганьсу и работала в оранжерее.
– Она дала оранжерее чудесное название, – сказала мать. – Зовет ее “Записки из подполья”. И вот меня вдруг и посетила мысль. Я вспомнила, как Да Вэй слал своей возлюбленной послания в эфире, на публичных радиоволнах. Спрятаться у всех на виду. Мы с Большой Матушкой будем по дороге продолжать переписывать и распространим копии по всему северо-западу. Она уже распечатала в консерватории дюжину копий семнадцатой главы, это любимая глава твоего отца. Вэнь может пять дней не есть, но мимо отдела художественной литературы в книжном ему не пройти. Видишь, мы дату добавили? Как только твой отец ее увидит, он сразу поймет, что послание не от автора. Что оно может быть только от нас.
Чжу Ли обняла мать. Та обняла ее в ответ, но руки ее были легки, как крылья.
– Мам, вы когда уезжаете? – спросила она.
– Завтра утром.
Чжу Ли еще крепче обняла мать. Она помнила домик, который был у них в Биньпае, и тайное подземное хранилище, полное книг и музыкальных инструментов. Она влезла в него как в волшебное королевство и тем самым навсегда изменила жизни своих родителей. Интересно, существуют ли еще такие подземелья, подумала она. Если она найдет еще одно, войдет ли она снова внутрь?
Глаза матери сияли пугающим светом – частью гневом, частью безумием, частью любовью.
– Чжу Ли, смотри в оба, что говоришь и кому доверяешь. Прийти могут за каждым. Все думают, что одним-единственным предательством спасут и себя, и всех, кого любят. – Она вновь опустила глаза на карту, словно именно та, а вовсе не комната, была реальным миром. – Думай только об учебе. Не пиши мне, не отвлекайся. Обещай мне, что не будешь рисковать. Сосредоточься на музыке.
Большая Матушка Нож вовсю рылась в одежде, сухофруктах, швейных иголках, матрасах, разных полотенцах, кухонном горшке и коллекции ножей, пытаясь втиснуть все это в солдатский ранец Папаши Лютни.
– Я б лучше этот мясницкий нож взяла, чем эти штаны, – задумчиво сказала Большая Матушка Нож, предъявляя на обозрение оба предмета.
– Лучше бы ты штаны взяла, как по мне, – сказала Завиток. – Давай-ка, заткни нож ко мне в покрывало…
Большая Матушка принялась напевать куплет из “Как дует северный ветер”, пересыпая его похабными словечками, и Завиток рассмеялась и велела:
– Чжу Ли, закрой уши!
– Или свой куплет добавь! – сказала ее тетушка.
Сестры захихикали и продолжили складывать покрывало.
Да Шань уже вернулся из школы и валялся на диване – на животе у него лежали статьи Председателя Мао о партизанской войне.
– Возьмите меня с собой, – сказал он. – Я буду вам тягловой лошадью.
– Да если б я тебе пару виноградин дала нести, – презрительно сказала его мать, – ты и то бы переломился.
Да Шань вздохнул.
– Мам, ну что ты так-то? – сказал он, и Большая Матушка обернулась с болтавшимися в руках штанами.
Ее лицо смягчилось, и Да Шань сел, взял штаны, сложил их, скатал и отдал ей обратно.
– Тебе, мам, они понадобятся, – сказал он и улыбнулся.
Чжу Ли покрепче ухватила скрипку и повернула в сторону консерватории. Весеннее небо стояло серо-розовой дымкой. Чжу Ли шла медленно, слушала, как шелестят, словно пойманные зверьки, нотные листы у нее в сумке, и гадала, навестит ли ее Кай в сто третьей аудитории – или вместо того она обнаружит, что Инь Чай и Ее Величество Печенька предосудительно прячутся вместе. Судя по всему, Печенька со Старым У расстались. Но, может, если ей повезет, в репетиционных никого не будет. Ей уже пару раз снились кошмары, как будто она стояла на сцене перед тысячей зрителей, вечно бессонные лица Председателя Мао, Чжоу Эньлая и Лю Шаоци глядели на нее со стен – но когда она коснулась нот смычком, первые ноты “Цыганки” не прозвучали. Зрители начали возмущаться. Они смеялись, пока она пыталась сменить струны, глумились, пока она меняла смычок, осыпали ее оглушительными оскорблениями, но что бы она ни делала, скрипка все не играла.
– Страх сцены, – объяснил ей Воробушек. – Тревожиться – это нормально.
Консерватория назначила следующий сольный концерт Чжу Ли на середину октября – через несколько дней после ее пятнадцатого дня рождения. Она хотела играть Баха или своего любимого Прокофьева, но учитель Тан об этом даже слышать не желал. Он хотел, чтобы она нацелилась на следующий конкурс Чайковского – через четыре года.
– Равель тебя лучше подготовит – если ты, конечно, не предпочтешь “Каприз 24” Паганини.
– Учитель, я дочь осужденного правого уклониста. Меня не выпустят выступать за рубежом.
Его глаза ничего не выдавали.
– Нужно верить в партию. И ты, со своей стороны, тоже должна постараться.
Но две ночи назад Кай рассказал ей, что некоторые, если не все, эти возможности – конкурсы, стипендии – закроют. В консерватории той ночью было непривычно тихо. Стояла такая жара, что все, наверное, сбежали.
– Однажды, – пошутил Кай, – мы придем на выход, а все двери заперты.Его следующее сольное выступление тоже назначили на октябрь.
– Если бы не Папаша Лютня, меня вообще никогда бы не приняли в консерваторию, – сказала она. – Я на полном серьезе жду, что меня переведут в сельскохозяйственный техникум в провинцию Шаньдун.
– Тем больше причин попытаться уехать за границу.
Она сыграла несколько тактов Равеля.
– Твой-то отец, конечно, член партии.
– Истинная соль земли. Крестьянин, играл на бамбуковой флейте и присоединился к революции еще тогда, когда даже наш Великий Кормчий про нее и слыхом не слыхивал.
Ему нравилось ее шокировать. Она не стала смеяться.
– Кай, я ни одному слову твоему не верю.
Он взял Чжу Ли за руку и задержал ту в своей.
– Я рад, Чжу Ли. Никогда мне не доверяй.
Он подался вперед и приложился сперва к ее щеке, а затем – к губам. Тепло его губ ее унизило, она отвернулась – но он все не выпускал ее руку, жар его дыхания обдавал ей ухо. Ровно в тот момент, когда ей захотелось уступить, яростно поцеловать его, он выпустил ее пальцы.
– Делай, что велит старый скрипач, – велел ей Кай. Он держался так, словно ничего необычного не произошло. – Играй Равеля. Если хочешь, я могу аккомпанировать.
– Хорошо, – сказала она. Ее била дрожь. Он переключил передачи с плавностью кружащей птицы, с бесповоротностью безумца. – Раз уж он так тебе нравится.
Когда он ушел, она снова взялась за скрипку. Да как он посмел? Но внутри у нее набухало смешливое, стыдное удовольствие. Почему она ему это позволила?
Она уже дошла до каменных ворот консерватории, где во внутреннем дворе столпились сотни студентов и болтали, треща, как костер. Чжу Ли направилась прямо в класс политинформации, она пришла чуть ли не за час, но явилась последней. Одна сокурсница, с алой повязкой на рукаве, демонстративно записала ее фамилию. Эта девушка была настоящим фанатиком. В прошлом году она была среди студентов, которых направили “на картошку”. Хэ Лутинь отказался прерывать занятия, и потому разрешили поехать лишь немногим, детям партийцев. Большинство, включая Кая, поселили в голых бараках. Некоторые студенты явно никогда прежде не копались в земле, но все равно вернулись героями.
Уже в консерватории они хвалились новообретенным знанием, постоянно сомневаясь в преподавателях, родителях и в самой музыке. “Нужно брать ответственность за свои мысли на себя! – провозгласила та девушка. – Чтобы изменить свое сознание, нужно изменить условия, в которых мы живем!” Преподавателя выгнали из аудитории. Чжу Ли с однокурсниками писали эссе на старых газетах и оберточной бумаге и пришпиливали их на северную стену. “Одарены ли мы? – вопрошали эссе. – А даже если так, кому какая разница?” “Что толку с этой музыки, с пустых заклинаний, что лишь защищают буржуазию и способствуют отчуждению бедняков?” “Если выбор стоит между красотой и уродством, выбирай уродство!” “Товарищи, революция зависит от нас!”
Теперь же класс сосредоточился на драматурге У и поэте Го. Оба они, в свое время прославленные, были изобличены как враги народа.
– Го заявляет, что не изучал мысли Мао Цзэдуна как следует, говорит, что надо сжечь все его книги, заявляет, что исправился, но мы-то его знаем, ведь так, товарищи? Змеюка лжет. Сколько он уже член партии? Сколько он уже тайный предатель?
– А власти при этом ничего не делают!
– Мы, женщины, должны быть на передовой отчаянной классовой борьбы, мы должны сделать это нашей природой. Никто вместо вас бороться не будет. Никто за вас не умоет вам лица! Революция – это не просто эссе писать или играть “Партизанскую песню”…
– Вот именно, старшие поколения воспользовались революцией, чтобы защитить свое положение в обществе. Они нас предали.
Студенты принялись критиковать сами себя и друг друга, и девушка рядом, специальностью которой была эрху, стала высмеивать Чжу Ли за склонность к музыке в “отрицательном” и “пессимистическом” ми-бемоль-миноре и за то, что та упорно играет сонаты советских композиторов-ревизионистов, включая опального формалиста Прокофьева. Чжу Ли со всей страстью себя осудила, поклялась усвоить оптимизм до– и соль-мажорных тональностей и завершила самокритику словами “Да здравствует революция, да создаст она пролетарскую культуру, да здравствует Республика, да здравствует Председатель Мао!” Достаточно ли она критиковала или слишком? Их лица, жесты, глаза были холодны. Они понимали, что в сам момент речи она верила в то, что говорит, но как только занятие заканчивалось, ясность рассыпалась. Все ее мысли воевали между собой.
К концу урока руки лежали у нее на коленях, как камни. Вставая, она ощутила, что платье от пота приклеилось к спине и ногам. Смутившись, она села обратно, поспешно опустила глаза и занялась книгами.
После того как студенты разошлись, она прошлась вверх по одному коридору и вниз – по другому и явилась в сто третью аудиторию, словно в дом к доверенному собеседнику. Там были Кай и ее двоюродный брат. Воробушек стоял, прислонившись к дальней стене, и когда он поднял восторженное лицо и улыбнулся Чжу Ли, та подумала, что глаза его светятся грустнее некуда. Кай послал ей ухмылку. Она закрыла за собой дверь и почувствовала себя так, словно вышла в открытый космос. Двадцать первая Гольдберг-вариация Баха уступила радостной, отважной и властной Двадцать второй. Кай играл, будто жонглируя дюжиной серебряных ножей, и все их лезвия искрили и сияли.
Кай, подумала она, да ты такой же, как я, потерянный. Ты понятия не имеешь, откуда родом эта красота, и знаешь довольно, чтобы понимать, что не может она идти из твоего сердца. Может, Кай, как Воробушек, панически боялся, что однажды звук оборвется, разум его онемеет и все ноты исчезнут. Милый Кай. А, подумала она, быстро исправившись, слово “милый” сентиментально до тупости, и из дозволенного лексикона его вымарали. Так как ей тогда его называть? Она почувствовала, что вот-вот расплачется. Кай был так на нее похож, и все же… Он играл каждую ноту так, словно та принадлежала ему одному. Он был весь прихоть, и красота, и сложная, утонченная игра; Чжу Ли подумала, что ему, пожалуй, больше подошел бы вспыльчивый гений Бетховена или Рахманинова или даже модернистские высоты Стравинского. Бах, как всегда полагала она, был человек-тайнопись, странный тип, композитор, возлюбивший Бога и посвятивший себя числовому порядку мира, но сердце которого было разбито на куски. Он существовал вне времени. Когда-нибудь Кай сыграл бы Баха со всем пылом, к какому призывал композитор – когда-нибудь, но не сейчас. Кай был еще слишком молод, слишком уверен.
По ее настоянию Воробушек сыграл первую часть своей неоконченной Симфонии № 3, а они с Каем стояли, прислонясь к стене. Вступление соскользнуло из тональности ми-бемоль-мажор в неожиданно светящийся ре-минор. Она расслышала атональность, вшитую в обманчиво гармоничную поверхность, расслышала ломкие разрывы и время, ускорявшееся словно колесо, что вращалось все быстрее и быстрее. Пусть она и была талантлива, и пусть Кай был талантлив, это Воробушек, понимала она, был наделен истинным даром. Его музыка заставила ее отвернуться от совсем-не-возможного и почти-уже-здешнего, от несовершившегося, неверного будущего. Настоящее, как будто говорил ей Воробушек, вот и все, что у нас есть, и все же мы так никогда и не наловчимся удержать его в руках.
Пока остальные в консерватории давали своим сочинениям поэтичные названия (“Радость юного солдата” или “Тридцать миль до почтовой станции”), Воробушек, как всегда, только нумеровал. И все же Чжу Ли представила себе, что слышит в музыке присутствие своего отца – так же ясно, как ясно имя Вэня Мечтателя было начертано на странице. Может быть, его имя было тайно написано и там? Бах же, например, зашифровал в одном мотиве четыре буквы собственной фамилии. Эти четыре ноты, с учетом того, что в немецкой системе B – это си-бемоль, а чистое си – H, всплывая в музыке, служили ему подписью. И разве не закодировал Шуман город, где родилась его возлюбленная? Говорить не говоря было бы как раз в духе ее двоюродного брата. Левой рукой Чжу Ли играла на невидимой скрипке, но когда она заметила это за собой, тут же прекратила. И все же в новом сочинении Воробушка ей слышался повторяющийся узор, словно это шагал сам Вэнь Мечтатель. По ночам отец вышагивал и по ее собственным снам. Где же он мог укрываться, сбежав из лагеря? В прошлом месяце Чжу Ли подслушала, как мать рассказывает, что тела умерших в лагерях в пустыне бросали разлагаться в песках. Ученые и учителя, давние члены партии, врачи, солдаты, газетчики и инженеры – более чем достаточно народу, чтобы в нижнем мире построить лучший Китай.
– Осторожней. Тут даже привидения вне закона, – сказала тогда Большая Матушка.
– Слишком уж много вранья. Не могу притворяться и не желаю.
Большая Матушка Нож сказала, что грядет очередная чистка – ходят у нее на предприятии такие слухи.
– Тупая я дура, – сказала Завиток. – И всегда была дурой.
В чем же она была дурой, гадала Чжу Ли. Что она имела в виду?
Большая Матушка рассеяла меланхолию длинной, раскатистой отрыжкой.
– Если не можешь притворяться коммунисткой, единственный выход…
Воробушек вдруг перестал играть.
– Оно не окончено, – сказал он. – Не могу продолжать.
– Но оно потрясающе, – воскликнул Кай. – Это ваш шедевр.
Воробушек, зардевшись, вручил Чжу Ли ее скрипку.
– Да ничего особенного, – сказал он.
Чтобы изгнать воцарившуюся в комнате неловкость, она выбрала сонату Изаи в сомнительной тональности ми-минор. Она завидовала уму композитора, наблюдательной сострадательности, какой был наделен Воробушек, и стремилась воспитать ее и в себе, но это было невозможно. Она была исполнителем – прозрачным бокалом, придающим форму воде, и ничем более. Когда соната кончилась, Кай вскочил и выбежал из комнаты.
– Некоторые вот совсем ми-минор не выносят, – пробормотала Чжу Ли.
– Может, у него свидание.
Было уже поздно, почти полночь.
– Не думаю, что у нашего пианиста есть возлюбленная.
Воробушек выглядел так, словно вот-вот упадет в обморок.
Чтобы он хоть чуточку ожил, она напомнила, что их матери собирают сумки и уезжают во внутренние районы Ганьсу.
– Для тети Завитка так лучше. В Шанхае сейчас неспокойно, – сказал он.
– Почему это?
Он не ответил. Чжу Ли хотела расспросить его об этом страхе из-за собственной тревоги, что тоже опустошала, была своего рода голодом; когда же ей будет положен конец? Эта тревога прорубала в ней пропасть, доходившую до самых рук.
Но тут как раз вернулся Кай.
– Профессор принес нам поесть, – сказал Кай, предъявляя три порции лапши, три пшеничные булочки и на удивление маленькую банку вина.
Чжу Ли понятия не имела, кто такой Профессор, но решила, что это неважно. В животе у нее урчало. Меланхолия в глазах двоюродного брата исчезла, как не бывало.
Кай рассказал, что кто-то из студентов вернулся с демонстрации, но на улицах спокойно. Тебе-то спокойно, подумала Чжу Ли. И у Кая, и у ее двоюродного брата классовое происхождение было неопровержимо – они были сыны почвы, сыны героев революции, сыны… она рассмеялась и выпила вина. Лицо ее двоюродного брата было затуманено радостью.
Они с Каем сидели на скамейке, прижавшись друг к другу. Алкоголь сделал ее помыслы легкими и нескромными, и она решила влезть на скалу и отдать двоюродному брату честь. Кай обвил рукой ее ноги, чтобы не дать ей сверзиться, и пожатие его ладоней внушало Чжу Ли желание и оттолкнуть его, и вместе с тем – рухнуть к нему в объятия.
– Братец Воробушек! – объявила она. – Вдвое меня старше…
– Я что, такой старый? – возмутился он.
– …но самый мой лучший друг на всем белом свете! Я и в потопе тебя не покину!
– Пусть потоп всех нас минует, милая Чжу Ли, – сказал Воробушек.
– Пусть потоп унесет нас к лучшим берегам, – сказал Кай.
Чжу Ли первая поддалась усталости. Она ушла. За стенами репетиционной она несколько мгновений стояла и слушала, ожидая, что вновь раздастся музыка или голоса – но ничего не прозвучало.
И все же на следующий день, спозаранку, когда в консерватории было еще тихо, он не замедлил явиться, точно как обещал: милый Кай, измотанный исполнитель, наполовину повис на рояле, как на руке старого друга.
– Опаздываешь, товарищ Чжу Ли, – сказал он.
– Ты что, тут и спал?
– С открытыми глазами и ручкой в руке.
– Самокритику писал, я уверена.
Он улыбнулся. Как устало он выглядел – и вместе с тем вдохновенно, словно только что вышел с девятичасового семинара у самого Гленна Гульда.
– По правде говоря, – сказал он, – я “Цыганку” прежде даже не слышал. Я пришел пораньше, чтобы ее разучить. Я боялся, что ты меня выгонишь со своего концерта и вместо этого сыграешь с Инь Чаем.
– Так у тебя получилось.
И вот оно мелькнуло опять: гордый блеск в его глазах.
– Естественно.
Прогнав пьесу на один раз, они уселись на полу, скрестив ноги, лицом к лицу.
– Ты слушал запись Ойстраха? – спросила она его.
– Раз десять. Мне она показалась жуткой, и я не мог остановиться… А еще я слушал Хейфеца и Невё.
– Профессор Тан мне велел думать о ней в том же ключе, что и о “Фаусте” Гуно, – сказала Чжу Ли. – Ну, знаешь: “Я дам тебе всего, что пожелаешь”. Продать душу нечистой силе. Обычное дело.
Тан сказал, что скрипичная партия в “Цыганке” была дьявольски сложная. Безупречно сказано, подумала тогда она.
Кай кивнул и сделал пару нечитабельных, размытых пометок у себя в нотах.
– А партия фортепиано загадочная, правда? – он перевернул несколько страниц. – Во-первых, вступает оно с запозданием. Во-вторых, я нахожу ее холодной. Видишь, она никогда не теряет самообладания и не выбивается из сил. И все же я чувствую в ней невероятный голод. Она хочет властвовать. Быть может, подтолкнуть скрипку ближе к пропасти.
То была правда. В последней трети пьесы скрипка закладывала круги все быстрее и быстрее, почти до невозможности. Чжу Ли бездумно сказала вслух:
– Тогда это не любовь, а что-то вроде.
Они с Каем сыграли пьесу снова, и несовместимость двух инструментов все накалялась, как танец пары влюбленных, давно уже разрушивших друг другу жизнь – однако продвигавшихся вперед все теми же с ума сводящими па. Кончается-то оно плохо, подумала Чжу Ли, протягивая руку к нотам – спину сводило, шея ныла. Это она была дьяволом-скрипачом. Стены сто третьей аудитории плясали вкось и словно расступались перед ней, как будто она обернулась дождем и бурей.
Музыка оборвалась. Она села за рояль и уставилась на клавиши. Кай взял ее за горячие влажные руки. Она ненавидела, когда ее трогали за руки, слишком они были чувствительные и постоянно болели, и ей, бывало, снилось, что их размозжило или разрезало. Словно читая ее мысли, он выпустил их, взял свой карандаш и постучал по нотам.
– Ты в каждом такте видишь больше, чем все скрипачи консерватории.
– Консерватория – это лишь крошечный уголок мира.
Она отняла у него карандаш, долистала до “менее живо” и сказала:
– Вот тут я споткнулась. Смертельно. Давай-ка еще раз вернемся.
Его рука плавно опустилась ей на спину.
Она попыталась было встать, но он обнимал ее за талию.
– Чжу Ли, – его голос звучал слишком близко, губами Кай прижимался к ее волосам. – Не бойся, – сказал он.
Она не боялась. Разве что, подумала она, позволяя ему нащупать губами ее губы, я слишком о многих людях, слишком о многих словах, слишком о многих вещах мечтаю. У меня чувство, что времени слишком мало. Они поцеловались. Она не сознавала, что до сих пор стоит – она как будто легла на пол.
Чжу Ли высвободилась, выпрямилась и пошла к своей скрипке, словно ничего не случилось, гордясь, что может быть такой же безразличной, как он, и попыталась сыграть первые такты “Цыганки”. Разум ее был решителен и нем, но сердце ликовало. Кай ей улыбался. Интересно, подумала она, что он чувствует. Глубоко-глубоко, в тайниках души, доверял ли он хоть кому-нибудь? Она приказала себе раствориться в Равеле. И забылась – в стенах аудитории и в самих звуках.
6
Мы сами не заметили, как недели со времени отъезда Ай Мин превратились в месяцы, а месяцы – в годы.
Восемнадцатого мая 1996 года я смотрела телевизор и пыталась решить сложную задачу (“Пусть D – положительное целое число, квадратный корень которого не является целым числом. Докажите, что цепная дробь квадратного корня из D конечна”), как вдруг зазвонил телефон. Голос Ай Мин был слышен поразительно ясно, словно от меня требовалось лишь протянуть руку и втащить ее в комнату. Я была вне себя от счастья. Последнее письмо от нее пришло месяц назад, и спустя пять долгих лет мы с мамой ждали хороших новостей – амнистия, о которой давно ходили слухи, наконец состоялась, и Ай Мин, вместе с почти полумиллионом остальных, подала заявление на ПМЖ в Соединенных Штатах.
– Ма-ли, – сказала она, – я звоню поздравить тебя с днем рождения.
Мне только-только исполнилось семнадцать. Ай Мин засыпала меня вопросами – про маму, про математический летний лагерь, про мои планы на университет, про нашу жизнь – но я пропустила это мимо ушей.
– Что там с твоим заявлением? Тебе назначили собеседование?
– Нет… пока ничего нового.
Я попросила ее дать мне свой номер и положить трубку, чтобы я могла ей перезвонить.
– О нет, не беспокойся, – сказала Ай Мин. – Тут такие дешевые телефонные карточки. Всего цент в минуту.
Теперь она говорила по-английски с намеком на нью-йоркский акцент – с напряженностью, которой раньше в ее выговоре не было. И в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке она кем только не работала – официанткой, уборщицей, няней, репетитором. Сперва, в силу американской новизны, ее письма искрились наблюдениями, шутками и историями. Мы с мамой дважды навещали ее в Сан-Франциско, где, несмотря ни на что, она казалась счастливой. Но с тех пор, как в 1993 году она переехала в Нью-Йорк, мы с ней не виделись. Ай Мин всегда говорила, что время не самое удачное – то она жила в общежитии и ей нельзя было принимать гостей; то расписание у нее было плавающее; то она работала в ночную смену. И все же письма от нее приходили как по часам. Ай Мин больше не писала о своей жизни, а вместо того вспоминала Пекин или свое детство.
В 1995-м, когда Конгресс принял Раздел 245 (i) Акта об иммиграции и гражданстве, мы думали, что за год она легализуется.
Сейчас, по телефону, я и не знала, что сказать. Вдруг ни с того ни с сего начались помехи.
– Ай Мин, правда, как у тебя дела?
– Мари, мой английский настолько улучшился, что им меня не завернуть, – она рассмеялась – чужим смехом. – Как только получу документы, поеду домой. Моя мама… Да ничего такого, просто… – на заднем плане до меня донесся шум машин. – Ты же скоро приедешь в Нью-Йорк, правда?
– Конечно!
Но, хоть я и говорила так, я понятия не имела, как бы такое могло быть возможно. Мы с мамой нищенствовали как никогда в жизни.
– Тебе уже семнадцать. Если бы мы шли по одной улице, я бы тебя, может, и не узнала.
– Да я совсем не изменилась, только выше стала… Ай Мин, новый анекдот хочешь? Что буддист написал в открытке? – она уже хихикала. – “Не думаю о тебе”.
– Ма-ли, сколько надо буддистов, чтобы ввернуть лампочку?
– Ни одного! Они и есть лампочка.
Машины на фоне словно рассмеялись контрапунктом.
– А ты не могла бы… – она закашлялась и перевела дух. И сказала: – У тебя еще остался тот рукописный экземпляр семнадцатой главы? Он был твоего отца…
Я должна была настоять, должна была спросить, что она хочет мне сказать, но Ай Мин казалась такой хрупкой. Как будто я стала старшей сестрой, а она – младшей. Я сказала:
– Конечно, вот она у меня на полке, рядом с теми, что мы отксерили в Сан-Франциско. Помнишь? Вот я стою, и мне прямо отсюда ее видно. Этим летом мы приедем в Нью-Йорк, обещаю.
– Скучаю по вашим голосам. Иногда мне часами приходится каждый день ездить в подземке, я как ребенок в нижнем мире и всякое себе воображаю… Нижний мир – отдельное царство, с собственными префектурами, магистратами и правительством, он должен был быть вообще отдельным городом… Томлюсь любовью я к утраченному раю / Воспряну я к свободе и в дальний путь пущусь. Знаешь эти стихи?
Ее слова меня напугали.
– Ай Мин, только не отчаивайся, не сейчас, когда ты уже столько трудилась.
– Ох, Ма-ли, я же не хочу сказать, что я несчастлива. Совсем напротив. Просто я хочу сделать еще один шаг. Я хочу жить.
Прежде чем попрощаться, я записала ее новый номер – на той же странице, что и решение цепной дроби квадратного корня из D. Но когда вечером мама попыталась дозвониться до Ай Мин, нас не соединяло. Я боялась, что не расслышала или неправильно записала – и все же ее голос звучал так точно, так безупречно четко. Когда мама попыталась дозвониться до матери Ай Мин, нас соединило – но никто не брал трубку.
Через две недели пришло письмо. Ай Мин писала, что состояние здоровья ее матери скоропостижно ухудшилось и что она едет домой. Она просила о ней не беспокоиться, что очень скоро она сможет навестить нас в Канаде. Я хотела дать Ай Мин свой электронный адрес – [email protected]. Мы только-только провели домой интернет, и это был мой первый имейл; я знала, что таким образом мы никогда не потеряем связь и сможем общаться практически мгновенно. Каждый день, придя домой из школы, я верила, что меня ждет письмо или голосовое сообщение, но меня ждала лишь тишина – ку, которая теперь шумом стояла в воздухе.
Когда настало лето, мы полетели в Нью-Йорк и доехали на метро по последнему известному адресу Ай Мин. Одна из ее соседок по комнате, Ида – женщина в возрасте, сказала, что отговаривала Ай Мин лететь. Если бы Служба иммиграции и натурализации узнала, что Ай Мин выехала из страны, ее заявление отправилось бы в корзину. Или, еще хуже, если бы ее поймали при возвращении, то запретили бы ей въезд в США на десять лет. Сама Ида только что получила амнистию по той же программе. Она объяснила нам, как добраться до фабрики искусственных цветов, на которой работала Ай Мин, но когда мы прибыли на место, никто в офисе не стал с нами разговаривать. Под конец, когда мы уже уходили, выбежала девочка-подросток. Она заговорила с нами по-кантонски и сказала, что Ай Мин ждали обратно еще несколько недель назад, но она так и не приехала.
Не зная, что еще делать, мы с мамой бродили по Чайнатауну от ресторана к ресторану, с фотографией Ай Мин. Люди один за другим изучали фото и качали головами.
Мы обе прежде не бывали в Нью-Йорке, и я чувствовала себя травинкой в мире рыб. Каждая машина, казалось, маскировалась под желтое такси. Сбитая с толку мама едва замечала город. Как во сне мы перешли Бруклинский мост – над рябящей водой.
Тем вечером мама воспользовалась кредиткой, чтобы мы сходили на концерт в Карнеги-холле; в фойе и в главном зале я вглядывалась в каждое лицо, ряд за рядом, вверх по отвесному балкону, пока все не погрузилось в тень. В голове у меня застряло стихотворение из Книги записей: Блуждают родные, в дороге рассеявшись, к теням сердцем прикипев, / По дому тоскуя, пять разных пейзажей сливается в город один. От музыки, концерта “Император” Бетховена, который не один десяток лет назад играл мой отец с Центральным филармоническим оркестром Китая, мама разрыдалась. Я сидела в темноте, уже взрослая. И казалась себе слишком широкой, слишком полной чувств для того невеликого пространства, что занимала.
В самолете домой я сказала маме, что выход Ай Мин на связь с нами – это лишь вопрос времени. А нам оставалось только ждать.
После того как в 1998-м маме поставили диагноз, все изменилось. В часы, дни и недели обычного мира мы больше не вмещались. Она стала говорить о будущем не как о чем-то открытом и неопределенном, но как о конечной мере времени; год, может, два, если повезет. Ее прагматичность причиняла мне боль. Мне было всего девятнадцать, и я нуждалась в том, чтобы верить – мама обязательно посрамит статистику. Когда она начала химиотерапию, я была в университете, наконец-то специализировалась на математике и могла придумать какие угодно статистические обоснования тому, что она не умрет. Много часов я провела, сосредоточившись над этой задачей, как будто мамины жизнь и смерть были лишь вопросом цифр и вероятностей. К моему – хотя, возможно, не к маминому – удивлению, вернулся весь гнев, который я давила с тех пор, как умер отец. Глядя на однокурсников, я слышала в их голосах и видела в их жизнях свободу, которой, как мне казалось, меня несправедливо лишили. Как легко они, казалось, забывали о своей удачливости. Я брала тем, что училась прилежней, что старалась всех превзойти, старалась отрицать – но что именно? Я не знала. Неудивительно, что я выросла в одинокую молодую женщину. Я иррационально расстраивалась из-за мамы и снова злилась на папу. Я поняла, что могу потерять мать вне зависимости от того, что говорят цифры, и вне зависимости от того, сколько всего еще ей оставалось испытать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?