Текст книги "Учебник рисования. Том 2"
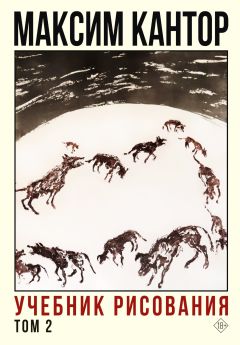
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Наши коллекционеры лучше! – восклицали художники.
– Динамика здесь круче! – вторили им отечественные бизнесмены.
– Драйв главное, – говорили деятели культуры, – у нас здесь такой драйв, ух!
Резче всех выступил, как всегда, Борис Кузин. Его суждения ждали: что-то скажет он, тот, кто объехал Европу, налаживая мосты от небытия к бытию? Его, защитника западной цивилизации от российского варварства, осенила идея: он решил, что не только Россия еще не стала Западом, но и сам западный мир еще не вполне Запад. Это парадоксальное суждение многое разъясняло. А иначе чем объяснить досадные неувязки в западной истории и образе жизни? Вопрос действительно не прост. Противоречия налицо: с одной стороны, на Западе много вкусной еды, хорошие бытовые условия и высокие зарплаты – это цивилизованно, по-западному; с другой стороны, на Западе начинается инфляция, гранты давать перестали, экономика не в лучшем виде – это не по-западному плохо. С одной стороны, в наличии соборы и культура – это по-западному; с другой стороны, безработица, растущая ксенофобия, отсутствие приглашений с лекциями о прогрессе – это не по-западному. С одной стороны, на Западе – свобода; но если нет зарплаты, то и свободы (в хорошем, западном смысле слова) нет. Ergo: Запад еще не состоялся, Запад – это лишь обещание идеи Запада, это некий проект западничества. Этим именно и объясняется то, что Запад так дифференцирован сейчас. Лучшая, западная часть Запада идет к прогрессу, а худшая, незападная часть Запада – тормозит прогресс. Скажем мягко, Европа сегодня удивляет, да, удивляет. Весьма скоро вопрос прояснился: подлинный Запад все же существует; Запад просто переехал через Атлантику. И Западу, отягощенному незападным балластом внутри самого себя, тяжело. Долг интеллигентного человека – понять и разделить его борьбу.
– Значит, борьба с варварством продолжается? – спрашивали у Кузина.
– Да, – говорил Кузин в ответ, – какие бы личины ни носило варварство сегодня: терроризма, инфляции, ксенофобии – с варварством мы, люди цивилизации, будем бороться до победного конца.
– Следует ли из этого сделать вывод, – спрашивала бойкая журналистка, – что Россия не столько часть Европы, сколько участница некоего западного проекта? Может быть, следует пересмотреть основные посылки? Да, Россия стремилась быть европейской державой. Но сегодня это не актуально. Почему бы не счесть Россию частью Америки? Ведь ничто не невозможно – и (как географически, так и в плане перспектив прогресса) Россия к Америке ближе? Зачем входить в какую-то старую цивилизацию, если есть новая? Если прорываться в цивилизацию, так лучше сразу прорываться в хорошую, не так ли?
– Вы, конечно, упрощаете, – благосклонно журил ее Кузин, – но в целом вы правы. Не следует унывать, мы только в начале пути к свободе. Пусть первые шаги и были не особенно удачными, но возможности движения остаются.
Теория Кузина оказалась спасительной для российской любви к Западу. Оказалось, что, несмотря ни на что, Запад все же можно и должно любить, поддаваться славянофильским настроениям не пристало, а если и подверглась испытанию вечная российская любовь к Западу, так это лишь укрепляет чувства. Разве это не закон жизни? Именно разлука и расстояние укрепляют чувство, проверяют его на прочность. Зато сколь ярко оно вспыхивает при встрече!
XIX
Как не обратиться здесь к происшествию, случившемуся на одном из приемов у Дмитрия Кротова? После памятного новоселья, объединившего умственных людей столицы, у Кротова регулярно собирались лучшие из лучших. Поводы найдутся всегда – например, чтение второй редакции новой программы партии «Единая правда». Никакой дидактики, боже упаси. Ясно: политика – повод для приятных встреч. Вот и Роза Кранц – та тоже собирает интеллигенцию на чаепития, подкладывая под милые посиделки политический повод. Ах, поговаривают, что Дима Кротов и Роза Кранц – идеологические противники! Не верьте этому: интеллигентные люди противниками быть не могут! Споры – да, столкновения позиций – безусловно, но для чего же враждовать? Не исключено, что и Роза Кранц присоединится к сегодняшнему торжеству, как же без нее? Будущее России выковывается в горнилах подобных собраний! В роскошный особняк на Малой Бронной явились иностранные послы фон Шмальц и Крайский, отец Павлинов, модный дизайнер Валентин Курицын, издатель Пьер Бриош, знаменитый галерист Слава Поставец, стильный юноша Снустиков-Гарбо. Явилась авангардистка Лиля Шиздяпина в оригинальном наряде из консервных банок, правозащитница Голда Стерн с новой статьей, бичующей коррупцию в Узбекистане. Зашел по-соседски Тофик Левкоев, оставив мрачную свою охрану у дверей, прилетел из Парижа обозреватель «Русской мысли» Ефим Шухман, пожаловали признанные мастера – классики второго авангарда.
В числе прочих появился знаменитый гомельский мастер, приобретший наконец прочную славу: рыночная цена колебалась в зависимости от цвета фекалий, месяца и дня изготовления, их консистенции, ингредиентов, что были употреблены мастером в пищу перед представлением. Специально маркированные этикетки удостоверяли подлинность содержимого и предостерегали от подделок. А то ведь мало ли что! Этак каждый кучу навалит и расфасует по майонезным банкам! Любой профан теперь способен нарисовать «Черный квадрат», однако тот ли это будет квадрат? Остерегайтесь, приобретая майонезную баночку: подделки преследуют на каждом шагу! Но если повезет и вы окажетесь среди немногих счастливцев, тех, кто обладает уникальным произведением, – вот тогда вы действительно сможете насладиться пиром красок. На вопрос поэта: что есть красота? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? – гомельский мастер дал поистине исчерпывающий ответ. Коллекционеры выставляли эти сосуды рядом с полотнами Пинкисевича, и часто оттенки фекалий дополняли и усложняли цветовую гамму признанного колориста. Пинкисевич работал в серых тонах, гомельский мастер предпочитал земляную палитру – от бледной жидкой охры до густого ван-дика. Мастер из Гомеля, обретя вес в обществе, стал любимцем салонов, и только давние недоброжелатели (Роза Кранц, например) за его спиной кривились и демонстративно зажимали нос.
Когда блестящее общество было в сборе, прибыл хорек. Один из наиболее загадочных (но и наиболее прославленных) представителей столичного бомонда подъехал к дому в серебристой «Альфа-Ромео», взмыл наверх на руках личного шофера Кости, был спущен на пол и вошел, виляя бедрами и источая запах французских духов. Следом шел всегдашний спутник – оживленный Яков Шайзенштейн. Хорек немедленно сделался центром внимания. Он нашел место, где была установлена карточка с его именем (хорек был поименован как лидер парламентской фракции), сел, обвел гостей волооким взглядом. Гости во все глаза смотрели на поразительное создание – совсем, ну совсем как человек, только изысканнее, утонченнее, лучше. Сколько стиля, сколько такта! Хорек грациозно поворачивал головку на реплики, благосклонно шевелил ресницами. «Вот это и есть символ авангарда», – шепнул кто-то подле Ефима Шухмана, и тот немедля внес соответствующую запись в блокнотик. «Это стиль!» – шепнул другой. «Он говорить умеет», – шепнул третий. «Что там – говорить, он статьи пишет в журнал “Мир в кармане”, и какие статьи! Да знаете ли вы, что Басманов освобождает ему кресло спикера?» – «Как? Быть не может!» – «А вот компетентные люди рассказывают». И зашептали, зашелестели, принялись рассказывать проверенные и непроверенные факты из жизни хорька. Как он возмужал! И бесспорно похорошел. Хорек увеличился в размерах, ухоженная шерстка его блестела.
А смотрит как значительно. Сразу видно, глубоко чувствует. Как пережил он житейские бури и волнения, крушение своей любви? Обрел ли новое чувство? Вот хорек застенчиво опустил ресницы, призывно шевельнул задом. Гости гадали: кто же сегодня занимает место Сыча? Найдется ли такой, что будет достаточно хорош, чтобы составить его счастье? Кто дерзкой рукой обнимет его нежное шерстяное тело? Кого нынче хорек восторгом дивно упоит? Кто счастливец? Яша ли Шайзенштейн, коего молва упорно именовала счастливым преемником художника Сыча? Иной ли дерзнет домогаться хорьковых прелестей? Ведь перед нами не простой смертный – государственный деятель. Ему и спутник нужен под стать. Хорек потянул грациозную шейку, привстал, словно высматривая избранника в толпе.
И здесь случилось непредвиденное и странное. Из толпы выступила черная старуха с зеленым бантом на плоской груди (как затесалась она в толпу? как попала сюда? ее никто не звал и не знал никто) и вперила змеиный взгляд в хорька. Хорек беспокойно дернулся, словно взгляд этот причинил ему физическую муку. Старуха сделала еще один шаг вперед, уставивши свои темные неподвижные глаза в живые хорьковые глазки. Дикое, но тем не менее совершенно реальное событие потрясло присутствующих: то ли взгляд упомянутой старухи обладал смертоносной силой подобно взгляду сказочного василиска, то ли из-за обилия народа и духоты сделалось плохо хорьку, но неожиданно глаза хорька закатились, и он грянулся на пол без чувств. Бросились к несчастному животному, сунули ему под нос нюхательную соль, принялись растирать лапки, сыскался доброхот и сделал хорьку массаж сердца, но ничего не помогало, казалось невозможным вернуть существо к жизни. Да что же это с ним такое, граждане? Убила его, что ли, эта баба-яга? Да кто она? Ну-ка, разъясните этот вопрос! Где она, эта ведьма? Подать ее сюда! Повернулись к злодейке, но той и не было уже в комнате – как сквозь землю провалилась черная старуха. Да видел ли кто-нибудь, как она ушла? И не видел никто, и знать не знает. Растворилась. Но к черту все это, не до того, погибает хорек! Умрет ведь, умрет совсем, похолодел весь, глядите, и пульс не прощупывается! Раздвинув любопытных, вышел из задних рядов художник Сыч – и сызнова гости изумились: этот-то как здесь оказался? Кто он, уж не былой ли сожитель хорьков? Ну да, именно он. Некогда знаменитый автор перформансов, отвергнутый хорьков обожатель, его и звать никто не звал на новоселье, уж забыли про него. И что же, он преследует хорька, так, оказывается? Принялись выяснять подробности. А просто все оказалось: Сыч тайком всюду следовал за хорьком, украдкой следил из подворотен, наблюдал из окон, подглядывал из-за углов. Проник он и сюда, прошел в толпе гостей мимо охраны. И вот, когда случилась беда, кто же, как не он, мог лучше помочь? Кто мог знать хорька лучше, чувствовать зверя, как самого себя? Сыч склонился над простертым тельцем, приник губами к хорьковой пасти. Так, дыханьем рот в рот, из уст в уста, возвращал он к жизни любимое существо. Казалось, сама любовь воскрешает ушедшего в мир иной хорька. Вот шевельнул он членами, вот дрогнули пушистые ресницы, вот открыл хорек маленькие глазки, поглядел на своего возлюбленного. И присутствующие почувствовали себя лишними в этой просторной зале.
29
Одним из качеств живописи является постоянство. Картина пребудет неизменной – изменится зритель, который смотрит на нее. Зритель будет приходить на свидание к картине в молодости и в старости, он изменится, а картина останется такой, как была. Даже когда время или глупость людей разрушают картину, картина продолжает жить – так сохранены нашим сознанием погибшая во флорентийском пожаре «Битва при Сан-Романо» Леонардо, фрески Мантеньи из Падуи, разрушенные бомбежкой, холсты Рембрандта, поврежденные безумцами. Упорство замысла сильнее житейских бед.
Несовпадение человеческой природы и природы искусства проявляется разительнее всего во время создания картины: художник каждый день подходит к холсту в ином настроении, мысли, несходные со вчерашними, посещают его. Однако перемены не должны оказать влияние на замысел. Картина, только задуманная, уже живет в нераздельном единстве красок, в неколебимости образа. Все, что художник будет делать в дальнейшем, есть служение этому образу. Мелкие заботы, ценители, выставки и заказы могут привести в волнение, которое несовместимо с чистотой замысла. Художник, приступая к работе, должен вернуть себе ровное дыхание: не всплесками эмоций создается живопись. Ровный огонь вдохновения не похож на возбуждение или энтузиазм – это всего лишь следование долгу.
Исполненная таким образом, картина получает заряд стойкости, которого ей хватит на века и который она сможет отдать зрителю. Художник умрет, он будет забыт, картина может быть разрушена, но непреклонное усилие труда и морального решения пребудут навеки. Даже через обломки разрушенной стены, через стертые с холста мазки эта твердость явит себя. Эта твердость и есть живопись. Следует помнить слова, сказанные Лионелло Вентури о портретах кисти Сезанна: «Они прочны, как горы, и крепки, как чистая совесть». Настоящая картина хранит верность не только себе самой – она хранит верность всему настоящему и хорошему, ради чего и была написана.
Сказанное выше ставит вопрос: нужно ли миру искусство, которое пребывает прекрасным, в то время как мир переживает боль и страх? Уайльд рассказывает о грешнике, который пребывал неизменно прекрасным, в то время как его портрет (изначально красивый) менялся. В этой истории искусство под грузом чужих грехов делалось уродливым, а реальный мир пребывал в растленном покое. Однако, по Уайльду, красота искусства обладает большей прочностью: в финале романа портрет возвращается к первоначальному виду, а персонаж – старится и умирает. Можно предположить, что стойкостью искусство наделено ради таких побед.
Однако сутью картины является не торжество, но сострадание, картина не дорожит прекрасными качествами, сияющими среди мерзостей мира. Напротив того, прекрасным своим воплощением картина может пожертвовать – расставшись, если придется, с бренной оболочкой. Прекрасной картина становится не вопреки грехам мира, но благодаря им, ежечасно переплавляя соблазн в стойкость. Заставив однажды художника подавить в себе суету, живопись навсегда от суеты застрахована. С тем большей легкостью она делается жертвой разрушений и предметом спекуляций, что ее сущность выше этого. Картина должна стариться, трескаться, разрушаться. Художнику не следует относиться к своему труду с преувеличенной заботой – что сделано, то сделано, и пусть картина постоит за себя сама. Если картина настоящая – она неуязвима.
Глава 29
Гунны на пенсии
I
Гриша Гузкин затянулся сигарой и сказал: пых-пых! Его обычные собеседники – Эжен Махно, Жиль Бердяефф, Кристиан Власов и Ефим Шухман – посмотрели на Гришу в ожидании реплики. Если человек значительный раскуривает сигару и громко говорит «пых-пых», это верный признак того, что скоро он выскажет некую мысль. Как правило, «пых-пых» предваряет серьезное утверждение и оттеняет его. Масштаб высказывания ощущается в энергичности пыханья. Если реплика имеет бытовой характер, то и пыханье бывает негромким. Однако если мысль обладает философической окраской, то пыханье отличается напористостью и целенаправленностью. Дым выстреливает упругими колечками, и мысль, спешащая следом, появляется, окутанная дымным облаком, подобно ядру или пуле. Гузкин произнес «пых-пых», и взгляды друзей исследовали колечки дыма: какая мысль скрывается за этой завесой? Судя по энергичности пыханья, и мысль последует незаурядная. Гриша медлил, пыхал сигарой, готовил реплику. Так поступал Уинстон Черчилль на парламентских дебатах, когда решалась судьба Запада: знаменитый премьер привлекал к себе внимание курением сигар. Предмет гузкинского сообщения был родствен черчиллевскому. Гриша сказал «пых-пых», стряхнул пепел с сигары, пригладил бородку, постриженную на французский манер, и сказал:
– Идея Европы несостоятельна! – Подобные обобщения услышишь не часто. Не зря друзья-эмигранты прислушивались к пыханью. – Зададимся вопросом, – Гриша в точности воспроизвел интонацию Бориса Кузина и усмехнулся фирменным кузинским смешком: ххе! – зададимся вопросом: та ли это Европа, которую мы привыкли именовать Западом? Когда мы ехали в Европу, мы ехали на Запад, не так ли? Но туда ли приехали, куда хотели? Европа живет вчерашним днем. Покой, – Гриша издал еще один смешок, – грозит перейти в вечный сон, – Гузкин уже опробовал эту речь на Клавдии, незадолго до того – на Барбаре, сегодняшний монолог давался легко. – Сонная Европа выпала из истории – вот и все.
– Инфляция, – сказал Кристиан Власов. – Ввели единую валюту – пусть! Но цены!
– Я был против единой валюты, – заметил Шухман, подняв палец. – Предсказывал в своей колонке в «Русской мысли», чем это чревато! Не прислушались! К моей заметке еще вернутся! Вспомнят Шухмана!
– Квартплата полезла вверх!
– Растерянность! – сказал Ефим Шухман. – В своей статье я сравнил правительство Ширака с правительством Деладье, а кабинет Шредера – с кабинетом Гинденбурга. Вялая политическая мысль, отсутствие лидеров! А угроза растет!
– Какая угроза? – спросил Махно.
– Мусульманство, – сказал Власов. – Давить надо гадов.
– Хватились! Словно раньше мусульман не было. Жарят кебабы, и пусть жарят.
– Раньше, – веско сказал Шухман, – враги цивилизации боялись Запада. Сегодня в наших рядах нет единства!
– Европа стала балластом Запада. В опасности западный проект, – сказал Гузкин. – Если надо пожертвовать Европой во имя западной идеи – что ж, я готов!
Гузкин добавил к сказанному «пых-пых» – как для того, чтобы снизить излишнюю декларативность (интеллигентный человек, он не терпел деклараций), так и для того, чтобы отделить дымовой цезурой существенное сообщение от последующих реплик. «В опасности западный проект!» – то была фраза Бориса Кузина, заимствованная из последних статей культуролога, но то, что для Кузина было игрой ума, Грише явилось в болезненной реальности.
– Что же теперь Европа – Востоком станет? – спросил Махно.
– Давно на Востоке живем, – сказал Власов с раздражением, – алжирцы, турки, негры – не повернешься. Ходим по Парижу, как по турецким баням.
– Закатилась Европа, – сказал Бердяефф печально, – думали, никогда не закатится. А она закатилась.
– Спросите меня, если хотите знать мое личное мнение! Европа не сумела ответить на исторический вызов. Взрывы одиннадцатого сентября стали началом новой эпохи, – подвел итог Шухман. Он уже в трех статьях написал эту фразу. Другие авторы в десятках других статей написали ту же самую фразу, и Ефим Шухман считал, что сделал открытие, которое тиражируют – причем без ссылок – иные издания.
– Падение Берлинской стены, – сказал Бердяефф, – вот начало новой эры. Личность, – Бердяефф выудил из коктейля вишенку, словно личность из толпы, вишенку съел, косточку выплюнул на блюдце и закончил фразу, – обрела свободу.
– Стена варварства рухнула, – сказал Шухман, – но варвары отплатили: взорвали дома!
– Подумаешь, проблема, – сказал Махно, – американцы сами себя взорвали, пусть сами разбираются.
– Как? – ахнул Шухман.
– Сами и взорвали, – сказал Эжен Махно, – больше некому.
– Может быть, сербы? – сказал Кристиан Власов, – КГБ? Не исключаю.
– Это арабы, – сказал Бердяефф.
– А провокацию на немецко-польской границе в тридцать девятом году, – спросил Махно, – поляки организовали?
– Кому еще взрывать? – воскликнул Шухман, – Несомненно, это арабы.
– Вот и я говорю: кому еще, кроме поляков? А некоторые говорят: мол, фрицы переоделись в польскую форму. Я считаю – вранье. Конечно, поляки первые напали на Третий рейх. Поляки подумали и решили: убьем парочку фашистов, насолим Гитлеру. Будет знать, сволочь! В расчет не приняли, простаки, что их страну захватят. Не все до конца рассчитали. Думали, с рук сойдет. А уж когда лагеря пошли – Бухенвальд и всякое такое – тут они видят: маху дали.
– Стыдно шутить в такую минуту, – сказал Ефим Шухман. – Если европеец смеется над американской трагедией – что станет с цивилизацией?
– А что, – сказал Махно, – плакать мне, что ли? Может, гуманитарную помощь в Белый дом посылать? – Махно вывернул совершенно пустые карманы. – С пособия по безработице – пять центов? Сами себя взрывают, сами пусть плачут.
– Ты с ума сошел! Арабы взорвали! Они, изверги! Они, людоеды!
– Арабам какой от этого прок? Их танками давят – вот и вся выгода. Зато Америке хорошо! Раньше – советы наций, конгрессы, съезды! А теперь: никого не спрашивай – валяй, дави кого хочешь! Повод нужен, чтобы законы отменить. Я считаю: правильно сделали, осточертел этот порядок. Туда не пойди, этого не бери, там подпишись, сюда взносы сдай! Воображаю, как американский президент извелся: шагу не ступи без отчета! Это же никакого терпения не хватит! Сидит, небось, на конгрессе ООН, смотрит на какого-нибудь придурка в чалме и думает: вот от этой обезьяны зависят мои инвестиции. Ну сколько можно? Бумажками обложили – чихнуть без разрешения нельзя! Куда ни плюнь – закон! Говоришь, арабы замучили? А налоговые инспектора чем лучше? С безработного три шкуры дерут.
– Не волнуйся, – сказал Власов, – налоги отменять не собираются.
– Зря, – сказал Махно. – Я бы с налогов начал. Если арабов надо прижать – черт с ними, обойдемся без кебабов. Но и налоги надоели. Отменять законы – так все сразу.
– Нравственный закон, – сказал Бердяефф, – неотменим.
– Подумаешь, – сказал Махно, – если остальные отменим, этот тоже куда-нибудь денется.
– Минуточку! Если я правильно понимаю, ты утверждаешь, что была организована провокация, дающая право на войну? Я не ослышался? – Палец Шухмана уперся в Махно.
– Да я не против! – воскликнул Махно. – Давно пора всех мочить, террористы тут ни при чем. А если первыми напали террористы, почему мало народу убили?
– Как это мало? – ахнул Жиль Бердяефф. – Три тысячи душ!
– Проведем расследование, – сказал Эжен Махно. – Террорист выбирает огромный дом, чтобы взорвать больше людей. Если бы он хотел убить немного людей, он бы выбрал ателье или химчистку. Но нужна гора трупов, верно?
– Арабы, – горько сказал Шухман, вложив в это слово много чувства.
– Фашисты, – сказал Власов.
– Зло, – подтвердил Бердяефф, – не знает меры.
– А получается, что именно меру и знает! Взорвали за полчаса до начала рабочего дня, когда здание почти пустое. Если бы подождали полчаса, они бы пятьдесят тысяч угробили вместо трех. Что, трудно посидеть, кофе попить? Скучно ждать, так газетку бы прочли, кроссворд разгадали. Зато – проку от взрыва сколько!
– Какой цинизм!
– Никакого цинизма, просто любопытно. Вот собрались в тайном притоне, карту на столе разложили. Посоветовались и решили: ударим до начала рабочего дня, а то еще убьем слишком много народа. Так получается?
– Если хотите знать мое личное мнение, – сказал Шухман, – у выродков нет логики.
– Идиоты они, что ли?
– Если хотите знать мое личное мнение – да, идиоты.
– Все арабы – идиоты или только некоторые?
– Никто не утверждает, что все арабы – идиоты. И у них существовали достижения в прошлом.
– Путаница получается, – сказал Махно, – если только эти ребята идиоты, то нация за них не отвечает, и бомбить их страны не надо. Если все арабы поголовно идиоты, тогда надо кончать с ними. А если никто не идиот, тогда почему такой глупый план?
– Не такой глупый, – сказал Власов, – результаты есть.
– Вот я и говорю: есть результат! У Америки появилось право всех бомбить. И вот на что ответьте: если до начала войны террористы взрывали дома, почему они ничего не делают теперь?
– Не понимаю тебя.
– Вот, смотри, я – террорист, – Махно примерил на себя несимпатичную маску, – и хочу взорвать людей. Войны с этими людьми нет, просто они мне не нравятся, потому что капиталисты. Не нравятся они мне! Ну, надоело смотреть на эти рожи! Законы всякие, то, се! Надоело! Ладно, взорвал. Но потом война началась, и эти капиталисты убили моих друзей, разбомбили города, порушили дома, прикончили детей. Они мне после этого больше стали нравиться – или меньше? Поводов для диверсий сегодня стало больше, чем раньше. Самое время небоскребы взрывать! Что же они сидят без дела?
– Цивилизация начеку, – сказал Шухман строго.
– Подумаешь! – сказал Махно, – если я захочу взорвать что-нибудь, меня не остановят! Взорву! Нагружу моторную лодку динамитом, разгонюсь – и в статую Свободы врежусь! – и Махно засмеялся; таким же беспечным смехом смеялся его легендарный дед в Гуляй-поле, разряжая маузер в атамана Григорьева, – и взлетит Свобода под небеса!
– Не следует, – Бердяефф сдвинул кустики бровей, совсем как его великий дед, осуждавший произвол и насилие, – не следует покушаться на символ свободы!
– Пожалуйста! Обмотаюсь гранатами, пойду в музей Гугенхайма, потяну кольцо – от ихней культуры ни черта не останется!
Гузкин краем уха ловил разговор друзей, мысли унесли его на недавний вернисаж, где впервые за время его отношений с Барбарой фон Майзель, Клавдией де Портебаль и Сарой Малатеста все три дамы встретились. Грише было о чем подумать, и проблема террористов его не особенно волновала. Фразу о конце Европы и перемещении цивилизации в Америку он сказал лишь потому, что мысль эта определяла его собственную стратегию. Пришла пора решений, и, как бы трудно ни давались эти решения, Гузкин был готов к их выполнению. Что ж, многим великим было непросто: Шагал тоже настрадался в России, пока не нашел в себе мужество отряхнуть ее прах со своих ног. Да, что ни говори, а последовательность поступков иногда сулит бытовые неприятности. Модильяни, тот вообще, кажется, голодал. Впрочем, поправил себя Гузкин, теперь художники не голодают. Проблема в другом, проблема в правильном позиционировании. Гузкин размышлял о непростой комбинации, которая сложилась в его личной жизни, и невнимательно следил за репликами друзей. Другие заботы, непомерно более важные, нежели взрыв небоскребов, поглощали его внимание. Однако слова «музей Гугенхайма» достигли его слуха.
– Попрошу тебя, – сказал он Эжену Махно, – даже в шутку не говорить такого. Взрыв музея Соломона Гугенхайма – самое большое несчастье, какое может случиться.
– Подумаешь! – сказал грубый Махно, – Если взорвут музей, позови меня, я полоски и кружочки за два дня нарисую лучше прежних.
– Не надо так шутить, – строго сказал Гузкин.
– Это не трогай, то не трогай! Непросто быть террористом, я вам скажу! Извольте – я еще план придумаю! Можно взять бруски золота, выдолбить изнутри, начинить пластитом и положить в сейф «Чейз Манхэттен Банка». Каково? Принесу на хранение в банк – все солидно. Нипочем не догадаются! А потом выхожу из банка, нажимаю кнопку, и весь банк – к чертовой матери!
– Где ты столько золота возьмешь? – спросил Власов заинтересованно.
– Не важно.
– Это как раз самое важное. Если у тебя столько золота будет, ты банк взрывать не станешь. Передумаешь.
– Вот самая большая беда, – сказал Махно, – вот в чем проблема. Купили нас, купили, – и он махнул рукой, объединяя в одно и бар отеля «Лютеция», и услужливых официантов, и капиталистический режим.
Разве проблема в этом, думал тем временем Гриша Гузкин, ах, наивный Махно, мне бы твои проблемы. Недавний венецианский вернисаж и то, как сложились мизансцены этого вернисажа, – вот где были подлинные проблемы. Было так.
II
Сара Малатеста явилась на вернисаж, наряженная венецианской аристократкой времен Казановы: шитый золотом жакет туго стягивал ее рыхлые формы, создавал подобие талии на том месте, где (Гриша знал это доподлинно) находился старый дряблый живот; высокий стоячий ворот скрывал короткую шею; распущенные волосы цвета воронова крыла не давали заподозрить о наличии седин; кружевной веер прятал ужасное лицо. Царственной походкой синьора Малатеста прохаживалась вдоль Гришиных картин и посылала Грише из-за веера страстные взоры. Гриша делал вид, что, увлеченный беседой с журналистами, не замечает манящих взглядов: менее всего он хотел быть уличен в связи со старой дамой, неожиданно она ему показалась вульгарной. Еще подумают, что я с ней сплю, ужасался Гриша. Он чувствовал себя молодым и сильным, зал аплодировал ему, будущее виделось ему ясным, и назойливость синьоры Малатеста, напоминавшей о том, что сегодняшним триумфом он обязан поздней страсти этой дамы, досаждала. В конце концов, она неприлично стара, думал Гриша, неужели она сама не понимает, что эти ужимки, томное дыханье и жаркие взгляды – не по возрасту. Один из журналистов, перехватив огненный взгляд Сары Малатеста, пущенный поверх веера, обратил внимание Гриши на эти призывы. Мне кажется, сказал наивный журналист, ваша знакомая ждет вас. Однако Гриша лишь пожал плечами: «Какая знакомая? Ах, эта. Да, припоминаю. Кажется, это госпожа Малатеста. Видите ли, сегодня здесь сотни моих знакомых. И каждому надо оказать внимание, понимаете?» – «Утомительная обязанность хозяина праздника», – сказал журналист. «Ах, не говорите», – сказал Гузкин. Гузкин знал, что наступит вечер, когда ему придется расплачиваться за этот вернисаж, когда он должен будет раздеть Сару Малатеста и прижать ее жирное дряблое тело к своему. Надо будет расстегнуть шитый золотом жакет, одну за другой развязать подвязки, стягивающие живот, и тогда ее старая плоть полезет из одежды наружу, как разварная картошка. Из золотого жакета вывалится ее вялый живот, из шелковых чулок хлынут складки потных ляжек, и Сара Малатеста, тяжело дыша, раскинется на подушках, маня Гришу и требуя ласки. Она будет тискать его детородный орган своими короткими толстыми пальцами, запихивать его в себя, в свое дряблое, склизкое отверстие, потом примется стонать и вздрагивать рыхлым телом, потом захрипит и укусит Гришу за ухо искусственными зубами. И Гриша зажмурился, представив себе это. Он знал, что ему придется выполнить эту невыносимую процедуру и лежать рядом с потной, бурно дышащей Сарой, и слушать ее страстный шепот. Он знал, что это необходимая расплата за сегодняшний день, за то, что эти важные господа и растерянные девушки с большими глазами подходят к нему и говорят, что он, Гриша, – гений, что он принес в мир слово правды и свободы. Однажды, когда он трезво взвесил обстоятельства, он счел, что это, в сущности, небольшая плата за прорыв в цивилизацию. И тем не менее, когда он видел Сару Малатеста, дефилирующую по залу, сужающую круги и неотвратимо приближающуюся, – его охватывал ужас.
С другого конца зала двигалась Клавдия де Портебаль, графиня Тулузская, облаченная в длинное вечернее платье, открывающее спину и плечи. Клавдия не достигла еще возраста Сары Малатеста, и усилия пластических хирургов были практически незаметны. Бриллианты были рассыпаны по ее мраморным плечам, в пышных волосах сверкала диадема. Графиня плыла по залу, как обычно, окружив себя воображаемой стеной: она будто бы не подозревала о присутствии других людей или вещей. Графиня демонстративно не смотрела на Гришу, проходя мимо, не поворачивала в его сторону головы, не улыбалась. Гриша знал, что наутро, после ночи любви с Сарой Малатеста (если удастся улизнуть, не дожидаясь завтрака в постели, – Сара любила, чтобы официанты стали свидетелями ее ночных побед), ему придется спешить в палаццо к Клавдии и вести с ней долгий, душу выматывающий разговор. Завтрак сервируют на веранде, выходящей на Гран Канал, графиня будет говорить отрывисто, поджимать губы, она будет называть Гришу на «вы». Графиня Тулузская не терпела Сару Малатеста, находила ее туалеты крикливыми, аристократическую фамилию – нелепым казусом. «Малатеста? – поднимала брови Клавдия Тулузская. – Отчего же вы стесняетесь именовать ее настоящим именем? Никогда не подозревала в вас антисемитизма. Ротшильды – почтенная еврейская фамилия, и вас, Гриша, такая связь только украсит в глазах родни. Воображаю, как была бы рада ваша бедная матушка. Я слышала, бедные еврейские матери всегда приветствуют поиски богатых невест». И, произнося колкости, графиня Тулузская будет затягиваться крупной кубинской сигарой и ронять пепел на стол. Муж ее, Алан де Портебаль, бросил курить, но Клавдия курила сигары, и это у нее Гриша перенял ряд утонченных приемов – как выпускать кольца дыма, как щуриться сквозь сизое облако, как оттенять реплики пыханьем сигары. Грише стоило большого труда убедить Клавдию, что его с Сарой ничто не связывает. «Это дружба, не более, – говорил обычно Гриша, а его ухо, искусанное искусственными зубами Сары, горело, как всегда горят уши у врунов. – Помилуйте, – говорил Гриша, – уж не подозреваете ли вы, что я ищу богатую невесту шестидесяти лет?» И Гриша хохотал, откидываясь на спинку стула, и бил себя ладонью по коленке, словно бы хотел остановить смех и не мог. Он знал, что так будет и на этот раз, только смеяться потребуется дольше, и слов надо будет сказать больше, и придется пристально смотреть в глаза правдивой графини. Он знал также, что разговор завершится в кровати, и Гриша должен будет показать себя с лучшей стороны. Он порывистым шагом подойдет к Клавдии, словно бы забыв о том, что этажом ниже в палаццо обитает ее муж, Алан де Портебаль. Он крепко стиснет ее плечи, и поцелуем запрокинет ей голову, и постепенно ее губы раскроются, и она ответит на поцелуй. И Гриша будет целовать ее сигарные губы, и, не в силах совладать со страстью, увлечет ее к постели. Хорошо бы выспаться, думал Гриша, впрочем, он знал, что под храп Сары Малатеста уснуть невозможно. Ну ничего, подумал Гриша, справлюсь, сил на Сару нужно немного, с Сарой другая проблема: появилось бы желание. Хоть бы свет она гасила, что ли, старая дура. Посмотришь на эти жировые складки, и уже домкратом член не подымешь. Неужели она не понимает, думал Гриша про Сару с раздражением, что от ее вида не то что член, небоскреб – и тот упадет. Никаких террористов не требуется, думал Гриша, покажи такую Сару Малатеста – и рухнет небоскреб. Ну, не стоит у меня, с отчаянием думал Гриша, не стоит у меня член! Виноват я, что ли?! Разве на такую – встанет?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































