Текст книги "Учебник рисования. Том 2"
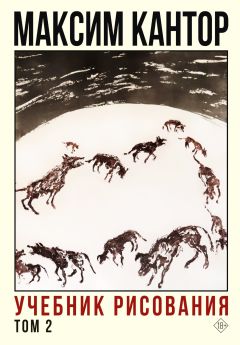
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Грише не пришло в голову, что описание досадного казуса в Венеции могло бы украсить его мемуары. Он испытал лишь обиду, ту острую обиду, которую чувствует человек, не ожидающий удара от близкого. От кого угодно иного – пусть, художник привык выдерживать гонения. Но если близкий тебе человек расчетливо и намеренно причиняет боль – можно ли это вынести?
Три дамы двигались в направлении Гузкина и теперь, наученные первой неудачей, они дислоцировали свои порядки более разумно. Каждая из них двигалась под прикрытием, и каждая выбрала надежного союзника. Гриша печальными глазами следил за их перемещениями; он и раньше знал про существование женской хитрости – сегодня эта хитрость была ему предъявлена. Сара Малатеста, ничем не выдавая своего нервного состояния, веселая и игривая, полной рукой привлекла к себе директора музея Гугенхайма, человека, ради встречи с которым и замышлялся этот вернисаж. Веницианская биеннале – история престижная, но хороша лишь в том случае, если за ней последует вывод – вывод, который должен сделать мир прогрессивного искусства, музей Гугенхайма в первую очередь. Обмениваясь игривыми репликами, двигалась эта пара – директор музея и Сара Малатеста – к художнику Гузкину. Вот директор поднял руку и приветствовал Гришу. Уклониться, спрятаться? Как можно? Гузкин поднял руку и послал ответное приветствие. Из-за венецианского веера блеснули пронзительные глаза Малатесты: теперь он не уйдет. Гриша улыбнулся Саре. Да, иди, дорогая, жду тебя. Спина Гриши под шелковым пиджаком была мокрой от пота.
Барбара фон Майзель шла к нему в сопровождении верного гришиного друга Бориса Кузина. Наивный Кузин, искренне помогавший в отлове клиентов, ждал ответной любезности. Он держал в руках свой знаменитый труд «Прорыв в цивилизацию» и издалека кричал Грише:
– Я привез с собой десять экземпляров «Прорыва»! Барбара считает – самое время для переиздания! В Европе книгу сейчас не поймут, у них кризис – надо отдать в Америку. Может быть, устроим публичные чтения, как считаешь?
Толстокожий дурак, думал Гузкин. Как можно до такой степени не чувствовать ситуацию! Но что взять с Кузина? Всегда думает о себе – этого не исправишь. Гриша улыбнулся и кивнул. Да, иди сюда, дружище, тебя только не хватало.
– Барбара говорит, – кричал Кузин взволнованно, – у тебя связи с американцами?
И Гриша печально кивнул Кузину:
– Познакомлю.
Клавдия Тулузская, держа в руке незажженную сигару, двигалась по залу в окружении российских министерских работников – Аркадия Ситного, Леонида Голенищева, Шуры Потрошилова. Плотные люди в дорогих пиджаках шли сквозь толпу, выдыхая налево и направо алкогольные пары. Верная многолетней традиции, министерская компания разместилась на первом этаже палаццо Клавдии Тулузской, где работники культуры предавались буйным московским кутежам.
– Ага! – вскричал Аркадий Владленович, – вот он, наш герой!
Не было возможности уклониться. Это благодаря их министерскому решению представлял Гриша страну в Венеции, это их подписям он был обязан. А кого еще могли они выбрать, в отчаянии думал художник. Много ли у них гузкиных? Много ли у них художников, увенчанных мировой славой? Вот, смотрите, мысленно сказал Гриша министерским работникам, вот и директор Гугенхайма ко мне приехал! Не ожидали? Вот сейчас я подойду и на ваших глазах с ним поздороваюсь. Да, мне это ничего не стоит, подойду и запросто поздороваюсь! Так и в мемуарах напишу: «Встретились с директором музея Гугенхайм на выставке в Венеции, он прибыл вместе с моей давней приятельницей Сарой Малатеста. Я подошел к ним, обнялись, расцеловались». И, сказав так про себя, Гриша сообразил, что подходить к директору американского музея ему совсем не хочется. Что же это творится, господа? И почему – ответьте, почему – творчество попадает в зависимость от мелких страстей? Зависть и ревность – неужели им позволено уничтожить искусство?
Поравнявшись с Гришей, все три группы произвели передислокацию. Оставив свои эскорты за спиной, дамы выдвинулись вперед. Они одновременно шагнули к Грише, и Гриша отшатнулся – но сзади была стена.
В тот момент, когда Гузкин уже не ждал спасения, спасение пришло. Три дамы приблизились к Грише Гузкину вплотную, улыбками расцвели их лица, и вдруг Гриша увидел поверх их голов четвертую женщину – ту женщину, которая спасет его, которая выручит его из этой отвратительной истории. То была законная супруга Гриши – Клара Гузкина, прибывшая на выставку из Москвы. Как обычно, Гриша отправил ей в Москву приглашение на вернисаж, предполагая, что это лишь формальность, и надо же – Клара приехала! Вот что значит сердце жены, думал Гриша. Говорят, что супруги, прожившие много лет рядом, чувствуют, если их половина в беде. Заботливая Клара! Впрочем, я ей тоже помогал, остудил свои восторги Гриша, не будем забывать – я помогал ей регулярно. Если припомнить, я посылал ей в месяц двести долларов, иногда и триста. Порой я сам был стеснен в средствах. И что же? Я всегда поддерживал ее. Взаимовыручка – вот что это такое. Разумеется, наличие супруги делало претензии любовниц нелепыми: трудно упрекать в неверности человека, который женат и его жена стоит с ним бок о бок. Какая же неверность, простите? Кому неверность? Если бы злополучный маршал Груши не заблудился в бельгийских лесах и вышел вовремя на подмогу своему императору, Наполеон не испытал бы того облегчения, которое испытал Гузкин. Приветливо улыбнувшись в ответ на улыбки подруг, Гриша шагнул навстречу жене. Он церемонно представил Клару всем трем дамам по очереди. «Моя жена, – говорил Гриша, – она приехала из России. Клара Гузкина, мой верный спутник. Клара, помните, я рассказывал про нее? Вот она, приехала! А это Сара Малатеста, Клавдия де Портебаль, Барбара фон Майзель. Познакомьтесь, прошу вас».
И три женщины посмотрели на Клару Гузкину с ненавистью.
– Я мечтал с вами познакомиться, – сказал Гузкин директору музея Гугенхайма. А Борису Кузину он сказал: – Вот моя подруга Сара, посоветуйся с ней по поводу Америки. Сара, это великий философ Кузин. – Министерским работникам он сказал так: – Как долетели? Нашли приличный ресторанчик?
– Мы, как всегда, гуляем у Джанни, – сказал румяный Ситный, – Клава кормит нас завтраком, а обедаем мы у Джанни.
Гузкин беседовал с ними, стараясь не смотреть на дам, пот тек по его спине. Так прошел вернисаж.
VI
– Полагаю, что гуманитарная интервенция, – сказал Кристиан Власов, и его внушительный голос отвлек Гришу от мыслей, – стратегия, необходимая Западу. Хватит с нас полумер.
– Перед нами новый тип гуманизма, если хотите знать мое личное мнение, – сказал Ефим Шухман.
– Гуманизм существует только один, – сказал Жиль Бердяефф. – Новый гуманизм невозможен.
– Но старый требуется обновлять, иначе он развалится. Тебе, антиквару, известно, что вещи надо реставрировать.
– Согласен. Идеи уязвимы, как мебель. Неосторожное движение – и конец! Мне привезли обломки комода. Я отреставрировал – оказалось, вещь эпохи Тюдоров. Какие варвары, – спросил друзей Бердяефф, – обошлись так с уникальной вещью? Поэтому я призываю: будьте внимательны с гуманизмом!
– Гуманитарная интервенция, – пояснил Власов, – помогает сохранить гуманизм в рабочем состоянии. В конце концов, если вещью не пользоваться, она портится.
– А тех, кого спасете, вы спросили? – подал голос Махно, – может быть, им гуманизм ни к чему?
VI
Гриша отвернулся от дискуссии. Тогда, в Венеции, Оскар высказался на тему гуманизма вполне определенно. Подойдя к компании и переведя разговор на общие культурные темы (а Кузин был прекрасным партнером в таких разговорах, и мечта Гузкина соединить двух мыслящих людей осуществилась), Оскар сказал:
– Мы, люди Запада, по природе своей завоеватели, мы, если угодно, гунны и не должны этого скрывать! Зачем же стесняться своей природы? Да, мы воины, мы бойцы! Мы пришли, чтобы взять то, что принадлежит нам по праву. Впрочем, – добавил Оскар, – не следует нас бояться. Гунны сегодняшнего дня – люди цивилизованные. Гунны сегодняшнего дня – люди, вооруженные моральными законами, конституцией. Они ведут войну – но войну за права человека. Гунны сегодня – форпост христианства, авангард в борьбе с варварством. Варвары сегодня – совсем не они.
– Мой друг, – сказал Гриша Гузкин, – написал монографию о варварстве и цивилизации.
– Хорошая, своевременная книга, – заметил Оскар, – Пусть ваш друг пришлет мне ее в отель. Я просмотрю ее и порекомендую влиятельным друзьям, надо, чтобы книга получила признание.
– Я чувствую, Оскар, вызов времени, – сказал Гриша, волнуясь.
– Вы ответили на него, Гриша, – сказал Оскар, указывая на холсты с дебильными пионерками, – вы стали воистину западным художником.
– Я должен был рассказать о варварстве. Именно сегодня, когда цивилизация гуннов в опасности!
– Спасибо за поддержку, – Оскар стиснул локоть Гузкина. – Кстати, о поддержке, – продолжал Оскар, – хочу попросить вас о небольшой любезности, Гриша, – и Оскар задержал руку на руке художника.
– Оскар, я в вашем распоряжении.
– Сейчас я вас рассмешу, – сказал Оскар Штрассер, – хочу попросить в долг.
– Вы, Оскар?
– Вы правы, Гриша, я человек обеспеченный. Но мои финансы вложены в разнообразные проекты, и трогать их я не хочу. И мои, и ваши, кстати сказать, бумаги скоро будут давать огромную прибыль, Гриша, – Оскар махнул рукой в сторону баронов, что продолжали беседовать, прохаживаясь вдоль пионерских линеек кисти Гузкина. – Очень скоро, Гриша.
– Неужели?
– Горячее время, Гриша, исключительно интересные комбинации. Думаю, скоро смогу вас обрадовать. А пока мне нужна небольшая сумма – пустяк, в сущности. Миллион, точнее, два миллиона. Именно эту сумму я обещал вернуть вашему другу.
– Как, Оскар, вы хотите, – разволновался Гриша, – вы хотите, чтобы я за вас расплатился с ним? – Имя Струева не выговаривалось.
– Отношения с вашим другом у меня не сложились, как вы помните. Изъять его акции из обращения сейчас, когда за каждый цент мы получим доллар, – неразумно. Я наблюдал сегодня за вашим успехом, Гриша. Вы продали достаточно, чтобы оказать мне эту маленькую услугу.
Гриша медлил всего мгновение. Он читал в книгах о том, как верные друзья выручают друг друга. Он читал и о том, что разумная экономия на мелочах – например, не переплатить за отель Кузина – сочетается с широтой в крупных тратах. Он читал также, что многие финансисты упускали свой шанс, если не решались на крупные и своевременные вложения. Помимо прочего, этот поступок позволял Грише наконец разговаривать с Оскаром на равных.
– Что ж, – сказал Гриша Гузкин небрежно, – я, пожалуй, окажу вам эту услугу. В конце концов, именно я привел к вам этого разбойника, мне и платить. – Гузкин посмотрел на себя со стороны, выглядело недурно. Глава мемуаров могла бы кончаться так: «Подошел старинный приятель, попросил взаймы два миллиона. Я не смог отказать». – Когда вы думаете со мной рассчитаться?
– Когда угодно, – небрежно сказал Оскар, – скажем, через месяц, вас устроит? Я жду больших перемен за этот месяц. Другой вопрос – как вы предпочитаете получить свои деньги? Хотите, подниму процент вашей прибыли по румынскому газопроводу? Или акции на вертолеты?
– Меня интересует Сибирь, – сказал Гриша солидно. Он слышал разговор баронов и, не вникая в предмет, чувствовал его важность.
– О, наконец в вас проснулись инстинкты завоевателя. Старые инстинкты гунна – поздравляю вас, Гриша.
– Значит, решено. Я возвращаю за вас этот долг – и вы включаете меня в акционеры Сибири. Благодарю, Оскар, и считаю, что провел удачную сделку.
– С вашим чутьем, Гриша, – сказал Оскар, – вы оставите нас, бедных предпринимателей, без штанов. Спасибо за помощь, хотя благодарить и не стоило бы: вы меня грабите.
– Украду еще и совет, – смеясь, сказал Гриша, – Подскажите, что делать. Они все, – и Гриша подбородком указал на дам, – все назначили мне свидания. И думаю, Оскар, это будут неприятные свидания.
– Отчего же, – ответил Оскар, – Выяснить отношения порой полезно. Говорите искренне и требуйте искренности в ответ.
– Думаете, – сказал Гузкин горько, – женщины способны на искренность?
– В обсуждении соперниц – способны, – сказал Оскар. И Гриша, как всегда, убедился в его правоте.
VII
Утро он начал с визита к Саре Малатеста. Венецианские украшения, веер и яркий камзол с вышивкой были разбросаны по гостиничному номеру. С лагуны в открытое окно дул ветер.
– Будьте честны со мной, Гриша, – сказала ему Сара. Она лежала на диване, и полный дряблый живот ее колыхался под халатом, – Наши отношения заслуживают этого. Разве я мало сделала для вас? Разве не доказала свою любовь? Зачем, зачем, Гриша, вам эта Клавдия? Я не спрашиваю о смешной баварской девочке. Как ее имя – Барбара? Отвратительное имя. Но пусть. Вы получили удовольствие – и довольно. Ненавижу ее, вульгарную интриганку, но не скажу ни слова. Вы сами скоро все поймете: молодые особы будут липнуть к вам, высасывать из вас деньги. Разве я не знаю таких авантюристок? Они не стоят слов. Но зачем вам лживая Клавдия? Разве вы не видите, что причиняете мне боль?
– Я считаю себя обязанным Клавдии за то, что она научила меня любить Францию, – дипломатично сказал Гузкин, – согласитесь, что для меня, эмигранта-еврея, было неожиданно оказаться другом графини Тулузской.
– Вы насмешили меня! Какая же она графиня Тулузская, что вы, Гриша! Графов Тулузских в природе не существует, – и Сара Малатеста засмеялась, – Она и не француженка вовсе. Клавдия – младшая и любимая дочь Отто Абеца.
– Кого? – спросил Гриша.
– Клавдия – дочь гауляйтера Парижа генерала Отто фон Абеца. Когда фашисты оккупировали Париж, шестьдесят лет назад, в городе не было фигуры популярнее Абеца. Интеллигенция ходила к нему на поклон: генерал поощрял таланты. Уверена, что современное искусство Франции многим обязано покойному генералу. А какую коллекцию составил генерал! Клавдия показывала вам Шагала? А Сутина? Не всех подряд евреев они сжигали – некоторых выделяли и даже любили. Считают, у Пегги Гугенхайм неплохая коллекция – поверьте, коллекция Абеца много лучше. Но он не француз и совсем не граф Тулузский – это вы, надеюсь, понимаете. Семья генерала укоренилась в Париже. Там родилась дочь. При желании можете считать Клавдию парижанкой.
– Так он фашист? – ахнул Гузкин, а потом добавил: – они фашисты?
Сара развела полными короткопалыми руками.
– Судите сами, Гриша. Я сделала для вас все, что могла. Любовь заставила меня идти на переговоры с музеем Гугенхайма. Любовь заставила меня, Сару Малатеста, выполнять обязанности секретарши. Я не требую ничего взамен, – халат чуть раздвинулся, приоткрыв прелести Сары, но Гриша не внял сигналу, – обратите внимание, я ни слова не сказала о вашей так называемой жене. Знаете почему? Потому что мы с ней люди разных культур. Соревнование меж нами невозможно. Полагаю, вы знаете разницу между русской женщиной, той, что вечно ждет, унижается, просит, – и свободной женщиной Запада. Я всегда жила страстями, не играла с жизнью в прятки. Я говорю открыто: выбирайте, Гриша. Думаю, потребуется много таких, как ваша жена, чтобы сделать одну такую женщину, как я, – и живот Сары затрепетал под халатом.
Гриша выходил из гостиницы «Даниэле» в смятенном состоянии. Он шел через жаркую Венецию и не чувствовал жары города, он смотрел на каналы Венеции и не замечал их красоты. Путь его лежал через мост Академии в квартал Дорсодуро, где рядом с палаццо Пэгги Гугенхайм находилась вилла Клавдии; он проделал этот путь точно во сне. Он прошел холл, поднялся по лестнице, вошел в кабинет графини. Вот картина Шагала, вот Брак, вот Дерен. Гриша поглядел на картины и усмехнулся.
– Нет, не гауляйтером, – ответила Грише Клавдия. – Гауляйтером Парижа был генерал фон Хольтиц. Отто Абец был германским послом в Париже, вот и все. Он любил Францию, курировал французскую культуру. – Графиня Тулузская поискала спички. – Вы не обрежете для меня сигару? Мне известно много примеров, когда внешнее вмешательство спасало культуру. – Графиня посмотрела Гузкину в глаза. – Бывает так, что именно завоеватель спасает культуру завоеванной страны. Тем более что отец не навязывал своего мнения французам, был деликатен. Значит, Сара Малатеста решила меня разоблачить? К сожалению, не могу ответить тем же: рассказывать про Сару безмерно скучно, – сказала Клавдия, раскуривая сигару. – Она не фашистка, она еврейка из семейства Ротшильдов. Оставляю в стороне вопрос, насколько Ротшильды, Гугенхаймы, Рокфеллеры – евреи, в том смысле, какой вкладываете в это слово вы, Гриша. Коллекция Абеца? Да, не хуже, чем у Пэгги Гугенхайм. Шагал, Дерен, Вламинк – у отца был вкус.
– Дерен, Вламинк, – машинально повторил Гузкин.
– Меня всегда удивляло, – сказала Клавдия, – что никто из них не писал антифашистских картин. Немцы опасались, что французское искусство разродится новым Делакруа. Знаете, баррикады, Марианна с голой грудью – то, чего привыкли ждать от их темперамента. Подобного не случилось. Идеологических расхождений не было. Странно, не так ли? Bizarre, как говорим мы, французы.
– Да, – сказал Гриша, – странно.
– Их картины не раздражали отца. Экспрессия фовистов была ему близка. Он обожал французскую живопись, дружил с Дереном; оба любили кальвадос. – Клавдия затянулась сигарой.
– Пикассо написал «Гернику», – сказал Гриша зачем-то.
– Да, Пабло мог себе такое позволить. Был на особом положении. Впрочем, это касалось не нас – картина посвящена Испании. Даже не Испании, но Басконии. Бывали в Басконии?
– Во французской части.
– Биарриц? Чудное место, особенно в мае.
– Я был в апреле, – сказал Гриша, – мне понравилось.
– Большие волны, длинные пляжи, люблю этот край. Мы с вами должны как-нибудь съездить в Биарриц. Остановимся не в центре, снимем дом на побережье. Вы пробовали писать море?
– Я давно хотел написать море.
– Воображаю, как вы это сделаете. С вашим синим цветом.
– Я давно собирался.
– У Дерена есть несколько превосходных холстов с морем. Может быть, у него в семье были рыбаки? Иначе откуда такое чувство бесконечной синей шири? Хотя моя мать предпочитала вещи Бальтуса. Помните марины Бальтуса сороковых годов? Впрочем, Бальтус писал Средиземное море. Отец был один из первых, кто его открыл.
– Вот как, – сказал Гриша.
– Вы считаете происхождение нашей коллекции бесчестным? Мы аккуратно платили за картины – деньгами. А Пегги брала картины в обмен на жизнь.
– На жизнь? – представления Гриши о добре и зле были поколеблены.
– Пегги вывезла художников в Америку – спасла от войны. Жизнь – это товар, Гриша, многие ее ценят. Художники расплатились картинами. Некоторые расплатились также услугами в постели. Это тоже валюта, не правда ли?
Снизу, с первого этажа палаццо, доносился шум – работники министерства культуры предавались обычным своим развлечениям: пили, пели матерные частушки, плясали. Вот дрогнули балки старого дома: то Шура Потрошилов пошел вприсядку.
– А как платила Сара Малатеста? – спросил Гриша.
– Советской нефтью. Судоходная компания, зарегистрированная в Либерии: коммунистическая верхушка держала эту верфь с шестидесятых. Транспорт нефти из Советского Союза времен Хрущева и Брежнева – захватывающий бизнес.
– Либерия, – повторил Гриша Гузкин, нетвердо знавший географию. Города и страны он запоминал, только если там бывали выставки и он летал на вернисаж. В Либерии выставок пока не было.
– Да, Либерия. Оттуда Советы вели дела с Онасисом и другими держателями морских путей. Те Ротшильды, к которым относится Сара, были посредниками в сделках советского правительства при торговле нефтью, оружием, кораблями. Сара с мужем не раз посещали Москву, жили в «Метрополе». Диссидентов, впрочем, не защищали – были иные интересы.
– Она не говорила, что бывала в Москве, – сказал Гриша.
– Разве? – Сигара полыхнула в губах Клавдии. – И про дружбу с Андроповым не упоминала? И про генералов КГБ, что отдыхали на ее вилле в Сардинии, тоже не говорила? Вероятно, случая не было. Позже она продала эту виллу – кажется, кому-то из русских олигархов. Какому-то чеченцу.
– Левкоеву, – сказал Гриша Гузкин. – Вилла принадлежит Тофику Левкоеву, бандиту. Меня звали отдыхать на эту виллу.
– Почему не съездить? Не исключено, что там вы напишете свою марину. Я не корю вас за Сару Малатеста, Гриша. Ревновать к пожилой еврейке не получается, увольте. Даже воображать не стану, что вы переживаете в ее постели. Вероятно, это мучительно, и мне вас жаль. Но что мне неприятно, Гриша, – это ваша связь с вульгарной девушкой из Баварии. Антропософка с небритыми подмышками – как вы себе такое позволяете, Гриша?
– Мне дорога Барбара, – сказал Гриша, который решил идти до конца. – В годы, когда мое искусство было под запретом, когда на меня была объявлена охота – в те годы она помогла своей любовью.
– Неужели?
– Фон Майзели искренне любят Россию.
– Согласитесь, это любовь по расчету.
– Контракты отца? Барон не только берет – он больше отдает. Барон финансировал Открытое общество, он спас полотна русского авангарда. Барон – пацифист. Во всяком случае, он не был на русском фронте.
– На русском фронте не был. Но именно фон Майзель разбомбил Гернику.
– Гернику? – ахнул Гриша Гузкин, – Неужели Гернику?
– Да, Гернику.
Барбара рассмеялась, когда Гриша рассказал ей об этом трагическом факте. Гриша решил начать атаку первым, не дожидаясь упреков в ветрености. Он сказал, что ему известно про Гернику все.
– Это вы сделали! – воскликнул Гриша с интонациями Пикассо.
– Что сделали? – вскипела Барбара. Гриша приготовился наблюдать сцены раскаяния, но Барбара гневно посмотрела ему в глаза и стукнула ладонью по столу. – Что знаешь ты, Гриша, о бомбежке Герники? Лететь в туман над горами, лететь сквозь сплошной зенитный огонь – не тебе судить о том, что испытали эти люди! Разве ты пережил подобное?
– Твой отец должен был рассказать о своем прошлом.
– Бомбил не он, – ответила Барбара, – бомбил дедушка Генрих фон Майзель. Гернику разбомбил легион «Кондор» – дедушка был в легионе вторым человеком после фон Шперле. Папа всю жизнь жалел, что был тогда слишком мал. Он был ребенком, но бредил Испанией. Видишь, как просто тебя обмануть. Тебя все обманывают, твоя жена – в первую очередь.
И Гриша выслушал историю о том, что жена его долгие годы сожительствует с германским советником по культуре Фергнюгеном. Слушал и – странное дело – почти не удивлялся. Мелькнула мысль: а я-то снабжал ее деньгами – глупец! Но и эта мысль не задержалась. За день Гриша Гузкин узнал столько, что удивить его стало трудно. Измена жены лишь добавила несколько новых штрихов в картину, которая и без того была переписана снизу доверху. Он вглядывался в холст своей жизни – и не узнавал его. Еще вчера мнилось, что холст пишется его собственной волей, что он сам создал эту картину. Оказалось, имеется иной автор.
VIII
Гриша вернулся в гостиничный номер, упаковал чемодан, уехал в Париж. Сегодня он сидел с друзьями в баре «Лютеции». Он поделился с ними открытием – рассказал о гигантском обмане под названием «европейская цивилизация». Думаете, только Потемкин пускал пыль в глаза? Наивные! Они не услышали его: в парижской компании реальные события делались поводом для пустых прений. Подлинная проблема стояла перед Гришей. Определенный этап жизни завершен, венецианская выставка подвела черту в его одиссее. Вернется ли он в Европу, стоит ли Европа того, чтобы в нее возвращаться? Гриша курил сигару, сизые кольца дыма выстреливали в потолок. Надежная структура отношений, та, что поддерживала его в этом мире, – рухнула. Требовалось начинать новую главу. Хватит ли сил? Столько энергии, сколько отдал он для того, чтобы пройти долгий творческий путь, уже не накопить. Годы не те. Он думал о том, что искренность не вознаграждается. Да, история жизни была не проста, он не притворяется святым. Но все, что он делал, он делал с открытой душой. Оказалось, что его партнеры вели двойную игру, – вот как обернулось. Он доверился, его обманули – так бывает. Или это сказалась европейская природа его знакомых, природа захватчиков? Жестокое семейство Майзелей, и последняя в роду – потомок фашистских легионеров! Лицемерная Клавдия – фальшивая графиня с накладным задом, достойный отпрыск оккупантов! Расчетливая Сара Малатеста, отмывавшая деньги русской ГБ! Зачем обманывали они меня? Гриша спросил об этом и Барбару, и Клавдию, и Сару, спросил саркастически. Вы запутались в собственном вранье, сказал он своим возлюбленным, ради чего этот маскарад? Европа! Ха-ха! Клубок змей! Ваши европейские традиции – это мираж, фразы о европейской чести – блеф. Ваше прошлое – клоака, вы тонете в своем грязном прошлом! Рассудок его помутился, слова срывались с губ сами собой. Фашисты, палачи, спекулянты! Он высказал им это, встретил прямой взгляд Барбары, холодный взгляд Клавдии, горящий взгляд Сары. Они не раскаялись, нет. «Моя семья сражалась за свободу Европы, – сказала ему Барбара, – что знаешь ты, Гриша Гузкин, о судьбе Европы?» Впервые она произнесла его имя презрительно, показывая, как жалко это звучит – Гриша Гузкин. «Вы не поняли западную женщину, Гриша, – сказала ему Сара, страстно дыша в его сторону, – вы не поняли Запада!» «Вы полагаете, Гриша, что вам стало все ясно, – сказала ему Клавдия. – Вы считаете, что я не графиня Тулузская, а себя полагаете жертвой интриги. Какая глупость. Тулуза – мой дом, и я графиня. Другой графини Тулузской не существует. Я взяла этот титул по праву. Ступайте прочь». Вот и все, что сказала графиня Тулузская Грише. Боже мой, думал неверующий Гриша, Боже мой, Господи, посоветуй, куда идти? Моя семейная жизнь, моя нелепая семейная жизнь, которую я тщился сохранить. Мучился, переживал из-за своей неверности Кларе. Смешно. Коварная Клара! Все смешалось в его сознании. Что, если Клара все же любит его? Если баски сами виноваты? Хорошо или плохо иметь виллу на Сардинии? А вдруг Клавдия все-таки графиня? Если Европа – обман, то значит ли это, что правда – в России? И, может быть, все это не имеет значения? Что-то требовалось решить, решить твердо и четко. Гриша отхлебнул виски. В мемуарах он напишет так: сидел с друзьями в баре гостиницы «Лютеция», пил виски, думал. Я принял в тот вечер необходимое решение. Какое решение? Гриша решения не знал, и договорить фразу у него не получалось.
30
Всякий образ допускает четыре уровня толкований и сохраняет цельность на любом из этих уровней. Изображенный предмет может восприниматься и непосредственно как данный предмет (т. е. буквально), и как выражение определенного образа жизни (т. е. аллегорически), и как обобщение опыта времени и общества (т. е. символически), и как метафора бытия (т. е. метафизически). Эти прочтения существуют в изображении одновременно, более того, всякое следующее толкование присовокупляется к уже существующему, дополняя, но не отменяя его.
Например, изображение окна дома прежде всего показывает конкретное окно, то, как это окно сделано, его раму и стекло. Это изображение также рассказывает о жизни людей в комнате за этим окном. Подробности изображения помогут узнать больше об этой жизни. Изображение окна есть также обобщенный образ определенного места (города, страны, социального слоя). Детали изображения являются характеристикой не только жизни конкретной комнаты за окном, но и всей эпохи. Также изображение окна является метафорой входа в иной мир, возможностью проникнуть за преграду, увидеть свет бытия.
Фома Аквинский говорит о четырех уровнях толкования образа (символический уровень он называет «анагогическим»), возвращается к этой мысли и Данте в «Монархии». Любопытно, что метод анализа образа может быть как восходящим – от буквального прочтения к метафизическому, так и нисходящим. Очевидно, что образ, явленный в иконе (например, образ девы Марии, изображенный Дуччо), проживает четыре уровня своего существования, снисходя от метафизики к реальности, спускаясь по ступеням вниз – от обобщения до конкретного человека, что, собственно, и соответствует принципу обратной перспективы. В сущности, можно представить себе и вполне реальную женщину с чертами лица, нарисованными Дуччо, но это не первое, что приходит в голову. В то же время точильщик ножей, изображенный Гойей, воспринимается прежде всего как буквальный портрет, уже потом как обобщенный образ ремесленника, потом – как согбенный заботой испанский народ и в конце концов – как Хронос, точащий свои ножи. Его образ действительно перекликается с гигантами, Хроносом и парками, написанными Гойей много позже, но в картине «Точильщик» на первом плане находится конкретный человек.
Любопытно в данном случае следующее. Легко примириться с тем, что крестьянка чертами своего лица копирует светлый облик девы Марии, но принять то, что Хронос воспроизводит черты точильщика из соседнего двора – непросто. Впрочем, мы легко примиряемся с тем, что носим красное и синее – цвета Спасителя, что наполняем вином рюмку, напоминающую формой Грааль, что дорога идет в гору – и не думаем при этом о Голгофе.
Структура изобразительного искусства затем и придумана, чтобы собрать воедино разнесенные во времени и по величине фрагменты бытия. Наша жизнь символична сама по себе – и не искусство сделало ее таковой. Картина лишь призвана напомнить, что всякая деталь нашего быта неизбежно становится событием, и нет случайной истории, которая не участвовала бы в общей мистерии.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































