Текст книги "Убей свою любовь"
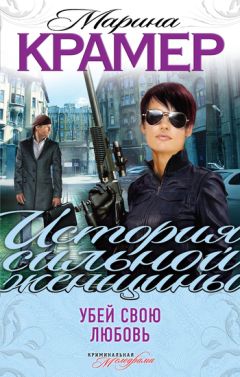
Автор книги: Марина Крамер
Жанр: Остросюжетные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
* * *
«Я никогда не верил в существование понятий «любовь—ненависть». Это когда любишь до остановки сердца и точно так же ненавидишь. Оказывается, я был не прав – так бывает. Меня разрывает пополам. Хочется владеть ею – и убить. Наверное, высшим счастьем для меня было бы видеть, как она умирает. Смотреть на агонию и задыхаться от любви и сострадания. Но тогда почему я сейчас испытываю только боль, зная, что она на грани жизни и смерти? Почему меня тянет туда, к больнице? Я послал туда своих людей – и был рад, что они не смогли убить ее. Как же это странно – одной рукой указывать направление убийцам, а другой набирать номер ментов. Так тяжело стало жить».
* * *
«Ну вот – наказал бог кадушку. Сердце слабое оказалось, гляди-ка. А если бы не она – отец меня любил бы, признал бы. Кладбище – отличное место для сведения счетов. И Саймон никуда не делся, помог, отвлек водителей. Да только вот товар оказался порченый – рвануло раньше времени. Что-то много осечек стало».
* * *
«Если я когда-нибудь сойду с ума, то только Саша будет виновата. Я никому еще не желал смерти так сильно, как ей, и никого так сильно не любил. Никакие женщины меня не привлекают, как бы я ни старался приблизить их облик к ее облику. Я избегаю высоких блондинок, подсознательно останавливая взгляд на миниатюрных брюнетках и шатенках, а кудри делают их еще более привлекательными в моих глазах. Даже то, что сейчас она стрижется почти наголо, делает эту женщину только желаннее. Как я ненавижу ее мужа… Смешно – я сделал мишень из его фотографии и каждый день расстреливаю это лицо. Каждый день я убиваю его образ, но никак не могу решиться убить его самого. Я трус? Нет! Я не могу причинить ей боль… И я хочу этой ее боли, как ничего не хотел прежде. Я хочу, чтобы у нее не осталось выбора – только я. И тогда…»
* * *
Я отвлеклась от чтения и закурила очередную сигарету, с опаской покосившись на спящего мужа. Господи, что творилось в голове несчастного Реваза, оказывается… Неужели он действительно настолько любил меня, что спятил? Или это произошло раньше – когда он пытался повеситься на нашем заборе? Ведь возможно, что мозг, лишенный кислорода, претерпел изменения – достаточно ведь всего нескольких минут. Мозг – самый уязвимый орган, мне ли не знать? Странно, но я чувствую себя виноватой в том, что произошло. Я действительно убила его – но гораздо раньше, а не сегодня на чердаке больничной прачечной. Убила отказом. Но что я знала об этом тогда, четырнадцатилетняя соплюха, как могла предвидеть? И если бы могла – то что? Ради спасения жизни Реваза должна была бы пожертвовать своей? А какая, в сущности, разница? Столько смертей… Слава, Семен, моя охрана… Ненавижу его, даже мертвого.
Я долго смотрела на лежащие передо мной листы и не решалась снова взять их в руки. Мне казалось, что если я не буду читать дальше, то все плохое само собой забудется и исчезнет, как и не было. Будут живы мои братья, не окажется в наркологии Юлька, у них со Славкой родятся дети, и папа наконец получит долгожданных внуков. Семен сможет не скрывать свою ориентацию, мы будем собираться за столом всей семьей… Если бы можно было отмотать все назад…
* * *
«Я, кажется, нашел, как и чем можно зацепить ее. Осталось только продумать детали – а дальше ей просто некуда будет деться. Решено – я просто куплю пару людей в охране ее отца и мужа. Страх за близких – самый действенный способ влияния на человека. Заставь родителей бояться за детей, жен за мужей и наоборот – и все. Дело сделано. Этот страх будет держать на коротком поводке, заставлять жить в постоянном ожидании чего-то ужасного. У Саши нет детей, но есть два человека, за которых она готова на все – отец и муж. Знала бы она, что ни один из них не близок ей по крови…»
* * *
Последняя оговорка про кровь напрягла меня – уже во второй раз в этих записях. Что-то еще шевелилось в голове. Да, точно! Папа часто, забывшись, выдавал что-то подобное. Но почему? И что все это значит?
За моей спиной чуть скрипнула кровать. Я встрепенулась, отбросила листы и подошла к мужу. Он проснулся, и я заметила судорогу боли, чуть исказившую здоровую половину его лица.
– Хочешь, укол сделаю? – поправив подушку, спросила я, но он, закусив губу, процедил:
– Нет. Боль нужно вытерпеть – только так ее можно преодолеть.
В этом ответе, собственно, я не сомневалась – многолетними тяжелыми упражнениями мой муж закалил себя, а потому такой пустяк, как болевые ощущения, не сломают его. Дух – это главное, даже тело тут ни при чем – оно намного слабее. Если человек способен обуздать дух, то усмирить тело вообще не проблема.
– Я знаю, родной. Спросила на всякий случай, – виновато проговорила я, опустившись на колени и прижавшись к его руке щекой. Он сделал неуловимое движение, и мое лицо оказалось в его ладони, как в лодочке. От нее исходило тепло – родное и привычное, знакомое мне уже много лет. И мне показалось, что Сашкина внутренняя сила переходит ко мне, и я справлюсь со всем, что предстоит. Абсолютно со всем – потому что он рядом, и он даст мне силу.
Мне не спалось. Листы, привезенные Маросейкиным, так и лежали на подоконнике и словно гипнотизировали меня. Убедившись, что Сашка уснул, я тихонько встала, сгребла их в кучу и пошла вниз. Камин горел, около него в кресле сидел папа с неизменной алюминиевой кружкой.
– Ты чего бродишь? – пробурчал он, делая глоток.
– Да так… – Я бросила записи в камин, и пламя облизало их со всех сторон, превращая в тонкие ломкие кусочки.
– Что это?
– Так… записки сумасшедшего.
У меня внезапно вспотели ладони, а в голове созрел вопрос – выкристаллизовался до последней буквы. Медленно разогнувшись, я встала перед отцом во весь рост и напрямую спросила:
– Папа, а какая группа крови была у мамы?
– Третья, – буркнул он.
– А у тебя?
– Вторая. Зачем тебе?
– Забавно просто. А у меня вот почему-то первая.
Я внимательно следила за выражением его лица и могла поклясться, что в какой-то момент уловила в нем намек на тревогу.
– Ну, мало ли как бывает.
– Не бывает, папочка. – Я села на подлокотник второго кресла и продолжила: – Понимаешь, не бывает. У меня может быть либо вторая, либо третья. Но первая – никак. Ты забыл, что я анатомию преподавала и институт окончила? А эта информация вообще из учебника биологии по школьной программе. Ты ничего не хочешь мне сказать, папа?
Не знаю, откуда во мне зародилось это подозрение. Про кровь я знала и раньше. Когда я лежала после операции и попытки вскрыть вены, срочно нужно было переливание, и ни кровь отца, ни кровь братьев не подошла. Я слышала потом разговор ночных медсестер – мол, девочку-то нагуляли где-то. Одна из сестричек тогда возразила – мол, может, в маму, на что тут же получила ответ – а как тогда братья? У одного вторая, у другого – третья, а у нее – первая? Тогда, будучи в полной прострации и не совсем вменяемой, я не придала значения этим словам, а потом и вовсе о них забыла, но сегодня, прочитав дневник Реваза и припомнив папины частые оговорки, решилась спросить.
Папа молчал. Мне показалось, что он вспоминает что-то, и эти воспоминания ему неприятны. Но я должна – обязана узнать правду, мне именно сейчас это важно.
– Папа, что же ты молчишь?
– Тут не раскричишься, Саня, – вздохнул он. – Не думал, что это когда-то всплывет, все сделал, чтобы не всплыло – а гляди ж ты…
Он допил чифир и отставил кружку, полез за «Беломором», с которого так и не перешел на более цивильные сигареты.
– Усыновили мы тебя, Саня. Было тебе в то время четыре с небольшим. Худющая, вертлявая, как детеныш кикиморы, кудри спутанные так, что в две расчески разбирали с матерью. А говорила так чисто, будто по книге. Стихи, помню, все читала. Заберешься на стул – и давай поливать.
Не скажу, что эта информация меня убила или шокировала – наверное, за последние несколько дней меня уже мало что могло удивить. Поразило другое – меня не просто усыновили, меня считали родной в этой семье и воспитывали, как свою. Папа воспитывал. Теперь мне была понятна даже мамина холодность – редкой женщине, имеющей собственных сыновей, удается полюбить приемного ребенка, да еще с таким характером, как у меня.
– Но… зачем? Ведь у тебя были дети…
– Были. Случай, Саня, все случай решил, хотя говорят, что не бывает такого. Я как-то мимо интерната шел, Семку со Славкой в кино вел, как раз вернулся недавно с отсидки, воспитанием занимался, – в голосе отца мелькнула горестная и вместе с тем ироничная нотка. – Идем, значит, а на улице интернатские гуляют. Все как на подбор – пальтушки серые, шапки цигейковые, ботинки коричневые, и где пацан, где девочка – не отличишь. И гуляют строем – ну, чисто на зоне, разве что номеров не хватает. Вынул я пачку, остановился прикурить, а Славка, паразит, камень хвать – и в ограду. Я к нему – мол, сдурел, паразит, что делаешь? И тут у меня мимо уха камень свистит – и Славке прямо в нос. Ну, тот в сопли кровавые, в слезы, а я повернулся и вижу – стоит девчонка, на щеке синяк наливается, а слез нет. Видно, что кривится от боли, а не плачет. И второй камень в руке сжимает и замахивается. Славка кричит – дура, мол, бешеная! Я как с цепи сорвался – врезал ему по затылку, гнида, говорю, ты домашняя, живешь в тепле – в достатке, а девчонку, у которой ни отца, ни матери, камнями бьешь? – Отец вздохнул, сделал глубокую затяжку. Я затаилась на своей неудобной жердочке, подобрала только ноги в кресло – замерзли, и, натянув на колени пижамную рубаху, ждала продолжения. – А тут воспитательница налетела, лошадь крашеная, губы бантиком, бровки домиком, да как тебя за шиворот пальтушки ухватит – и ну трясти. Мол, замучила ты меня уже, отродье, как ни прогулка, так в драку. И мне – извините, мол, гражданин хороший, мальчика вашего наша хулиганка побила. Меня и смех распирает – мальчику-то уже за десять годочков давно минуло, бестолковый придурок, и зло берет – ну, как ребенка можно так-то – и без того обездоленного? Ну, я ей через ограду и сказал… пару ласковых. Ушли мы домой, Славка всю дорогу гундосил, а Семка вдруг говорит – папа, а давай этой девочке завтра конфет отнесем? Им ведь там не дают, наверное, а девчонки сладкое любят. Ну, и завертелось. Так вдвоем и ходили – он да я. Ты дичилась сперва, не брала. Потом пообвыклась, улыбаться начала, как заметишь. – Папа бросил окурок в камин и взял новую папиросу. – А потом я как-то вдруг понял, что ты мне уже родная стала. После Нового года ты заболела, так мы в больницу к тебе ходили, доктор даже думал, что я отец. И ты ведь однажды всерьез меня папкой назвала… – Его лицо озарилось виновато-счастливой улыбкой. – Я пришел к тебе, а вас, детдомовских малявок, в игровую комнату вели. И пацан какой-то хвалился, что его вот-вот заберут папа с мамой. А ты вдруг насупилась, остановилась и говоришь – врешь ты все, Колька, нету у тебя никого, а у меня вот папка есть и братики. И меня тут увидела, на шею кинулась – папка, папка пришел… – смахнув навернувшиеся слезы, папа продолжил: – И начал я тогда красавицу свою уламывать. А она говорит: ну, положим, я соглашусь – но кто тебе, судимому, ее отдаст? Ох, вскипел я – полные дома сирот, девать некуда, а тут за «синьки» могут не отдать? Бесо помог тогда, нашел человечков, они все и сделали.
– Выходит, ты меня на детской барахолке купил? – невесело усмехнулась я. – Кто-то сдал за ненадобностью, а ты приобрел?
– Дура ты! – грустно бросил папа. – Да за какие деньги можно купить то, что в душе-то? В сердце? Оглянись кругом – ты ведь одна мне родная-то и была в жизни. Чужая кровь – а лучше своей, ближе. Родные сыновья продали – а ты только вытаскивала да помогала. И всегда при мне была, как бы хорошо или плохо ни было в жизни. Их похоронил вот – а ты рядом. Они, гниды кровные, за деньги меня наркошам сдали, а ты, чужая вроде, готова была за меня глотки грызть – и за них тоже, кстати.
Мы помолчали. Я все старалась услышать внутри какой-то звук, знак, говоривший бы мне о том, что я испытываю, узнав правду, но нет – все было тихо. Ничего не изменилось. Он мой отец, я его дочь – что может ухудшить разговор о каком-то удочерении? Папа меня любил по-настоящему, и это не было пустым звуком или показным баловством. Он воспитал меня так, как сумел, и не самый худший вышел результат.
– Ты это… если мать-отца захочешь найти, так там, в сейфе, папка лежит в полке, под бумагами. И адрес есть, и места работы – ну, если еще работают там, конечно. – Папа вздохнул, а я искренне удивилась:
– А зачем? У меня один отец – ты. К чему мне встреча с каким-то Петром Ивановичем Тютькиным-Пупкиным-или-как-его-там? Сказать спасибо за то, что зачал и в детдом спихнул? Или хозяйство отстрелить, чтоб больше не чесалось? Ну, глупо ведь, папа. Ты мой отец, мой настоящий отец. Зачем мне кто-то еще?
Я села на пол у его ног и положила голову на его колено. Дикое дело – мой папа плачет… Плачет такими искренними слезами, что мороз продрал по коже.
– Ты что же… боялся, что я буду их искать? Папа…
– Ты знаешь, Санька, а ведь какая странная штука душа… прикипел к тебе – не оторвать, и все боялся, что кто-то тебе расскажет, а ты и кинешься – родные все-таки.
– Тю! Таких родных знаешь куда надо? Ага, вот то-то! Все, пойдем спать, я что-то совсем уже…
Встав с пола, я потянулась и сказала:
– Мне бы теперь Сашку поднять.
– Он сам поднимется. Совсем обгорел теперь твой Акела.
– Ой, ерунда, мне неважно – лишь бы живой, здоровый и мой.
– Да? – вдруг лукаво усмехнулся отец. – А как же твой качок в блестящих стрингах?
Я чуть не упала от такого заявления. К лицу прилила кровь, и стало жарко-жарко, как в парной.
– Кто?! – не совсем натурально удивилась я, и папа хмыкнул:
– Ой, да не юли, Сашка, давно уже все знаем, и я, и Акела.
С ощущением, что мне врезали под ложечку, я опустилась в кресло и жалобно посмотрела на отца:
– Ты шутишь?
– Ни грамма. У тетки твоей Сары шпионская сеть почище ментовской, все пронюхала и донесла, едва ты в самолет села.
– И Акела все это время… знал?!
– Знал. Но он же не дурак, чтобы по такой ерунде воспаляться. Погуляла – и ладно.
Щеки мои горели, как бумажные маки на первомайской демонстрации. Какой позор… муж знал, что я переспала с каким-то стриптизером, и молчал…
– А что он тебе должен был сказать? Ай-я-яй, нехорошо? Ты и сама знаешь. Поехать и порвать его там на сто пар стрингов? Не для Акелы – так низко падать. Так и сказал – мол, было и было. Надо же ей с чем-то сравнить.
– Фу, папа, хватит! – взревела я и побежала к себе, сопровождаемая отцовским смехом.
* * *
Документы о своем удочерении я все-таки прочла, но скорее просто из любопытства, чем из желания узнать, кем были мои настоящие родители. Вполне благополучная семья, и женаты были, когда я родилась, и работали оба. Но в отказном заявлении, написанном моей маменькой Ириной Антоновной, значилось: «Не имею материальных возможностей для содержания и воспитания ребенка». Очень смешно – зубной техник и инженер-технолог на предприятии в то время не могли содержать ребенка, имея даже отдельную квартиру. Но папа пояснил, что собирались эти товарищи в длительную загранкомандировку, и я им там была совсем не нужна. Вот так – родили и отдали, чтобы не мешала деньги копить на автомобиль «Москвич». Дай им бог здоровья…
Больше я никогда не возвращалась к разговору о настоящих родителях, словно их и не было вообще. Это не они меня – это я их вычеркнула. У меня есть отец – пусть не самый законопослушный гражданин, зато ему я нужна.
* * *
Я стала много времени проводить с мужем, потому что больше меня никуда не тянуло, а забота о нем доставляла удовольствие. Окрепнув, он стал подолгу рассказывать мне какие-то увлекательные и интересные факты из самурайских преданий. Я слушала, боясь перебить, и понимала, что Акела в своей стихии, и все, что о нем говорят, неправда – он вот такой, спокойный, увлеченный и ни капли не жестокий. Сложись его жизнь чуть иначе – мог бы стать преподавателем, например. Мне казалось, что это бы ему очень подошло – никогда прежде я не встречала людей, способных настолько заинтересовать и заставить проникнуться их увлечениями.
Однажды я решилась и рассказала ему о том, что узнала от отца. Акела долго молчал, поглаживая мою руку пальцем.
– Знаешь, малышка, необязательно быть родными по крови, чтобы чувствовать родство. Фима вот не обращал на это внимания.
– Ты… даже не удивился? – медленно проговорила я, и он вздохнул:
– Я это знал с того момента, как женился на тебе. Еще до свадьбы Фима меня к себе вызвал и объяснил, что к чему. Да еще и пообещал – сама понимаешь, что и за что.
– И ты знал и даже не намекнул?!
– А зачем, Аля? Что это меняет? Мне неважно, кто твой отец на самом деле, тебя Фима воспитал. И потом – ну, тебе ли задавать подобные вопросы, когда столько лет ты ухитрялась сохранять в тайне все, что знала о Семене? А ну как спрошу – почему не поделилась со мной? – Он улыбнулся, насколько позволяло обожженное лицо, покрытое коричневой коркой. – Так что не только ты умеешь хранить чужие секреты, Аленька.
* * *
Когда Саша смог выходить на улицу, мы часто бродили по двору и наслаждались тишиной, покоем и обществом друг друга.
– Мне нужно было взорваться в машине, чтобы стать ближе к собственной жене, – шутил он, а я была просто рада, что он ходит, двигается, разговаривает, что он спокоен и ничем не озабочен, как бывало.
И как-то тихим мартовским утром Сашка вдруг произнес то, о чем я думала с того самого дня, как узнала правду о себе.
– Аленька, а как ты думаешь, мы с тобой могли бы…
– Что?
– Мы могли бы взять ребенка из детдома? – И я едва не задохнулась от очередного доказательства его любви и понимания.
– Мы могли бы подумать, – пробормотала я, пряча слезы.
* * *
Счастье – оно напоминает по цвету радугу, оно переливается и искрится, оно источает сладкий аромат первой клубники и нежных цветов. Именно такое ощущение возникло у меня, когда я вышла из машины и замерла на крыльце детского дома. Сегодня исполнится мечта моего мужа – он станет отцом. Нашу дочку зовут Соня, это кудрявая шатенка с распахнутыми карими глазами. И она не испугалась, когда впервые увидела Акелу. Сашка не хотел сначала подниматься в огромный зал, где нам предстояла встреча с девочкой, и я в душе понимала его опасения, но все-таки настояла на своем, и мы пошли вместе. Девочка смущенно топталась на одном месте и не решалась подойти ближе, но потом, когда Акела присел на корточки, вдруг рванулась и побежала к нему. Остановившись в шаге, она спросила, чуть картавя:
– Можно, я тебя потрогаю? Ты настоящий?
– Потрогай, – улыбнулся он, и девочка крошечным пальчиком дотянулась до его щеки.
– Настоящий, – удовлетворенно кивнула она и побежала в группу, крича на ходу: – А мой папа будет работать пиратом!
Сегодня я приехала за ней одна, и девочка, встретившая меня в холле уже одетой и с плюшевым зайцем под мышкой, огорченно спросила:
– А где папа?
Она с первого дня стала называть Сашку папой, хотя меня не называла никак. Я не обижалась, понимая, что должно пройти время.
– Он ждет нас дома, Соня. Поедем? – Я протянула руку, и малышка вложила в нее свою ладошку:
– Поедем.
Когда дверь детского дома закрылась за нашими спинами, я подумала, что сделаю все, чтобы эта девочка чувствовала себя родной в нашей семье. И в этом мне помогут муж и отец, которого Соня через пару встреч стала называть «деда Фима». Папа млел и баловался с ней на равных, забыв о возрасте и о двух инфарктах. И я твердо знала: на его помощь и поддержку я всегда смогу рассчитывать. Потому что кто, как не он, вырастил и воспитал меня. У Сони будет все – и дело не в деньгах, доме и возможностях, а совсем в другом. В нашей семье она будет родной дочерью и внучкой. Но если, став старше, она захочет узнать, кто ее родители, я поступлю так же, как мой отец, – не утаю ничего. А там – пусть решает сама.









































