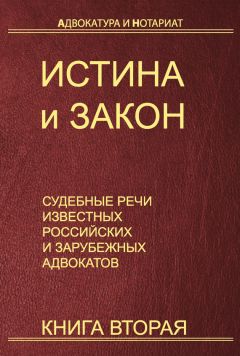
Автор книги: Маша Царева
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Между тем 1 января, то есть больше чем три месяца спустя, идут, по распоряжению судебной власти, удостовериться в существовании ран у Марии Морель.
Ей, как известно, было нанесено два удара ножом, однако находят всего один след, единственный рубец. Наука располагает достаточными средствами обнаружить таковые, хотя бы в сокровеннейших местах; здесь видят только одну царапину. И какую! Вы помните, господа, до какой степени мы были стеснены во время показаний Марии. Слушая беспощадную обвинительницу, читая в ее словах смертный себе приговор, мы не могли дерзнуть расспрашивать ее.
Что же говорят доктор и акушерка на предварительном и судебном следствиях? Они нашли маленький, едва заметный, не более трех царапинок, рубец, указывающий на легкую, слабо гноившуюся ранку. Но разве ее нельзя приписать иной причине, одной из тысячи обыденных случайностей, тому, например, что могла быть разбита стеклянная посудина, забыт нож на стуле, прыщу, чирью?
Тем не менее девушка заболевает тяжко. Действительна ли, опасна ли болезнь? Да, я хочу этому верить. Но она необыкновенна и, как заявил сведущий эксперт, беспримерна в летописях науки; болезнь без названия, объясняет мой противник, таинственная, непонятная, как и весь этот процесс! Болезнь… Где же ее причина? Откуда явилась она? Почему Мария волнуется, мучится, умирает?.. Умирает? Нет. Барышня выздоровеет, надеюсь, а сила ее показаний, свежесть цвета лица, твердость голоса – все дает мне уверенность. В чем же корень страдания? Преступление ла Ронсьера? Неожиданность, нападение ночью, внезапное насилие способны ли были в самом деле убить юное творение? Нет, Мария Морель мужественно перенесла свое несчастье. Другая на ее месте, быть может, поддалась бы, – она устояла, с благоразумием выше своего возраста затаила скорбь, ничего не сказала даже матери, встала и уже в 6 часов утра разглядывала прохожих; выезжала каждый день, а 28 сентября посетила карусель, танцевала на балу; словом, через короткий промежуток времени ее здоровье восстановилось.
Очевидно, что не ночное покушение – причина болезни. Уж не маленькая ли записочка, оказавшаяся в потаенном углу, где, по-видимому, важным бумагам находиться не подобает? Допустите же вероятность предположения, что девушка, открывая вслед за насилием и тяжкими, ужасными подробностями окно, выходя из дому ежедневно, беседуя со знакомыми, обедая в большом обществе, танцуя по вечерам, могла после минутного нездоровья, именно когда оправилась, упасть снова, будто пораженная молнией, захворать тяжко, непостижимо для целого ряда врачей и только потому, что прочитала вздорную записку!
Но, возражают мне: раз болезнь не выдумана, покушение доказано, в свою очередь. Страдание – лучший свидетель и не может иметь другого повода.
Плохой способ суждения. Не мешает сначала убедиться, что такие симптомы определяются исключительно насилием этого рода. А кто осмелится утверждать нечто подобное? Где человек, достаточно самоуверенный и не колеблющийся в своем знании, которому такая дерзость пришла бы в голову? Господин Рекамье, ученый и опытный профессор, не хотел брать греха на душу. «Много причин, – сказал он, – в состоянии вызвать подходящую болезнь. Нельзя, по совести, приписать ее скорее этому, чем другому обстоятельству».
Стало быть, факт болезни не доказывает преступления вообще. В данном же случае еще более несомненно и бесспорно, что нет связи между событием 24 сентября и болезнью Марии, так как именно вслед за покушением она не страдала. Ее здоровье, правда, несколько расстроенное, скоро поправилось вполне. Ищите же другой причины и не пытайтесь объяснять невероятного злодеяния болезнью беспримерной.
Кто же, наконец, проделал все это, где злодей, куда скрылся автор писем? К моему глубочайшему сожалению, вот пункт, господа, на котором мои усилия осложняются до крайности. Здесь-то поймете всю трудность моего положения.
Я стою лицом к лицу пред неумолимыми обвинителями. Бежать, никого не обвиняя, со своей стороны, я решительно не могу. Мне объявили борьбу на смерть, неизбежно одно из двух: осудить ла Ронсьера или унизить семью Морелей. А! Не ставьте меня среди двух огней, ибо это единственная вещь, способная взволновать и напугать меня. Убежденный в невиновности подсудимого, я не нахожу сил позорить вас, а между тем вы сами доводите меня до необходимости это делать; каждый раз, когда я хочу скрыться, вы принуждаете именно к подобному образу действий. Нет нам спасения иначе; мне приходится говорить и доказывать, чтобы лишить вас охоты бросить мне в глаза упрек: вы отступили – значит, признаете себя виновным.
Отлично. Твердо веруя, что ла Ронсьеру краснеть не за что, я не желаю обращаться в бегство. Пускай же сочувствие публики подымается на защиту вас; пусть ропот в этом зале еще раз встретит слова, которые предписывают мне долг и честь, я не хочу и не смею молчать!
Итак, кто из нас, вы или я, сочинял письма? Был слышен голос в этом зале и дал ответ за меня. Есть сведущие люди, двое из них сказали: «Это рука женщины», двое других объявили прямо, и, разумеется, надо повторить их слова: «Пасквили писаны самой Марией Морель!».
Но, возражают мне, слог – это весь человек, а никто не докажет, чтобы молодая девушка была в состоянии говорить таким языком.
Да, здесь важное затруднение; да, я его чувствую, понимаю, и, однако, вы провозгласили сами: «Когда пишут пасквиль, изменяют стиль так точно, как подделывают голос, надевая маску».
Думается и мне, что, забрав в голову попытку написать анонимное послание, девушка может начать с содержания ребяческого и безразличного, а потом, увлекаясь, переходит, шаг за шагом, в более резкий тон; целомудренная в речах и сдержанная в ежедневном обиходе, она ведь тоже сознает необходимость изменять не только почерк, но и слог; подобно тому, как голос слабый и приятный становится под маской грубым и диким, барышня постепенно развращается, наизнанку выворачивает свой язык; идут в дело народные выражения, все, что ей довелось подслушать на улице или прочитать на стенах. Ни минуты не сомневаюсь, что торжественная обстановка заседания и предвзятая щекотливость света обяжут вас утверждать, что порядочная девушка не могла слышать, а тем более повторять такие выражения. Но будем откровенны. Кому не случалось у себя дома, под горячую руку, даже в присутствии детей, обмолвиться крепким словцом? Мы не военные люди и не так часто, как они, ошибаемся в речах, но, извините меня, станем называть вещи их именем, – кто, например, не повинен в брани, до которой иногда доводят нас грубияны-лакеи? Какая девушка не слыхала ее? Суждено ли хотя одной из наших дочерей не ведать слов, обмениваемых между собой уличными мальчишками или гравируемых ими всенародно?!
Тем не менее вы утверждаете далее, что Мария Морель читать училась по Библии, никогда не видела ни одного романа, а стало быть, не могла изобрести любовных тирад, встречаемых в анонимной переписке.
Позвольте ответить вопросом. Существует ли где-либо мать, которая могла бы поручиться, что ее дочь не знает никакого романа? Я спрашиваю, точно ли Мария, воспитанная, если верить вам, в религиозном духе, но оставляемая в течение долгих вечеров наедине с гувернанткой, мисс Аллен, не прочла ни единого романа? Спрашиваю, далее, не испытывала ли она сама возбуждения под влиянием необыкновенного перелома ее природы, среди этой новой и странной болезни, обусловленной, говорят, истериками, судорогами, лунатизмом и экстазом. Нельзя ли допустить, что голова и рассудок девушки были омрачены чтением и первыми приступами нервного страдания?
С другой стороны, каков характер Марии? Вы, господа, имели возможность уразуметь. Она производит впечатление глубокой рассудительности и даже среди нас не волнуется нимало; спокойно и уверенно рассказывает о происшествии… и, однако, это натура очень впечатлительная, ее увлекает все романическое и таинственное.
О, я сейчас представлю доказательства! Забудем парижские письма от ноября 1833 и от апреля 1834 года, где речь идет о неких англичанине, учителе и слишком юной гувернантке, – письма очевидно, не принадлежащие ла Ронсьеру. Но вот факт более свежий, современный данным этого процесса и могущий служить ему введением.
Как-то господин Брюньер, интендант в Сомюре, которому госпожа Морель очень доверяет, проходил часов около 11 вечера по берегу реки Луары. Открывается окно, генеральша зовет его, и он входит в дом. Она очень взволнована. «Только что, – говорит она, – я играла на рояле; неизвестный человек, укутанный в большую шинель, остановился под окнами и начал выражать знаками свой восторг. Моя дочь, из своей комнаты, смотрит на него; вдруг видит, что он сбросил пальто и кинулся в реку, сбежались лодочники, едва-едва успели подать ему помощь, вынуть из воды и привести в чувство…» Брюньер успокаивает госпожу Морель и отправляется домой. Утром за ним посылают опять и зовут немедленно. Мадам Морель в горе: «Боже мой, боже мой, – плачется она, – тот самый человек, который едва не утонул вчера, прислал мне сию минуту анонимное письмо, где клянется, что, безумно влюбленный, хотел погубить себя из-за меня».
Таково, милостивые государи, начало драмы. Правда ли все это? Кидался ли человек в воду? Тысячи усилий были предприняты с целью разузнать, и что же? Ходили всюду, расспрашивали соседей, лодочников, встречного и поперечного в этом маленьком городке Сомюре, искали… и получили единогласный ответ: никто не тонул, никого не спасали! Басня, выдуманная юной Марией, положительно опровергнута со всех сторон.
Так вот что случилось в Сомюре. Таков рассказ Брюньера. Теперь я прошу ответа, – кто сочинил всю эту историю? Кому явилась охота подшутить со старушкой Морель? Кто с испугом в глазах и на лице уверял, что едва не погиб человек, когда никто не тонул? А на другой день, скажите мне, кто написал и подбросил признание в любви?
Разве не здесь первый симптом тяжкой болезни, определяемой галлюцинациями и бредом? Повторяю вопрос моим противникам и тем, посторонним, которые ворчат в публике, забывая и о величии суда, и о должном уважении к защите обвиняемого; а между тем можно бы, казалось, оценить умеренность моих выражений всякий раз, когда говорю о неведомых страданиях Марии Морель как о причине экстаза, о ненормальной игре ее воображения, принуждающих ее считать себя жертвой неотвязного человека и постепенно уносящих больную в таинственную область сказок.
В первый ли раз подобные обвинения, плод больного мозга, пытаются сбить с толку правосудие?
Разве на пути истории залы судебных заседаний не оглашались, может быть, слишком часто, романическими сказками экзальтированных женщин, которых нельзя было объяснить ничем, кроме галлюцинаций этого рода?
В самом деле, где иная причина тому, что лет двадцать назад одна испанка утверждала пред судом: «Меня отравили; преступники: моя горничная, муж мой…, его тетка!». Вы, конечно, помните интерес, возбужденный среди парижан бесконечными прениями по этой жалобе; помните, какое участие принимали в потерпевшей страстные барыни, сбегавшиеся в этот самый зал со всех сторон… Увы, правосудие было, наконец, обмануто, а горничная осуждена на смерть.
Благостью провидения приговор был отменен; новое следствие доказало невиновность бедной девушки, и несчастная жертва эшафота была оправдана единогласно.
Кто же толкнул на подобную ложь высокопоставленную, титулованную и богатую женщину? Кто привязал ее к кровати, пролил яд, вымазал в черный цвет ее губы и грудь? Кому пришло в голову заготовить такие улики? Ей самой! Страшная наклонность к таинственному увлекла ее на ложный донос!
Ввиду сказанного, пусть Мария Морель была воспитана в строжайших правилах добродетели, – я хочу верить; но это не исключало возможности какому-нибудь роману попасть в ее руки наперекор всей бдительности ее матери. Без привычки к подобному чтению, будучи, как вам известно, впечатлительной от природы и страдая уже первыми симптомами грозной болезни, которая околдовала ее разум и спутала воображение, дочь генерала Мореля не могла не подвергнуться самым тяжким последствиям…
Нет, как хотите, господа, но показания одного свидетеля, рассказа только самой Марии Морель недостаточно для обвинения ла Ронсьера в таком злодеянии, ни для приговора о том, что это подлый негодяй и что без выгоды, вопреки правдоподобию и вразрез с малейшей вероятностью именно он совершил гнусное, бесчестное, зверски свирепое покушение!
(Приводится в сокращенном варианте)
Милостивые государи!
Продолжительность судебных прений гнетет ваше сердце и утомляет разум, исчерпывает внимание ваше. Однако еще несколько часов борьбы неизбежны… Моя очередь возражать на защитительную речь, только что произнесенную от имени де ла Ронсьера.
Несмотря на совершенное изнеможение в течение этих печальных дней и вопреки бессилию моему оправдаться во всем объеме долга, я призван его исполнить.
Но, предупреждаю, обязанность моя лежит не в интересах мести, хотя бы и самой законной, той, из-за которой целая семья решилась нести свой позор на подмостки судилища!
Вчера говорили вам: чтобы спасти жизнь Марии Морель, казалось необходимым подать жалобу и разыграть роль потерпевших; теперь надо уже довести вопрос до конца – отомстить за свою поруганную честь.
Отвечая на каждое из этих положений, я могу вести атаку стремительно. Будьте покойны, однако, в моих словах вы не найдете горечи. Каков бы ни был гнев, возбуждаемый в сердцах мыслью об этом мерзком злодеянии, я постараюсь, чтобы невольное волнение мое улеглось пред ужасом страшной картины, открытой нашим взорам двумя семьями, терзающими друг друга в этой распре горя и скандала.
Два отца, поседевшие в лучах славы и побед наших армий, два отца, из которых, о, милосердный, великий боже, тот или другой должен выйти опозоренным в лице своего дитяти, – таково мрачное зрелище, которое суждено испытать нам.
Но, господа, на стороне, представляемой мной, больше утешения, серьезных и важных, нам благоприятных данных, чем скорби и несчастия, причиненных другому отцу сыном; отец, в защиту которого я говорю, припоминает в глубине души, с сожалением, но и с радостью, жизненный путь дочери, ее нежный возраст, исполненный надежд. Здесь основная черта различия между родителями, или, лучше сказать, между детьми.
Я еще слышу мотивы защиты ла Ронсьера, что военная дисциплина была, по-видимому, злой мачехой для него, что на воспитание юноши не обращали внимания, а чрезмерная суровость отца повергла несчастного на ложную дорогу, что этим только и можно объяснить деяние, за которое он предан суду.
Мы, в свою очередь, указываем с гордостью на характер Марии. Сам защитник подсудимого внушает нам это сравнение, излагая плачевную историю своего клиента как следствие недоверия между отцом и сыном. Наоборот, живя в трогательном неведении злобы людской, чистая сердцем и помышлением, девушка безгранично верила отцу и матери; искренность и простота, взаимные заботы и попечения неизменно одухотворяли эту семью. Какой любовью, какой нежностью окружали родители единственную дочь! Какой глубокий мир царствовал у их домашнего очага!
Таковы два метода воспитания. Они логически определяют нравственный строй как ла Ронсьера, так и Марии Морель.
Где нет и быть не может других источников, например, в исследовании первых шагов жизни данного лица, факты, иллюстрирующие мою мысль, не могут быть взяты иначе как из уст его близких. Не следует поэтому удивляться, что я на них именно ссылаюсь. Передам ли, с другой стороны, выражения, в которых дочь присоединилась к жалобе, принесенной ее отцом?!
Нет! Позвольте напомнить самую жалобу и воскресить пред вами рыдания генерала Мореля, запечатленные в рукописи, с намерением никогда не показывать их свету… «Злодейство!» – так озаглавлены грустные строки, и вот их конец: «Мария! Милая, незлобивая жертва! Ты была мне дороже всего на свете; ангел чистоты, надежда семьи, гордость родителей, невинный агнец, изменнически убитый! Если мир, куда ты еще не успела войти, отвергнет тебя, помни, что сердце отца свято хранит убежище, где ты всегда найдешь покой… Но и это утешение исчезает… Мое измученное, бедное сердце скоро иссохнет от печали!».
Вот язык отца! Вы его слышали…
Наряду с этим единичным показанием в защиту юной девушки какой массой сведений располагаем мы против ла Ронсьера!
Не в ядовитых речах клеветы станем искать доказательств в ущерб человеку, угнетаемому столькими обвинениями! Нет, мы их находим в официальных документах – среди протоколов военного министерства. Вот где отмечены и удостоверены факты, на которые ссылаемся. Там, в особой категории донесений, есть одно, в высшей степени замечательное. Когда пред военным министром хлопотали о переводе ла Ронсьера из кавалерии в пехоту, начальник главного штаба возразил, что «таким переводом был бы освящен грустный прецедент, ибо пехота не должна быть пристанищем для кавалерийских негодяев».
Министр, впрочем, решил, что нельзя не прийти на помощь старику отцу, хотя бы ради его почетных ран.
Далее. По словам защитника ла Ронсьера, легко найти своеобразные черты его личности в захваченной у него корреспонденции из 50 писем. Прекрасно. Вот какие попадаются там фразы: «Я влепил конюху порцию ударов хлыстом, чтобы научить, как чистят лошадей». В другом письме: «Дьявол злата – причина многих жертв». Или еще: «Я распрощался с мечтами о браке; твердо помни мои, не раз повторенные слова: как только приведу дела в порядок, я никогда не женюсь».
Таковы, господа, два человеческих существа, которые ждут приговора; между ними надо избрать виноватого.
Но я не стану обременять судей выбором. Я хочу дать возможность обратиться к суровым заботам вашего долга, не предлагая вам сложных и чрезвычайных затруднений. Мой выбор сделан; не колеблясь ни минуты, думаю, что моя мысль очевидна, а убеждение глубоко и непоколебимо. Виновен ла Ронсьер, преступник – он!
Считаете ли необходимым остановить меня и потребовать мотивов злодеяния, картины ужасов, точного плана извивов и подробностей его пути. Увы, господа, есть мысли, непониманием которых я горжусь; есть позор, которому я призван верить, не постигая. Счастье добрых людей именно в том, что, будучи вынуждены наблюдать черные помыслы и гнуснейшие расчеты, они не в силах уразуметь всей мерзости адских козней, разоблачить сатанинское коварство иного злодеяния.
Не требуйте же анализа всего, что неприлично в образе действий обвиняемого и на дороге, которой он следовал. Не ожидайте, что я брошусь в омут его причуд, погрязну в тине его намерений, запутаюсь среди чудовищных комбинаций его!
Тем не менее в семье Мореля я вижу ясно человека, которого хотят удалить от прекрасной Марии. Тогда он решает обесчестить ее, отнять малейшую опору. Вот средство, которое заставит семью бросить девушку, с ее золотом, в его руки. Все это пред глазами, и не задержат меня ваши мнимые противоречия. Господа, разве преступление не доказано? Разве непонятно? Но ведь нет ничего проще, как удостоверить его бытие. Оно еще продолжается, живет, явствует, осязается, оно течет в венах Марии де Морель.
Что же говорите вы? Что у нее странная беспримерная болезнь, а причины ее неизвестны; что это страдание душевное, выражающееся в нелепых припадках сомнамбулизма, каталепсии и экстаза; болезнь, определяемая галлюцинациями… Да разве этим путем чудовищность начала процесса раскроется очевиднее?
Нет, не галлюцинации оставили след укусов на кисти руки, не ими причинены раны на самых нежных и закрытых частях тела, не их следствие порезы руки, не они покрыли грудь синяками. Нет, нет, истязания реальны. Уже 29 сентября, чуть не в первый момент события, доктор Бэкёр видел эти «раны, ушибы и разрезы» – это его подлинные выражения – и описал их характер. Ему даже в голову не приходило говорить о симуляции.
Какая же болезнь снедает Марию? Где причина?
На предварительном следствии, в тиши острога или в камере судьи, вы испробовали ряд позорных обвинений, частью против самой девушки, частью против ее отца и матери… Во имя соображений, понятных всему свету, семья Морелей была озабочена одним: утаить свое горе, прикрыть молчанием судьбу юной Марии. В самом деле, 28 сентября возникла первая дилемма; надо следовать привычкам, необходимо избежать ужасного вопроса: «Где ваша дочь?». Мария покоряется долгу. Бэкёр был здесь, когда услышал слова матери: «Надо управлять собой, дочь моя! Свет глядит на нас; крепись, не падай духом. Храбрость и сила воли неизбежны!». А вечером танцы… Сначала больная держится покойно, но требования выше сил; ей дурно, и врач уносит ее без сознания. Дома припадки становятся угрожающими. Потрясен весь организм; начинается горячка, и лишь много позже с большим трудом болезнь уступает лечению. 19 ноября страдалице лучше, но через два дня кризис, еще более опасный, грозит ее жизни.
Что же, по-вашему, это опять галлюцинация, когда 21 ноября мать услышала, как ее дочь, получив роковое письмо, упала в обморок, а когда выломали дверь кабинета, нашла свое дитя ня земле, судорожно сжимающее пасквиль, где грозят всему, что девушке дорого и свято. Злодеяние переполнило чашу. Мария – в страшном пароксизме, число ударов пульса достигает 125 в минуту. Бэкёр спешит на помощь, из Парижа зовут другого доктора – Перрона. Вы помните симптомы, как он их наблюдал и описал: налившееся кровью лицо становится багровым, смерть приближается; плач и стенание оглашают дом… Священника! – и Марию соборуют… Вы знаете, какой способ лечения был ей предписан. Возможно ли сомневаться далее? Не очевидно ли, что последствия злого дела возрастали с развитием энергии преступления? Разве не доказано, наконец, что с этого дня врачи единогласно признали действительное существование болезни?
Ведь вы сами слышали тождественные показания докторов: Рекамье, Лерминье, Бальи и Оливье. Разве с ними не советовались? Разве каждый из них раньше, чем поставить диагноз, не произвел самого тщательного, строго научного исследования? Итак, кому же придет в голову отвергать наличность результатов преступления? Увы, милостивые государи, зло пред вами, налицо, воочию; оно чувствуется, осязается в мускулах и нервах, в малейших разветвлениях организма Марии де Морель…
Но пусть мои соображения ничтожны. Хотите иных доказательств? Обратимся к языку, которым написаны пасквили. Припомним тот из них, который отметили перед вами вчера как гимн сатаны, и вам уже незачем будет колебаться: достаточны ли психологические мотивы, возможен ли один только вывод из нравственных элементов дела?
Когда факт преступления доказан, спрашивается: где же преступник? Мы его ищем? Изумляюсь или, больше, скорблю о тех, кто еще спорит, в чьих глазах нет веры тому, чтобы столько зла могло быть совершено одним человеком.
Но, господа, уместно ли повторять еще раз, что преступление удостоверено документами, сознанием обвиняемого и массой показаний свидетелей. А мы все-таки ищем… Где злодей?! Вот он!.. И я раскрою его извороты в любом их мгновении!
К чему прибегнул он в начале своих похождений – к безымянным, подметным письмам.
Вы не забыли, надеюсь, философского исследования, разработанного вчера моим благородным и красноречивым другом. Доказав невозможность гипотезы, что эти письма принадлежат не ла Ронсьеру, он убедил и в еще большей невероятности факта, что они написаны той, которой приписывают их эксперты.
Чем отвечает защита? В письмах, говорит она, попадаются фразы из романа, а очень, дескать, возможно, что по вечерам, тайком от матери, барышня Морель почитывала кое-что, принесенное мисс Аллен украдкой из библиотеки. Далее, вам указали одно слово – грубое ругательство, встречаемое на стенах, которое Мария, говорят, могла слышать от уличных мальчишек и запомнить. Но, господа, это значит не убеждать, а играть словами. Нет, нет, не гадательные признаки должны обнаружить виновного. Нет, презренная цель писем, помыслы наглого, скотского разврата – вот что приводит к их автору, ла Ронсьеру.
Рассмотрев пасквили с точки зрения холодных правил своего искусства, эксперты приняли во внимание лишь факты сходные, тогда как надлежало вникнуть в различия, а их очень много. Наоборот, сличая правописание ла Ронсьера с таковым же пасквилей, они упустили из виду тождественные ошибки, особенно в склонении причастий. Таким образом, и в несомненных письмах обвиняемого, и в письмах анонимных мы одинаково встречаем: «J’ai recue votre…», «vous avez recu…». Слово «honnete» он пишет через одно «n» и, напротив, удваивает согласные без надобности, когда, например, пишет «addresse»; не упускает случая написать: «fairai» вместо «ferai». Щедрый на ударения, он строчит «сеlа» и никогда не забывает написать «ou», мало заботясь, что это такое – наречие или союз?
Но что еще больше свидетельствует в ущерб обвиняемому, это слог и отдельные выражения пасквилей, такие подробности, которых девушка в 16 лет знать не могла. Уж не благовоспитанная ли барышня, юное и чистое дитя, способно, по-вашему, заканчивать письма грубой бранью, гравируемой пьяными бродягами на заборах, да и то не каждый день?!
Изложенные улики обосновываются на других, более ужасных. Упорное, например, молчание ла Ронсьера, когда генерал гонит его из дому, такая, в моих глазах, грозная улика. Ла Ронсьер столь мало огорчен был своим позором, что в тот же день, воскресенье 21 сентября, когда Моргон видел его в театре, он беседовал в глубине ложи о превосходнейших качествах розовой эссенции. Госпожа Моргон показала на следствии даже о каком-то обмене флаконов, ей тогда предложенном.
Еще далее идут признания, сделанные подсудимым, свободно и без так называемой нравственной муки. Он их вовсе не скрывал; напротив, сам говорил о них адвокату Каро.
Что понудило сознаться? Строгость отца? Ужас перед судом? Нет и нет! Разве не упрашивал он даже во время дуэли отдать ему эти мерзкие письма, обещая лично отнести их прокурору. Не трусость, значит, мотив признаний…
Удивляются, милостивые государи, и молчанию Марии Морель в роковую ночь на 24 сентября. Две юные, перепуганные и расстроенные девушки не вскрикнули ни разу, и вы их обвиняете! Но ведь так должно было случиться; подобная тишина – лучшее, убедительнейшее доказательство наличности преступления и справедливости их рассказа.
Будь это вор, покушайся он унести золото или бриллианты, я понял бы ваш упрек; если бы, далее, все это была сказка, поставили бы, конечно, весь дом на ноги, взбудоражили бы криками всех и вся, а тьма ночи устранила бы малейшее подозрение в подлоге. Но дело совсем не в том: девушку насилуют, стыд и целомудрие налагают невольное молчание на ее уста: «Меня видели нагую? Что сделали со мной? Прикрой меня, Аллен!..» О, я разумею, почему не было крика. Мария ведь девушка; взволнованная чувством стыда, она не смеет показаться матери, которая столько раз говорила ей о скромности.
Утром видит она себя вновь, припоминает все и прячет свою наготу… «Аллен! Аллен! Пойди сама расскажи матушке; попроси ее ко мне!..»
И никогда не пойму я, как могла бы она мучиться желанием раскрыть свой позор пред целым светом. Обращаюсь к сердцу любимой матери семьи!
Независимо от изложенного, какова в сущности система защиты? Обвиняя во лжи отца, мать, честного, благородного и верного их друга Жакемэна, вы стараетесь заклеймить и Марию, и мисс Аллен.
Прекрасно; остается, значит, сделать вывод. За вами, господа присяжные, право решить: рассудите ла Ронсьера с Марией Морель.
Но, милостивые государи, если мне дорога честь семьи, которую я защищаю, то имя генерала ла Ронсьера, в свою очередь, также отдано на хранение вам. Снизойдем в глубь процесса: оценим признания, взвесим данные, обдумаем несообразности. Взгляните пристально: говорит ли Мария истину? Ведь для оправдания подсудимого, очевидно, необходимо признать, что ее показание ложно, что эта несчастная девушка обманывает вас. Но что значило бы такое признание? Она, следовательно, истерзала сердце отца и матери, а д’Эстульи принудили выйти на дуэль; сама себе нанесла раны и побои, жестоко себя мучила, истязала, и все исключительно ради потехи увлечь нас какой-то нелепой сказкой. Воображая мнимое злодеяние, она расстроила себя, наконец, так, что захворала уже на самом деле, а симптомы болезни обнаружила столь тяжкие, что о их реальности не спорят даже враги ее!
Господа! Я не хочу там увлекать вас словами, где колеблется ум, когда взволнованы сокровеннейшие тайники души. Но да позволено будет мне одно только соображение. Если честь Марии Морель испытает крушение в подобной борьбе; если осуждена будет она, девушка 16 лет, а ла Ронсьер оправдан, не сомневайтесь, – он в оскорбительном и торжествующем самодовольстве получит право спросить, а честным людям не останется ничего, как в отчаянии повторять за ним тот же вопрос по одному из его пасквилей: «К чему любить добро?».









































