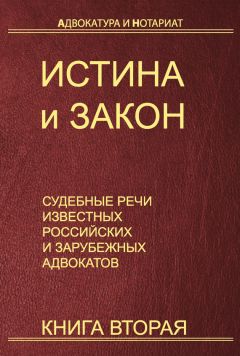
Автор книги: Маша Царева
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Милостивые государи!
В течение долгих дней нравственного утомления и борьбы ваше внимание, неизменно благородное, истощается вопреки вашей воле; я сам, чего бы ни требовал долг, вижу, что и мой голос, и мои силы падают.
Но я одинок, а отвечать необходимо, неизбежно. Надо бороться с могучими противниками, которые настигают меня попеременно и взаимно поддерживая друг друга. Не станем же медлить; соберем еще несколько слов и обратимся к вашей совести. Да не отвратит она лица своего! Пусть изнеможенные силы вашего разума одухотворятся и, если мыслимо, удвоятся, потому что это последнее слово, решительный протест, замирающая в груди мольба невинно осуждаемого.
Писал ли ла Ронсьер анонимные письма?
Покушался ли он в ночь с 23 на 24 сентября на изнасилование Марии Морель?
Таковы два вопроса, или, лучше сказать, таков, в двоякой форме, единственный вопрос дела, ибо вы отлично понимаете, что если обвиняемый – не автор писем, то не он покушался и на честь девушки; и наоборот, неповинный в последнем злодеянии, он не имел цели сочинять и пасквили.
Господа, всякий раз, когда человек предан суду, – безразлично, в чем бы ни обвинялся он, – надлежит раньше всего другого исследовать и решить, так как справедливый приговор иначе невозможен: из-за чего преступление совершено? Какой расчет или выгода толкали обвиняемого?
Этой необходимости отыскать причину злодеяния, установить прежде всякого другого исследования побуждение, руководившее преступником, вы не в силах противиться, как бы ни мешали вам. Кидаясь в пучину затруднений, случайностей и опасностей, вызываемых преступлением, человек, разумеется, имеет в виду удовлетворить свои выгоды или страсти. Таково не временное или местное правило, а закон всеобщий; разум, справедливость, единообразие нашего духа, здравый смысл одинаково убеждают в этом. Увлечь в легкую ошибку, конечно, может и любовь к похождениям, и вздорность характера. Но когда дело идет о суровом обвинении, которое не только подвергает презрению общества, но и грозит тягчайшими карами закона, тогда, говорю я, злодеяние немыслимо без важного и глубокого мотива. Никто не станет рисковать покоем всей своей жизни, судьбой и честью целой семьи из-за пустяков.
Где же великий, где могучий интерес в настоящем процессе?
Был ли ла Ронсьер влюблен в Морель-мать?
Нет. Все данные убеждают, что он никогда и не мечтал о такой любви, – сами противники мои вынуждены признать это.
Любил ли он Марию?
Нет, ничего, кроме гнусностей, не писал он ей, а между страстных похвал красоте, уму и благородству матери находил для дочери одни слова отвращения и презрения.
Хотел ли жениться?
Действительно, оригинальный способ достигать цели путем ежедневных оскорблений! Желал бы я встретить подобное объяснение злодейства. Вот человек, который, не ведая обыкновенных средств женитьбы на богатой наследнице, стремится обесчестить ее и погубить; ничего ведь не останется родным, как выдать ее тому, кто опозорил девушку пред целым светом.
Но к чему дебютировать такой именно перепиской? Во имя каких соображений он делает все не с целью понравиться, а, наоборот, чтобы заставить ненавидеть себя? А затем, когда преступление совершено, когда здравый смысл повелевал сказать: «Это дело моих рук, но я хочу загладить вину; я обесчестил вашу дочь, но доверьтесь мне, ибо я еще в силах утешить и осчастливить ее…», – что говорит он, чем пробует смягчить ненависть и обезоружить гнев ее семьи? Стремясь жениться, он пишет: «Страшные узы соединят нас. Эта свадьба будет новой местью, и я начну издеваться над вами вволю!».
Уж не для собственной ли только потехи сочинял он пасквили? Меня возмущает эта жестокая игра. Сознаюсь, что в обществе приняты дрянные, хотя и не предусмотренные законом выходки, и злой человек может позволять себе их безнаказанно. Совсем не то здесь. Речь идет не об угрозах, а о суровой действительности; мы видим не слова, а кровь, дуэль, почти убийство… И вдруг хотят, чтобы обвиняемый рискнул на все, без расчета и цели, без вероятности добиться чего-либо, кроме бесславия, навязал бы себе презрение собственной семьи, разрушил бы жизнь, малейшие надежды свои!
Или, быть может, им руководила исключительно страсть творить зло? Купаться в крови, не этого ли искал он? Вам рассказывали об исчадиях ада… Отлично, я согласен и допускаю, что время от времени подобные явления возможны. Господь отмечает их иногда своей рукой и вводит в нашу среду как ужасный пример, как явную угрозу человечеству.[4]4
Шэ д’Эст Анж был близок к идее о врожденности преступников как одной из причин преступности.
[Закрыть] Но их узнают заранее, и не бывает так, чтобы никому неведомые в течение, положим, тридцати лет, открывались они внезапно. Подобные люди уже родятся на свет заклейменными самим богом; в своем сердце носят они яд, пожиравший их. Еще детьми они отличаются в играх. Позже, когда дурные страсти растут с годами, мы видим, как эти злодеи радуются слезам, ими же вызванным, глумятся над воплями своих жертв, пляшут в потоках крови, ими пролитой! А! Что бы, наконец, ни предпринимали они, всегда есть улики, которых ни скрыть, ни подделать невозможно; на своем пути им ни разу не удается окончательно замести следы, видимые целому миру; когти сатаны сквозят под обликом человека!
Таков ла Ронсьер, по крайней мере, таким он был или его сделали. Какими злодействами не обременяют его совести. Удалось ли вам сосчитать его похождения и браки, им разрушенные; дев, обольщенных им; жен, умерших в отчаянии от измены. Найден ли итог мужей, коварно и беззаконно убитых им из-за угла? Вот чудовище! Вот дьявольское творение, без которого нельзя обойтись здесь… А если изложенное справедливо, то не требуйте у этого странного, вне законов природы стоящего, адского выходца отчета, зачем он учинил зло, – ради удовольствия вредить другим, не больше и не меньше!
В один прекрасный день остановился он на кровожадной мысли и в самомнении решил: я, конечно, рискую жизнью, возможно, что мне уже готовят эшафот, но это пустяки! Вот юная, чистая, свято воспитанная, прелестная в невинности своей девушка, она – радость отца и матери, светоч их жизни… Прекрасно, на нее-то я и направлю зловонное дыхание свое. Она счастлива, а я мученик, ее обожают, меня клеймят, наложу на нее руку и овладею… Я, разумеется, умру, но ведь и она со мной… О, я узнаю тебя, сатана; да, злой дух, я тебя вижу!..
Не таковы ли, в сущности, обвинения, которыми угодно вам наградить ла Ронсьера, делая из него героя преисподней? В ваших ловких руках это уже не человек, а демон!.. Узнаете ли вы его, господа?
Заблуждения его молодости – результат чересчур сурового воспитания – известны. Имея долги, он, правда, нетерпеливо выслушивал нравоучения отца. Но разве это приметы изверга, который не заслуживает ничего, кроме эшафота? Очевидно, нет. Ошибки, кредиторов и любовниц вы можете принять в расчет, но будьте же милосердны. Не отвращайте взоров от его характера; ознакомьтесь с его нравственной природой, с его сердцем и убеждениями; не забудьте писем, где в самой искренней простоте он изливал свою душу, и не позабудьте записать ему в актив сердечную доброту, ярко отпечатлевшуюся в таких откровениях, когда человек не думает обманывать.
Вразрез с тем, что осмеливаются утверждать наши враги, не теряйте из виду души, любящей и готовой помочь ближнему всякий раз, когда есть возможность. Вместо того чтобы забыть Мелани Лэр, как сделали бы многие другие с минуты, когда военная дисциплина принудила его расстаться, вы находите его полным забот об этой девушке и желания обезопасить ее от ловушек, расставляемых Парижем.
Обдумывая документы, сюда относящиеся и уже цитированные, позвольте мне сделать небольшое сближение.
11 сентября он, говорят, написал самый грубый пасквиль. Подготавливая в эту минуту план преступления, будучи всецело поглощен свирепым замыслом и смертоносными ухищрениями, он, разумеется, не мог отвлекаться к идеям другого порядка. Однако именно в этот период он пишет Мелани Лэр, радуясь, что ему удалось исхлопотать прощение для какого-то бедняги-солдата, о смягчении участи которого напрасно молил его родной отец. «Сегодня разрешаю отпуск рядовому, которого избавил от арестантских рот. Его отец просил за него и возбудил во мне сострадание. Употребив все усилия, я спас-таки и вернул ему сына. Видишь, что и у меня есть заботы!»
Другое письмо той же эпохи относится к ребенку Мелани Лэр, брошенному отцом. Коснувшись воспитания мальчика и дав матери несколько советов, он продолжает: «Со вчерашнего дня, когда отправил тебе, дружок, письмо, я долго и упорно размышлял о твоем деле с М. Д… Не мог удержаться от упреков людской злобе и нашел, что поведение этого господина в отношении тебя бесчестно. Скажу, что, если бы это могло тебе помочь, ему довелось бы иметь счеты со мной. К несчастью, понимаю, что шум и новая история способны только повредить тебе». Вот о чем волнуется он! Таковы его идеи, его сокровенные помыслы!
А между тем преступление назревает, и в тот же день, уверяют вас, он отправил другое, позорнейшее письмо. Занятым подделкой своего почерка и погруженным в злодейские расчеты – вот каким рекомендуют его враги. Представляя другую сторону медали, я не могу скрыть его добрых дел; по словам обвинения, он хочет отравить жизнь семьи, вырвать дитя из-под крылышек матери, а вы, наоборот, сами видите его в хлопотах о солдате, горемыке, которого он не отымает, а возвращает отцу.
Глядите же на этого негодяя! Это сам сатана!
Нет, нет, не верьте! Увлекшись до некоторых нарушений дисциплины, обязанный, быть может, переменить полк, даже причинив беспокойство отцу, он, в сущности, человек мягкий и благородный; далеко не забывая требований совести, он умеет их высказать честно, а в дружеской переписке не боится раскрыть всю глубину своего сердца.
Стало быть, в арсенале обвинения не хватает выгоды, мести, любви или ненависти, иными словами, всех вообще движущих сил человека ('Обращаясь к Беррье). Этим, конечно, и объясняется факт, что вчера вы пришли к невозможности сказать что-либо убедительное, дать какой-нибудь преступный мотив. Затем, однако, поэтическое вдохновение выручило вас из беды. У своего красноречия пришлось вам требовать указаний, которых нельзя было выжать из данных процесса, или, лучше сказать, ваш личный талант торжественно признал свое бессилие открыть источник зла. Тогда неожиданно восклицаете вы: да разве я обязан искать причины? Я слишком благороден, чтобы ничего не разуметь в подобных мерзостях!
Как, милостивый государь, считая себя честным человеком, вы думаете, что можете обвинять без доказательств!? Только потому, что обвиняете вы, безупречный, так сказать, переполненный совестью деятель, не надо требовать улик? А оградившись подобной совестью, чересчур, говорите, невинной, чтобы понимать такие злодеяния, вы не стесняетесь повторять: верьте мне, дескать, на слово?! И напрасны, думаете вы, наши просьбы мотивировать обвинение, указать факты, опровергнуть несообразности, устранить физическую и нравственную невозможность события… Нет, нет, какое вам дело до этих жалких условий обыденного процесса! Вам довольно ответить: я честный гражданин, а вот злодей, положитесь на меня; он виноват, я говорю это, казните его!
Не так, господа, нет, не так! Безразлично требуя покоя обществу и безопасности для невиновного, правосудие не может увлекаться фейерверком фраз. Назад, прочь волнение и симпатии, долой тяжкий гнет душевный! Вернемся к делу, рассмотрим улики, доказательства – слышите ли? Очевидных данных – вот чего ждут судьи, слезы и рыдания заменить их не в силах; не слезы, которые удалось вам вырвать даже у меня, а факты необходимы… Прежде чем клеймить, позорить и уничижать ближнего, раньше чем строить ему эшафот, – вот без чего обойтись нельзя. Да, еще раз улик, улик требуют от вас; вот что неустранимо, незаменимо, неизбежно!
Я не хочу напоминать всего, что говорил о пасквилях ранее; не хочу вновь рассматривать оскорбительной и угрожающей переписки поручика с генералом, где, тщательно изменяя свой почерк, он не забывает, однако, подписываться каждый раз, где усердно, шаг за шагом, раскрывает предположения свои, признает все, уже сделанное, повествует о том, что совершить намерен, где – вещь изумительная и необъяснимая – руководствуется правописанием, которого не знает, и не делает ошибок, ему всегда присущих. Время не терпит, и я спешу достигнуть момента, когда ла Ронсьер покидает Сомюр.
Итак, он на свободе, в Париже! Ценой признаний, о которых сейчас скажу, ему обещали безнаказанность. Чего ни сделает несчастный, сию минуту едва не сошедший с ума, валявшийся по полу и рвавший на себе волосы? На что ни решится человек, когда его гнетет идея преследования и когда одно слово может погубить его! В письме д’Эстульи, только что полученном, он читает: «Раньше чем окончить беседу, я обязан предупредить, что, если вы дерзнете каким-либо путем обеспокоить семью генерала Мореля, обе ложные подписи, вами подделанные, будут немедленно представлены суду». Очевидно, что, не говоря о новом покушении, первое слово, первое его движение и письма идут в ход на его же погибель. Под такими-то угрозами он бежит из Сомюра и, разумеется, не смеет напоминать о себе. Наилучшее, что может придумать, – это провалиться сквозь землю в омуте, который называется Парижем.
Увы, не обольщайтесь! Он пишет вновь, он храбро сеет пасквили, а содеянным хвастает: «Я обесчестил вашу дочь, нанес тяжкие удары ножом, хотел передать ей страшную болезнь!». В письме же к Марии говорит: «То, что вам дороже всего на свете, – мать, отец, д’Эстульи – через несколько месяцев погибнет…». Как! – он это пишет, когда ему сказано: не шевелитесь, иначе смерть нам! Пишет, зная, что не сдобровать ему! Дразнит, выводит из терпения людей, которых только что молил о пощаде, и когда достиг ее, безусловно, лишь на первый раз! Возмущая, бравируя их гневом, отравляя им жизнь, он угрозами, частью уже приведенными в исполнение, частью повторяемыми с вопиющим бесстыдством, вынуждает, наконец, Морелей жаловаться, сам толкает их под защиту уголовного закона!
Далее. Письма помечены Парижем, а носят почтовый штемпель Сомюра; они брошены в ящик, бесспорно, здесь, когда ла Ронсьер находился в Париже. К чему? Зачем подобная хитрость, с какой целью идти в обход, во имя чего звать сообщника? Но и это не все. Ла Ронсьер в остроге, а пасквили все идут и идут. Еще лучше: началось следствие, обвиняемый ведь, вот он, наконец, имеет единственную дорогу – отрицать все. И что же? Мы видим как раз обратное: из тюрьмы, под тяжестью уголовной волокиты, направляемой со всех сторон именно на него, видя меч правосудия уже занесенным над своей головой и хорошо разумея положение вещей (ведь это он, между прочим, писал: «Кроме отрицания, у меня нет исхода!»), он вдруг открыто признает, даже преувеличивает свою вину, говоря: «Я старался убить госпожу Морель».
Такова его речь, он сам себе готовит обвинительный акт, пожалуй, суровее прокурорского.
Да! Только попадая в этот сумбур несообразностей и безумия, я начинаю, в свою очередь, разуметь, почему даже ваши дарования, мой почтенный противник, оказались беспомощными.
Но, говорят, в письмах есть места, которые изобличают автора, есть выражения, ему изменяющие и доказывающие его вину. Так, ограничиваясь единственным примером, дабы не утруждать вас, читают: «Я хотел передать ей страшную болезнь»; и вот, совершенно неожиданно, в середине заседания является свидетель и, навязывая нам свое показание, повествует, что в означенный период сам ла Ронсьер ему сознался, что был тогда болен и старался передать заразу. Не буду повторять слов обвиняемого, который, как вы убедились, твердо помнит события и числа и удостоверяет, что к тому времени уже выздоровел, но я обязан сказать: прочитайте письмо, не изменяя слов и не извращая смысла: «Не стоит скрывать; имея в виду убить вашу дочь, причинить ей тяжелую болезнь, повергнуть в жестокие муки, – я с этой именно целью нанес ей во многие части тела глубокие раны ножом». Где же намек на иное страдание? Он хочет убить, замучить и старается поранить тяжело. Откуда делается вывод о заражении, на счет которого столь любезно распространялся капитан Жакемэн?
Спрашивается, далее, на какой бумаге изложены письма? Факт опять поразительный, и я прошу не терять его из вашей памяти! Простая писчая бумага, по-видимому, вырванная из ученической тетради, обнаруживает в авторе писем поспешность и непривычку располагать почтовой бумагой, на которой пишут опрятнее. Откуда же взялась эта бумага? Хотите узнать? Пойдемте к Морелям, подымемся на третий этаж, и там, в комнате барышни, в ее тетрадках, мы найдем ее!
Да, это ее бумага! Сравните, сличите, умоляю вас! Ее, говорю вам, та, которой она пользуется ежедневно и всегда имеет под рукой. Материал тождественный и даже, как удостоверил Монгольфье, очень вероятно, из одной и той же стопы.
О, я слышу, прекрасно слышу ответ; понимаю: коварный лакей, продажная душа, стащил тетрадку и выдал врагу, ведь его предусмотрительность бесконечна… Отъявленный злодей, самый ловкий плут не сообразил бы, а он – легковесный и вздорный человек, готовый завтра идти наперекор тому, что сделал сегодня, ветрогон, чуждый всякой идее, – догадался. Он и никто другой дошел до этой мелочной хитрости, да еще в какую минуту! Вот записка, составленная в ночь преступления. Злодеяние начеку, негодяй уже на чердаке; ловя момент и устраивая лестницу, он выжидает. В час пополуночи строчит целое послание, а в два насилует. Ладно! Заседая под крышей и дабы исключить сомнения на счет себя, излагая все, что намерен предпринять, он не преминул захватить лист бумаги Марии Морель и, одержимый адской злобой, издеваясь над опасностями, вовремя принес его с собой.
Сделайте милость, объясните, к чему подобная забота, из-за чего бьется он и пишет не на своей бумаге? Скрываясь? О нет, совсем не то! Предупреждая всякий раз, как собирается проделать что-нибудь, он будто трепещет, что не заметят его, а потому чуть не под каждым пасквилем расписывается.
Ну, а у него разве не оказалось бумаги похожей? Увы, ночью, внезапно, с чиновниками и протоколами, нагрянула к нему судебная власть, все перерыла и ничего не нашла! Ни одного куска писчей бумаги, хотя бы для того, чтобы записать его имя и звание; почтовая же бумага, на которой он вел переписку с родными, друзьями и Мелани Лэр, нашлась, и в достаточном количестве.
Итак, в оптовом складе ваших пасквилей нет ни листка его бумаги, и, наоборот, во всем его доме нет ни клочка вашей!
Что же еще сказать вам об экспертах?
Они все единогласно объявили, что письма ла Ронсьеру не принадлежат. Все четверо, без предварительного уговора, изучив в камере следователя этот «corpus delicti», показали: «Удостоверяем, что почерк – не подсудимого», – факт тем более драгоценный, что экспертиза склоняется обыкновенно в пользу обвинения.
Скажите, положа руку на сердце, возможно ли до такой степени изменить свой почерк, да и не только почерк, а все привычки правописания, до наиболее устойчивых признаков стиля включительно? Взгляните, как он пишет адрес, всегда одинаково, неизменно, тождественно. Пред вами, среди вещественных доказательств, сотня таких писем, и мы готовы представить еще, если угодно.
И что же? В них нет ничего, подобного адресам пасквилей. Ни разу не найдете сходства в начертании букв, нигде не заметите разницы в подлинниках. С другой стороны, как я уже говорил, ла Ронсьер не свободен от грубого неведения грамматики; мыслимо ли, чтобы, сочиняя пасквили, он постиг ее вдруг? Там нет ошибок, а если встречаются описки, то, очевидно, зависят от поспешности, а не от незнания.
Далее, и здесь опять довод, никем не опровергнутый, ему ведь нужны были сообщники: в Сомюре – чтобы знать все, разбрасывать анонимные послания по всем закоулкам дома Морелей, ночью, в момент покушения, – чтобы помогать ему…
Позже, когда прогнали Самуила и Юлию, надо было заменить их другими, кто бы сдавал на почту в Сомюре письма, адресованные из Парижа. Наконец, когда его посадили в секретную камеру острога и когда, вслед за ним, туда же попал Самуил Жильерон, надлежало приискать нового охотника идти на эшафот, дабы через него разыграть опасную, но и совершенно непонятную сцену на улице «Счастливой охоты»!
Где же они, где эти соучастники, сами готовые лезть в петлю, лишь бы услужить ла Ронсьеру?
Сменяясь непрерывно, разве могли они исчезнуть без всякого следа? Кто уловил малейшие черты их деятельности?
Подумайте еще минуту о положении главного виновника. Разве столь гибельные, в такой мере самоотверженные услуги возможны без ценной награды? А он бедняк, где ее взять ему, чем купить подобных агентов.
Но, возражает гражданский истец, у него есть 300 франков – он продал часы 300 франков?
Бегите же ко мне, старые слуги Мореля, бегите, у меня целых 300 франков!..
Вы привыкли и любите своих господ, а они вас, конечно, не забывают; но у меня ведь золота довольно – 300 франков, шутка сказать! Бросьте все; не смотрите, что один из вас уже потерял место и по обвинению в тяжком злодеянии сидит в тюрьме рядом со мной; идите по его стопам, презрение к невзгодам! Вздор – опасности! Я осыплю вас золотом!..
И они бегут, ничего не боятся, потому что знают его средства, – огромный капитал в 300 франков ведь налицо!
О, нищета обвинения! О, кровожадное упрямство! Как, неужели это ваши улики? Против стольких несообразностей, среди такой суматохи вздора у вас руки пустые? Из-за этого ли человек должен быть казнен? Не отсюда ли раскрывается его вина с такой очевидностью, что надо иметь мужество защищать его!.. Но есть иные данные, не отстаете вы.
Посмотрим. Его признания? Да, он сознался, и где же лучшее доказательство вины! Боже мой, боже мой! Чем стану убеждать вновь? Когда закрывают глаза пред легкомыслием и дряблостью подобного характера, если не хотят слышать противоречий, его гнетущих, когда отвращают взоры от ужаса насилий, под которыми он изнемог, что скажу я?
Именем господа умоляю вас, не забывайте же того, что происходит на ваших глазах. Суд чести, говорят ему, собрался: три эксперта опознали почерк; пятнадцать лет в кандалах – вот его участь… Несчастный пугается… Чего? Когда обвиняют, надо защищаться…
Кто говорит это, тот, разумеется, сохранил бы при таких условиях мужество и самообладание, я охотно допускаю. Они уверены в себе, эти честные советники. Но ему не хватает гражданской доблести, того холодного и спокойного духа, который, презирая угрозы, глядит буре прямо в глаза, – качество, впрочем, гораздо более редкое, чем думают.
Он, вы уже знаете, скоро теряется, путается в простейших вещах, как это ярко обнаружилось на суде.
Среди бесчисленных примеров да позволено мне будет сослаться на случай с канцлером Пойе. Глубокий юрист, красноречивейший оратор, он, будучи сам предан суду, смешался и не знал, что отвечать. Извиняясь, он сам говорит об этом в одной из своих речей.
Если канцлер Франции, оракул адвокатуры, светоч судебного мира имел право говорить подобным языком, то как не извинить замешательства и беспокойства пред уголовным трибуналом кавалерийскому офицеру?
Взгляните ж на него в тот суровый момент, когда 24 сентября, покинутый друзьями, он был устрашаем товарищами и преследуем угрозами д’Эстульи; решите, пожалуйста, владел ли он собой, мог ли не потерять хладнокровия? Был ли в силах уразуметь, чего добиваются от него, взвесить каждый шаг свой?
Увы, нет! Задумываясь о предубеждении, уже созревшем против него, об экспертах, которыми заранее осужден, о прокуроре, столь же способном ошибаться, как и другие смертные, о пятнадцатилетней каторге, вспоминая отца, который в первую же минуту следствия не замедлит очернить его, человек готов сойти с ума: спрашивает, чего хотят от него, сдается, признает… Что же именно? Будьте осторожны: маленькое письмо, единственное, ему показанное, а до того ему неизвестное – записку, скорее неприличную, чем преступную.
Тогда идут дальше, начинают угнетать его систематически. Хочешь покоя, признай своими все пасквили, даже те, которых никогда не видел. Чего же надо ожидать? Разве он уже не связан по рукам и ногам? Разве первое письмо не висит над его головой? Как устоять на пути бегства и ужаса? Погибая, он расписывается во всем, чего требуют, Рыдает, как говорят все свидетели, катается по земле, рвет волосы, – и… сознается, не уставая, однако, возражать, протестуя от всей души! А, по-вашему, в силу такого признания надо осудить его! Вы говорите, сознался, дескать, свободно и добровольно! Да разве очевидцы не осветили пред вами этой печальной картины? С какой целью закрываете вы глаза пред насилием, зачем отворачиваетесь от слез, конвульсий и припадков безумия? Зачем не хотите знать нравственных мук, под которыми он, слабый и немощный, преклонился вопреки здравому смыслу?
А потом, не видите разве, как он, едва вырвавшись из рук врагов, едва придя в себя, бросается из стороны в сторону, спешит к адвокату, какие меры принимает, дабы устранить свои признания, как среди воплей: «Я невиновен, невиновен!» – сам требует суда!
Господа присяжные! Если бы пытка существовала еще и если бы несчастный, освободившись от оков, бежавший из застенка, где только что раздирали его на части, явился бы пред вами, неужели услышал бы он: «Ты сознался – значит, виноват!». «Моя кровь лилась ручьем, я чувствовал, как трещат мои кости, и страдания победили меня», – возразил бы он; «врач, призванный палачами, сказал, смерть приближается, и я… сознался, но я невиновен!»
О, милосердный боже! Найдется ли среди всех наших обвинителей и судей кто-нибудь, готовый решить: «Ты сам признал свою вину. Я осуждаю тебя в силу этого признания…». Нет, я верую твердо, – не найдется никого! Ведь, правда, никого!
И в самом деле, господа, есть люди, как говорил я раньше, на которых душевные муки влияют гораздо сильнее физических и которых пугает одно имя уголовного суда, хотя они же не убоятся взглянуть прямо в глаза палачу; они перенесут телесные страдания, но изнемогут под гнетом нравственных.
Как бы там ни было, однако преступление совершено. Кто виноват? Ла Ронсьер? Над этим вопросом подумаем.
Обвинению противополагается, во-первых, алиби, точно доказанное Анной Руоль; знаем, как гражданский истец и прокурор опровергают ее показание: это ложь, говорят они.
Но, милостивые государи, нелегко найти в свидетели клятвопреступника тому, кто сидит в тюрьме, под уголовным следствием и под грозой общего негодования. Слыша зловещий ропот вокруг, видя конвой, его сопровождающий, лучшие друзья покидают такого человека, товарищи отрекаются или перебегают к врагам.
Где сердце, которое могло бы остаться верным такому, проклятому всеми узнику? Кому придет охота подать ему руку помощи, зная о вине его и рискуя осквернить злодеяниями себя самого?
Анна Руоль говорит правду, не сомневайтесь; а чтобы сказать ее в защиту ла Ронсьера, необходимо, будьте уверены, больше мужества, чем для всякого обвинения или злословия.
Независимо от сего, не она одна удостоверяет факт; Рене Пино, этот мальчик-подмастерье, вызванный не мной, а прокурором, подтвердил ее показание целиком.
Стало быть, вернувшись из театра домой вечером 23 сентября и выйдя вновь лишь утром 24-го, подсудимый не мог совершить преступления. Это очевидно, но не для прокурора! По его словам, ла Ронсьер виноват и должен быть казнен. За что? Не знаю, говорит прокурор… На каком основании, – не ведаю… Стою на одном: приговор да будет обвинительный!
Неслыханные речи! Домогательство беспримерное!
Итак, вы настаиваете, что именно он проник в комнату, хотя ни любовь, ни корысть, ни мщение, ни ненависть не руководили им, хотя никакая страсть, никакая выгода не толкали его туда. Он все-таки вошел. Как? Через окно. О, не ищите другого пути. В двери, запертые крепко и всегда запертые двери, он пройти не мог. Да и, кроме того, Мария Морель – а ведь она заметила, слышала и твердо помнит все – ясно видела, как он пробрался и как потом бежал через то же самое окно; она никогда не забудет его слов: «Держи крепче!», обращенных к соучастнику. Она в этом непоколебимо уверена, свидетельница Морель! Сомневаться в истине ее слов вам, конечно, не приходится, ибо это значило бы самим взорвать на воздух все здание обвинения, начиная с фундамента.
Так, значит, и запишем: ла Ронсьер проник в окно. Барышня повествует, а вы повторяете…
Надо ли мне повторять, в свою очередь, что это невозможно; хорошо ли вы слышите, господа? Невозможно!
Предпринимая осаду замка Морелей, он, говорите, ждал светлой ночи и самого яркого блеска луны. Не иначе как пред целым караулом, на глазах у часовых и на виду с моста, где постоянно идут и едут, – здесь, именно здесь, начал он, безумный, воздвигать укрепления и готовиться на приступ! А штурмовые лестницы?! Как он их добыл, где взял материалы, сто футов веревки, пятьдесят поперечин, гвозди и прочее? Напрасно искали, бесцельно допрашивали всех купцов города. Затем, по совершении преступления, куда девалось все это? Где спрятал? Как уничтожил? Все осмотрели, все перерыли, малейшего следа не нашли!
Куда он привязывал лестницу? Невозможно ведь было довериться силе человека, который держал бы верхний конец ее руками. Ищите же следов ее укрепления на чердаке или на полу, потолке, на откосах окна или стенах комнаты Марии… Нашли? Скажите, где они!?
А! Вы ничего открыть не в состоянии, и вот, стало быть, еще вопрос, на который, что бы ни делали, вы не можете дать ни ответа, ни объяснения…
Но это не все, далеко не все. Есть еще факт важности очевидной: факт поразительный, решающий.
Будучи привязана к чердаку и опускаясь вдоль стены, на чем лежит верхняя часть веревки? На окраине крыши – грифельном выступе под окном мансарды, затем на жестяном водосточном желобе.
Счастливая мысль обвинения!
Оно готово торжествовать… Мы говорим, что в комнату не входил никто и лестницы никто не вешал, и вот нас изобличают, стыдят. Опираясь на хрупкие края аспидных досок и на столь легкий металл, как жесть, веревка не могла не оставить глубокого следа на всем протяжении. Вот он, – должны бы указать вы…
Но нет! Малейшей царапины не существует; нет ее, говорю вам, и вы абсолютно ничего возразить не можете!
Окраина исправна и по-прежнему остра; грифель не тронут, желоб не изогнут, даже не задет! Как? Взрослый человек качался на этой веревке, а все осталось нетронутым?
О, не пытайтесь утверждать нечто подобное, ибо сомневаюсь, чтобы в целом свете кто-либо мог поверить вам… Понимаю, что для осуждения ла Ронсьера вам необходимо настаивать, будто он проник через окно. К сожалению, у него есть непререкаемые свидетели, которые окончательно спутывают ваши расчеты. Это свидетели немые, конечно, но они гораздо важнее и заслуживают большего доверия, чем все, вызванные вами и одаренные словом. Что скажете по этому поводу, как избавитесь от них? Ведь здесь ни выгода, ни вражда, ни предубеждение общества уже совсем ни при чем.









































