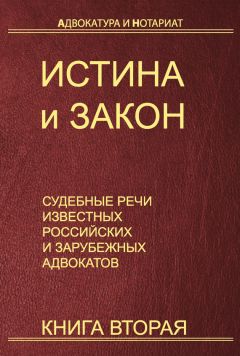
Автор книги: Маша Царева
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Известно, далее, что если последим за обвиняемым еще, мы на каждом его шагу встретим препятствия неодолимые.
Раздобыв лестницу и укрепив ее на чердаке, он протягивает ее вниз, не оставляя следов. Я отказываюсь уразуметь, как это случилось; вы равным образом ничего объяснить не в силах. Но пусть так, не будем спорить. Теперь, согласитесь, предстоит гибельное путешествие. Повиснув на лестнице, перекинутой через выступ крыши, в расстоянии 45 футов от земли и 20 от окна, в которое надо прыгнуть, он имел, разумеется, причины волноваться, подымаясь, а в особенности, когда, убегая, должен был поймать веревку вновь. Это, без сомнения, рискованная эквилибристика; надлежало, по крайней мере, обеспечить себе полную свободу движений.
И что же? Ла Ронсьер, наоборот, одевается в длинную и широкую военную шинель, да еще берет на голову кивер. Что же далее? Вещь удивительная – среди таких головоломных маневров даже кивер не слетел вниз. Именно в этом облачении явился мой клиент пред барышней Морель.
Чтобы добраться к ней, вы знаете, что он делает. Раскачавшись на лестнице, он прыгает на подоконник, где нет ни балкона, ни решетки и где ухватиться не за что… тогда, едва держась на этом узком пространстве, ежеминутно рискуя потерять равновесие и изуродовать себя насмерть, он должен разбить раму. Он, понятно, спешит, кулаком вышибает стекло прямо пред собой, в отверстие протягивает руку, отодвигает задвижку и входит. Нет, да нет же! Взгляните, ради бога! Он нагибается, приседает на корточки и разбивает стекло в нижнем углу окна! Когда, наконец, отверстие сделано, когда стекло разбито, он протягивает руку и раскрывает окно!
Да, вы так рассказываете. Но, увы! Отверстие оказывается чересчур малым и слишком удалено от задвижки; оказывается, что обвиняемый, как бы вы ни заставляли его изгибаться, не может просунуть руку и открыть… Таково удостоверение стекольщика Жорри; вот что повторяет он уже в течение восьми месяцев, вот чего не удается вам опровергнуть еще раз.
Забудем и это. Ла Ронсьер вошел через окно? Так говорит Мария Морель, то же приходится утверждать вам самим, ибо без этого ее показание ложно, а следовательно, нет места обвинению против нас.
Прекрасно, объясните же, по крайней мере, дальнейшее. Мотивируете ли вы чем-нибудь? Ведь не я же обязан помогать вам. Предъявляя обвинение, вы призваны истолковать все, представить всему доказательства. Будучи обвинителем, вы неизбежно терпите поражение, когда настаиваете на деянии невероятном, на преступлении невозможном. Вы принуждены отступить, и самое красноречие ваше, оружие, страшное против злополучного подсудимого, не спасет вас, а погубить нас не в силах.
Не вправе ли я сказать: ла Ронсьер не был в комнате Марии, он не мог туда проникнуть? Тому препятствием, кроме несообразностей моральных, служит невозможность физическая, определяемая силой вещей, а потому непобедимая.
Не время исчерпывать все неправдоподобие данных обвинения, все колебания главной свидетельницы, которая объявила сперва, что не узнала нападавшего, говорила на другой день, что, кажется, не ошиблась, а гораздо позже, на судебном следствии, уже стала утверждать, что признала несомненно. Сколько раз изменяла она сама себе, как часто противоречила, себя же самое опровергая? Не смею утруждать вашего внимания новыми тому доказательствами.
И, однако, какова мелочность ее воспоминаний, какая точность в показаниях! Все-то она видела, все-то заметила; о мельчайших подробностях повествует храбро, не пропуская жеста, слова обвиняемого, не забывая упомянуть ни о галунах его кивера, ни о выпуклой форме его пуговиц.
Но вот о чем мне никак позабыть нельзя, чего не можете упустить из виду и вы, это хода событий в комнате, непостижимой сцены, о которой здесь так долго повествовали.
Где возьму я сил, где найду выражений, чтобы уяснить пред вами, до какой степени это вздорно, в какой мере невозможно!
Стекло разбито, и осколки рассыпались по полу; в то же мгновение барышня просыпается, вскакивает с постели и хватает стул, чтобы сделать из него барьер – защиту, явно безнадежную.
Да, я узнаю здесь ту самую Марию Морель, которая давала показание пред нами таким спокойным голосом, глядя нам прямо в глаза и сохраняя полное хладнокровие. Да, я узнаю ее; вид опасности нисколько не поразил ее, а для предстоящей борьбы она сохраняет все силы и здравое самообладание. Но скажите мне, пред лицом опасности, бросаясь с кровати, вооружаясь стулом и ожидая злоумышленника, открывающего в эту минуту окно, кто притворил дверь в соседнюю комнату?!
Среди наступившей затем борьбы, объясните, почему она не кричала? Ведь малейший зов на помощь должен был ее спасти… Зачем же молчит она?
Разумея глубокое значение вопроса, мой противник своим могучим, чарующим голосом прибегает для ответа мне к одному из тех фейерверков слова, которые столь нередко и так счастливо помогали ему выходить из беды.
«Зачем не кричала она?» – говорит господин Одиллон Барро. «А, бедное дитя! В страшной тишине оно искало погребения злодейству, которым осквернено! Оно жаждало покоя в целомудрии своем! Смягчая позор, укрывая наготу свою, юное создание могло утешать себя так: разве чужому нельзя было видеть меня, нагую, случайно?»
Допустим. Когда преступление совершено, да хранит она молчание, да скроет свой стыд. Пускай! Но вот чего понять невозможно: раньше, до события, когда ей надо защищаться, когда сила духа не покидает ее, предлагая средства все видеть, разуметь и запомнить, почему в это время не кричит она? Вот о чем я спрашиваю, и вот на что все красноречие ваше не может придумать ответа.
А мисс Аллен? О, вы знаете, как крепко спит она. Из всего этого шума, из этой грозной суматохи ничто не в силах разбудить ее. Осложняясь такими ужасами, происходя среди стольких разговоров, данная сцена оканчивается в двух шагах от нее, почти в ее комнате, сначала при открытой, затем – едва притворенной двери… Ничто не нарушает ее праведного сна.
Ничто? Нет, я ошибаюсь: когда дело готово, она просыпается, наконец. Великий боже! Мария молит о помощи! Бегите же, бегите! Что же это такое? Дверь закрыта, чего не бывало никогда, слышатся два голоса… Два, а не один! О, несчастная девушка, ей грозят, оскорбляют, могут убить ее! Спешите, стучите ногами, в нижнем этаже услышат вас, кричите, зовите на помощь. Кричите же, мисс Аллен!.. Ни звука!
Неосторожный до безумия человек, которого малейший крик мог погубить и который, однако, рискнул такой сложной и опасной дорогой идти один, неведомо из-за чего, на верную смерть, вот он пробрался в комнату двух девушек и… вернулся, чудесным образом спасенный, благодаря только вашему молчанию.
Не сомневаясь в своей погибели с первых шагов предприятия, вот он завершил его и благополучно скрылся!
Что дальше? Вы знаете… Да и, кроме того, я чувствую, что надо кончить; мой голос, видимо, слабеет. Известно, что оскорбленная, израненная Мария остается в своей спальне, утопая в собственной крови; вы знаете, что не пошла она, не кинулась в объятия родной матери, не стала рыдать на ее груди, а снова легла в постель; что утром, в шесть часов, она уже видит ла Ронсьера улыбающимся и торжествующим под ее окнами; он бравирует своим чудовищным деянием, тщательно заботясь сохранить подробности, им же сказанные и подписанные, с одной стороны, и поразительно ловко скрывая материальные его следы – с другой.
Не забыли вы также, что раньше четырех дней вслед за происшествием барышня, вопреки нравственному угнетению своему и невзирая на синяки, которыми была покрыта, ни на тяжкие раны свои, наряжается, декольтируется и спешит украсить своим присутствием карусель и бал 28 сентября.
Небезызвестно, далее, что ее мать, ее мать – о господи! – не предложила ни одного вопроса о ее побоях и ранах, даже не ведала этих страшных ран.
Припомним, наконец, во сколько приемов и при условии, что никто, даже родная мать, этого не видел, Мария Морель ставила себе пиявки!
Спросим же себя, господа: таков ли был истинный ход событий?
Нет, тысячу раз нет. Ряд всевозможных несообразностей, очевидная невероятность подобных рассказов противоречат здравому смыслу, возмущают совесть мою.
Одна только вещь беспокоит меня – болезнь девушки; раз врачи удостоверяют ее существование, я не вижу причины спорить.
А когда я слышу ваш голос, мои мысли спутываются. Когда блеск ваших доводов увлекает меня, когда я вижу слезы на глазах, когда вы говорите нам о нестерпимой обиде, о позоре и страданиях, когда рисуете картину горя и печали целой семьи, не одно чувство удивления, нет, а тоже слезы и тоже стенания вызываете у меня вы. В эти минуты, сознаюсь, мои подозрения начинают казаться излишними, даже мне самому… Невозможно, говорю я себе, чтобы молодая девушка сочинила такой гнусный роман. И, однако, какая масса вопросов остается тогда без ответа!
Первые анонимные письма, пасквили 1833 года, ее бумага, ее почерк, тайны, которых посторонний никак знать не мог; факт, что инкриминируемые послания собирались именно и постоянно вокруг Марии; ее необыкновенные на каждом шагу, неправдоподобные, исполненные вопиющих противоречий рассказы; ее поведение и надо всем этим сцена, описанная Брюньером, – каким образом могло все это случиться, если бы не участвовала сама Мария Морель и при условии ее полной невиновности?
Ничего не понимаю! Но ведь разгадать тайну обязан не я. Мой долг лишь убедить вас, что не ла Ронсьер виноват.
И я говорю это открыто. На основании элементов следствия объективно доказываю перед вами, завершая, таким образом, искус, который, может быть, требовал известного мужества и перед которым, надо признать, я долго колебался…
Но это благородная задача!
Позвольте сказать вам, милостивые государи, – у адвоката нет цели возвышеннее, нет священнее права, чем когда в бою с предвзятым общественным мнением и вопреки слепой энергии предрассудков охраняет он жизнь несчастного и напрягает все силы в защиту ее от людей, которые судят, не ведая, решают, не думая, спешат, не слушая никаких возражений, исполнить приговор, единственно по уликам прокурора и заботятся разве о том, чтобы, смутив ваш ум, отравить его недоверием и злобой к обвиняемому!
Чистота и святость нашего призвания таковы, что в момент, когда истязуемый невинно, покинутый родными, отвергнутый друзьями и оклеветанный целым миром человек готов потерять веру в людей и добро, он рядом с собой видит защитника, который, подобно духовнику, готов отдать за него душу, а среди негодующих криков толпы сопутствует ему до самого эшафота и возносит его непорочное сердце к престолу всевышнего!
Итак, судьба этого невинного человека да будет и моей! Никакие предубеждения, какой бы то ни было ропот не заглушат моей совести. Я подымаю голос за ла Ронсьера, – он прав пред людьми!..
А вы, господа, идите, в свою очередь, исполнить долг свой! Положа руку на сердце, созерцая мрак, окружающий дело, памятуя несообразности, гнетущие нас со всех сторон, и задумываясь над тайной, которая, очевидно, существует здесь, но раскрыта быть не может, – произнесите вердикт.
Идите! Жизни или смерти ожидаем мы от вас!
Приговор по делу ла Ронсьера: лишить подсудимого всех прав состояния, заключить в тюрьму сроком на 10 лет.
Дело братьев Келеш
Братья Келеш были заключены под стражу по обвинению якобы учиненного ими пожара на табачной кладовой, им же принадлежащей, из корыстных побуждений с целью незаконного получения страховой премии. Обвинение строилось на слепой людской подозрительности, досужих домыслах, сплетнях недоброжелательных братьям Келеш людей.
Так нередко случается, что обвинение придает гипертрофированное значение зыбким в своей правдивости фактам и упорно не замечает того, что случайно брошенная кем-то недокуренная папироса оказалась роковой причиной возгарания табачной кладовой братьев Келеш.
Ослепленное верой в свою непогрешимость обвинение попадает в рабство к своему собственному предустановленному взгляду. Следователь и обвинение забыли, что суеверное, а потому и слепое, отношение к заключению экспертизы, показаниям свидетелей обладает роковой фатальностью, приводящей к вынесению неправосудного приговора. Неосторожное обвинение поощряет низость заурядной публики, которая всегда относится злорадно ко всякой клевете, ко всему, что чернит людей.
Легкомысленное обвинение безнравственно!
Интересы братьев Келеш в судебном заседании защищал С. А. Андреевский[5]5
Сведения о С. А. Андреевском см.: Истина и закон. Кн. 1. Ч. I: Трагедии любви. С. 49–50.
[Закрыть].
На долю братьев Келеш выпало, господа присяжные заседатели, большое несчастие – быть под судом по тяжкому обвинению. Я говорю «несчастие», потому что удар этот для них случайный и решительно не заслуженный, в чем вы легко убедитесь, если сколько-нибудь спокойно отнесетесь к делу. Дело это представляет поучительный пример того, сколько беды могут натворить сплетни, недоброжелательство и слепая людская подозрительность.
Здесь поставлено против братьев Келеш обвинение в поджоге с корыстной целью, ради страховой премии. Каждое обвинение можно сравнить с узлом, завязанным вокруг подсудимого. Но есть узлы нерасторжимые и узлы с фокусом. Если защита стремится распутать правдивое обвинение, то вы всегда видите и замечаете, какие она испытывает неловкости, как у нее бегают руки и как узел, несмотря на все усилия, крепко держится на подсудимом. Иное дело, если узел с фокусом. Тогда стоит только поймать секретный, замаскированный кончик или петельку, потянуть за них, – и все путы разматываются сами собою – человек из них выходит совершенно свободным.
Такой кончик торчит в этом деле довольно явственно – он даже почти не замаскирован – и я ухвачусь прямо за него. Это вопрос: да был ли еще самый поджог? Это история самого пожара. Если вы ее проследите, то непременно увидите, что здесь пожар мог произойти только случайно, а затем уже – если не было никакого преступления, то нечего рассуждать и о виновниках.
16 января в 6 часов вечера табачная кладовая братьев Келеш была заперта контролером Некрасовым. В 12 часов ночи внутри этой кладовой обнаружились признаки пожара. Спрашивается, как же он мог произойти? Кто и как мог туда проникнуть? Замок, ключ от которого хранился у контролера, оказался запертым и неповрежденным. Приложенная печать задерживала дверь своим липким составом и, следовательно, не была снята. Других ходов в кладовую не существовало и проложено не было. Правда, Бобров, домовладелец, предлагает нам остановиться на предположении, что туда можно было проникнуть через форточку, а до форточки на четвертый этаж добраться по лестнице или по водосточной трубе. Но будем же рассуждать в пределах возможного и не станем допускать сказок. Приставленной лестницы никто не видел, а для того чтобы лазить по водосточной трубе до четвертого этажа, нужно быть обезьяной или акробатом – приучиться к этому с детства, а братья Келеш – 40-летние люди и гибкостью тела не отличаются. Наконец, ведь форточка на четвертом этаже запирается изнутри: если бы она была оставлена при зимней стуже открытой, то контролер Некрасов, запирая кладовую, заметил бы это, да и все окна успели бы оледенеть. Притом форточки делаются не в нижней витрине окна, а повыше, перегнуться через нее телу любого из Келешей мудрено – нужно было бы разбить окно, но все окна при пожаре найдены целыми. Итак, если не допускать сказки, если не верить, что кто-нибудь из Келешей мог забраться комаром в щелочку или влететь в кладовую через трубу, как ведьма, – то нужно будет признать, что с той минуты, как Некрасов запер кладовую, и до того времени, когда через шесть часов обнаружился в ней пожар, и кладовая по-прежнему была заперта, – никто в нее не входил и не мог войти. Отсюда один возможный вывод, что неуловимая, недоступная для глаза причина пожара, микроскопическая, но, к сожалению, действительная, уже таилась в кладовой в ту минуту, когда «прошабашили» и когда Некрасов запирал кладовую. Вывод ясен, как божий день. Все, что мы находим в деле, подтверждает его. Прежде всего, вспомните показания О. Некрасова, одного из муравьевских свидетелей и, следовательно, не склонного нам потакать, вспомните его показания о том, что еще в десять часов вечера, то есть за целых два часа до того, как сильный запах гари и туман дыма вызвали настоящую тревогу – еще за целых два часа до этой минуты, О. Некрасов уже чуял в воздухе соседнего двора тонкий запах той же самой гари, только послабее. Вспомните и то, что огня вовсе не было видно даже по приезде пожарных. Были только смрад и дым. Первое пламя занялось тогда, когда выбили окна и впустили в кладовую воздух. Что же все это значит? Все это именно значит то, что причина пожара была крошечная, действовавшая очень вяло, очень медленно, едва заметно, – причина такая слабая, что она вызывала только перетлевание, дымление, чад и не вызывала даже огня. Только пустяк, только непотушенная папироска, запавшая искорка могла действовать таким образом. От искорки где-то затлелся табак. Воздух сухой в кладовой, нажаренный амосовской печью: табак тлеет, дымит, пламени не дает, но жар переходит от одного слоя табака к другому; чем больше его истлело, тем больше просушились соседние слои – тихонько и тихонько работа внутри кладовой продолжается. Надымило сперва редким дымом, а потом и погуще. Вот уже дыму столько, что его тянет наружу, потянулись струйки через оконные щели на воздух, стали бродить над двором фабрики, потянулись за ветром на соседний двор, но еще мало, на морозном воздухе их не расчуешь, да если почуешь, то не обратишь внимания. Но вот дымный запах крепчает на фабричном и на соседнем дворе. Его уже довольно явственно слышит Некрасов. Но и тот не придает ему значения: мало ли, дескать, отчего и откуда, в зимнюю пору дымить может. Еще два часа проходит, и гарь так постепенно, так медленно и неуловимо увеличивается, что только к концу этого срока жильцы двух соседних дворов озаботились и стали доискиваться причины. И даже в это время, собственно, пожара, то есть огня, не было; все дым да дым валит и не разберешь откуда.
Если, таким образом, вы вспомните, что после того как дым уже пробился наружу, прошло более двух часов, прежде чем он стал настоящим образом обращать на себя внимание, то вы, конечно, признаете, что для внутреннего процесса тления нужно положить также немалое и во всяком случае еще большее количество часов, и для вас станет ясно до очевидности, что в 6 часов вечера кладовая была заперта контролером Некрасовым уже с невидимой, но готовой причиной будущего пожара. Это была забытая папироска, запавшая искра, что-нибудь такое маленькое – я в точности не знаю, что (ведь истинная причина большинства пожаров неизвестна) – но для меня не важен вопрос: что именно? Для меня важен вопрос: мог ли прибегнуть к такой причине, к такому медленному и неверному средству человек, который желает, умышляет, заботится, устраивает так, чтобы пожар произошел непременно? Вот что важно для меня. И для меня ответ несомненен: нет, не мог. Такие шутки выкладывает только случай, а не умысел. Попробуйте в самом деле зажженной папироской сделать пожар – мудреное дело, а сколько пожаров происходит именно от неосторожно брошенной папиросы. Вот, положим, вы курите и занимаетесь, кладете возле себя зажженную папиросу или сигару, иногда бывает, что каждый раз, как вы ее оставляете, она потухнет, и вам приходится ее вновь зажигать, а иной раз запишитесь, зачитаетесь – глянь: а между тем вся папироска до конца сгорела на пепельнице.
Иной раз табак горит успешно, иной – нет: дотлеет до какого-нибудь корешка – и стой! – попадется сырая ниточка и – кончено. И кому же лучше знать эти свойства табака, как не табачному фабриканту? Он ли, бросив папиросу в табак, может себя считать обеспеченным, что пожар непременно произойдет? Ему должно быть известно, что табак тлеет медленно и не дает пламени. Поджигатель бы непременно взял себе в союзники керосин, стружки и всякие другие горючие материалы. Но ничего этого здесь не было. И не было не только потому, что якобы подозрительная куча мусора на месте пожара была не что иное, как истлевший табак, бумага и папиросы (как говорили Саханский и Ляпунов), но и потому, что до приезда пожарных не было вовсе пламени, а горючие материалы непременно дали бы пламя. Поэтому уже если не смазывать табак керосином и не подкладывать горючих веществ, то поджигателю неминуемо следовало предвидеть, что для успеха горения нужно сделать тягу, дать доступ воздуху, открыть где-нибудь форточку или выбить окно – иначе далее чада и тления дело не пойдет. Но и этого сделано не было. Таким образом, вся история пожара громко говорит нашей совести и ясно доказывает нашему уму, что пожар этот не задуман человеком, а вызван непредвиденным случаем. Здесь, собственно, и окончена моя защита; секретная петелька в узле поймана, весь узел распутывается: после этого ясно установленного факта для меня не существует в деле ничего важного и опасного. Никакой подозрительный намек, никакая сплетня, пущенная про подсудимых, меня не пугают. И действительно, остаются одни пустяки и натяжки.
Какое после этого нам дело до страховой премии. Если бы даже было доказано, что пожар был выгоден подсудимым, – разве из этого следует, что непременно они его и вызвали? Если мой враг умер естественной смертью, то разве можно обвинять меня в убийстве только потому, что я мог желать его смерти? Конечно, нет. Но здесь и выгод от пожара не существовало. Фабрика была застрахована на 25 тысяч и застрахована не в первый раз в этом году, как говорится в обвинительном акте, а страховалась и прежде. Застрахована, кажется, по чести – в своей цене; по крайней мере, Михайлов страховал, он лучше других знает и удостоверяет это. А что другие господа низко ценят фабрику – то ведь зато и как фантазируют – от 13 до 15 тысяч, со всеми промежутками, сколько кому угодно! А что же получили Келеши? Всего 8 тысяч. А куда девали их? Спрятали? Нет, все до копейки роздали за долги. Да еще в тюрьме сидят и торговлю прекратили. Нечего сказать, выгодная афера. Заметьте еще, что ничего ни из кладовой, ни из фабрики не спрятали, не вывезли. А дела были плохи. Уж если затевать поджог, так и товар, и обзаведение припрятать, а сжечь пустые стены. Мало того: уж если поджигать, то не кладовую, в которой находится сравнительно малоценное имущество (так оно по разверстке и вышло, за кладовую всего 8 тысяч), а поджигать самую фабрику, где было все подороже, да и где можно было без неудачи устроить поджог, потому что она не заперта, как кладовая, и находилась всегда в полном распоряжении братьев Келеш.
Стоит ли мне разбирать остальные улики?
Сцена у ворот… Как она искажена в обвинительном акте! Будто Келеш за пять минут до пожара подъехал, запер ворота и никого не пускал. Что же это он делал? Поджигал? Или прятал? К чему уж ему тут было скрываться? А если за шесть часов не разгорелось, то и в пять минут пожара не будет. То же надо сказать о запирании и отпирании дверей.
Но лучше всего – забитое окно… Какой в нем смысл? Чем оно служило для поджога? В действительности оказывается, что окно было забито для предупреждения пожара, но пожара иного свойства – от пламени страстей, потому что оно вело в секретное место для работниц фабрики. Двукратное дознание ничего из этого дела не сделало. Ничего и не выйдет. Мокрое дело не может возгореться, да стыдно будет не Келешам – они не поджигали, – а тем иным поджигателям, их врагам, которые раздули это дело…
Братья Келеш были оправданы. Присяжными заседателями был отвергнут сам факт поджога.









































