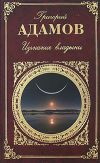Текст книги "Союз еврейских полисменов"

Автор книги: Майкл Чабон
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
3
Ветер снаружи небрежно стряхивает дождичек со своего развевающегося плаща. Ландсман притулился в тамбуре гостиницы. Снаружи двое борются с непогодой, стремятся ко входу в «Жемчужину Манилы». Одного оседлал футляр виолончели, другой прячет от дождя скрипку, не то альт. Городская филармония находится в десятке кварталов от этого конца Макс-Нордау-стрит и вообще в ином измерении, но нет в мире силы, которая бы смогла удержать еврея от желания причаститься к свиной отбивной, хорошо прожаренной, но сочной, смачной, желанной, как нежная возлюбленная. И уж конечно, не справиться с этим желанием какой-то там темной ночи и жалким порывам ледяного ветра с залива. Сам Ландсман тоже героически борется – с призывами комнаты номер пятьсот пять и находящейся в ней бутылки сливовицы, рядом с сувенирной рюмашкой-стопариком Всемирной выставки.
В качестве стратегического контрманевра Ландсман раскуривает папиросу. Десять лет не курил, но вот года три назад снова схватился за соску. Жена его тогдашняя носила во чреве своем – в каком-то смысле долгожданная беременность. Первая. Но не запланированная. Как и в случае многих беременностей, о которых слишком долго рассуждают, в отношении отца наметилась некоторая двойственность, амбивалентность. Через семнадцать недель и один день – в этот день Ландсман купил первую за десять лет пачку «Бродвея» – их ошарашили неблагоприятным прогнозом. Многие – хотя и не все – клетки, составлявшие плод, уже носивший кодовое наименование Джанго, выявили в двадцатой паре лишнюю хромосому. Это обозначалось термином «мозаицизм» и могло повлечь тяжелые отклонения в развитии. А могло и вообще никак не проявиться. В литературе по данному вопросу оптимист мог найти основания для надежды, а маловер – для отчаяния. Точка зрения Ландсмана, не просто маловера, а ни во что не верующего, возобладала, и какой-то врач с полудюжиной ламинарных расширителей разорвал нить жизни Джанго Ландсмана. Через три месяца Ландсман со своими сигаретами покинул дом на острове Черновиц, в котором жил с Биной в течение почти всех пятнадцати лет после свадьбы. Нельзя сказать, что его изгнало оттуда чувство вины. Но чувство вины плюс Бина… слишком много, не вынести.
По направлению ко входу в «Заменгоф», прямо на Ландсмана, целеустремленно пыхтит старик. Коротышка, не выше пяти футов. Волочет за собой здоровенный чемодан на ручной двухколесной тележке. Длинное белое пальто нараспашку, под ним белый костюм-тройка, на голове белая же широкополая шляпа, нахлобученная по самые уши. Борода и пейсы тоже белые, густые, но в то же время пушисто-дымчатые. Чемодан – какое-то музейное чудище из потертой парчи и чуть не до дыр протертой кожи. Правая часть тела деда сжалась под тяжестью чемодана-монстра, наполненного, похоже, исключительно свинцовыми отливками. Старик останавливается и поднимает палец, как будто обращаясь к Ландсману с вопросом. Ветер играет его бакенбардами и полями шляпы. С бороды, подмышек, рта, костюма ветер срывает запахи табака, пота и человека, живущего на улице. Ландсман отмечает цвет ботинок старика: желтоватой слоновой кости, как и борода. По бокам ботинок взбираются вверх и исчезают под штанинами кнопки.
Знакомое явление. Это Ландсман тоже отмечает. Знакомое по тем временам, когда он еще задерживал Тененбойма за мелкие кражи, незаконное приобретение и хранение… Дед этот тогда не был моложе – да и сейчас не постарел. Народ величал его Илиею, поскольку имел он обыкновение появляться в самых неожиданных местах со своей коробкою-пушке и с видом, что он вот-вот разразится чем-то весьма информативным.
– Дорогуша, – обращается дед к Ландсману. – Это, что ль, постоялый двор «Заменгоф»?
Идиш его звучал несколько экзотически, с налетом голландского, как показалось Ландсману. Старец согбенный, хлипкий, однако лицо его, если отвлечься от лучиков морщин, исходящих от глаз, чуть ли не юношеское, морщин как будто и вовсе никаких. Глаза, как принято выражаться, горят молодым задором, что сильно озадачило Ландсмана. Вряд ли задор этот могла вызвать перспектива провести ночь в отеле «Заменгоф».
– Совершенно верно, – подтверждает Ландсман и протягивает Илие-Пророку пачку «Бродвея». Тот вытаскивает две папиросы, одну отправляет в реликварий нагрудного кармана пиджака. – С горячей водой. И холодной. Лицензированный шамес на страже безопасности постояльцев.
– А ты, милок, значит, приказчиком будешь?
Ландсман улыбается, отступает в сторону, показывает внутрь.
– Нет, администратор там, в холле.
Но кроха-старик стоит, не желает покидать уютный дождь, борода его развевается, как белый флаг перемирия. Он озирает безликий фасад «Заменгофа», его слепые окна, серые в уличном освещении, окна-щели, прорезанные в грязном белом кирпиче. Всего три-четыре квартала от кричащей, пестрой Монастир-стрит. Неоновая вывеска «Заменгофа» мигает ночным кошмаром постояльцев «Блэкпула».
– Заменгоф, – повторяет старик, косясь на беснующиеся буквы вывески. – Не Заменгоф… Заменгоф…
По улице поспешает латке, нахальный салага по фамилии Нетски, придерживает рукой широкополую форменную шляпу.
– Детектив, – пытается доложиться латке, теряет дыхание, кивает деду. – Привет, дедуля. Детектив, извините, срочный вызов, задержался на минутку. – От Нетски пахнет свежевыпитым кофе, на правой манжете его синей куртки белеет сахарная пудра. – Где покойник?
– В двести восьмом, – просвещает его Ландсман и еще на шаг отступает в сторону, поворачивается к деду. – Ну, как, дедуля, заходим?
– Нет, – отвечает Илия беззлобно, чуть ли не ласково. С сожалением? Или с мрачным удовлетворением человека, привыкшего испытывать разочарования? Рьяный блеск глаз скрылся за пеленою слез. – Я просто поинтересовался. Спасибо, офицер Ландсман.
– Детектив, – поправил Ландсман, удивленный памятью старика. – Вы меня помните, дедуля?
– Помню, все помню, дорогой. – Илия вытаскивает из кармана пушке – деревянную шкатулочку-гробик размером с портсигар. Коробка выкрашена в черный цвет, на ней надпись на иврите: «Л'ЭРЕЦ ИСРОЭЛЬ». В коробке узкая прорезь для монет или сложенных долларовых бумажек. – Скромное пожертвование?
Никогда еще Святая Земля не казалась евреям Ситки столь отдаленной и недосягаемой. Она затерялась где-то на другой стороне планеты, и управляют ей люди, объединенные решимостью не пускать туда никаких евреев, кроме горстки самых запуганных и мелких. Полстолетия арабские воротилы и мусульманские террористы, персы и египтяне, социалисты, националисты, монархисты, пан-арабисты и пан-исламисты, традиционалисты и партия Али вонзали зубы в Эрец Исроэль, окончательно обескровив ее. Иерусалим утопает в намалеванных на стенах лозунгах и в пролитой на улицах крови, столбы и шесты украшают отрубленные головы. Правоверные евреи по всему земному шару не оставили надежд однажды поселиться на земле Сиона, но… трижды надежды евреев терпели крах. В 586-м до Эры Христа, в 70-м и, со свирепой окончательностью, в 1948-м. Далее правоверным трудно сохранять надежды с учетом этой отрезвляющей реальности. Ландсман вытащил бумажник, сложил двадцатку и засунул ее в подставленную ему коробочку пушке.
– Удачи, – сопроводил он исчезнувшую в щели купюру пожеланием.
Старичок двинулся с места, потянул за собой тележку с чемоданом. Ландсман вытянул вперед руку, остановил Илию, придерживая за рукав. В сознании его складывался детский вопрос о желании его народа обрести дом свой. Илия повернулся к нему с видом привычно усталым. Да уж, от этого Ландсмана всего ждать можно. Хлопот потом не оберешься. Ландсман почувствовал, что вопрос растворился, исчез, как никотин, вымываемый кровью.
– Что у вас в чемодане, дедуля? Тяжелый.
– Книга.
– Всего одна?
– Очень большая.
– Долгая история?
– Очень долгая.
– О чем?
– О Мессии. А теперь отпусти меня.
Ландсман убрал руку. Старик выпрямился, вскинул голову. Глаза снова сверкнули, выглядел он гневным, недовольным и вовсе не старым.
– Мессия грядет! – провозгласил он. Не скажешь, что угроза, но теплоты в этом предупреждении об искуплении тоже не наблюдалось.
– Самое время, – ухмыльнулся Ландсман, ткнув большим пальцем за спину, в сторону отеля. – Там как раз одно место освободилось.
Илия оскорбленно нахмурился, открыл коробочку, вынул сложенную двадцатку и вернул ее Ландсману. Не говоря более ни слова, подхватил тележку, надвинул шляпу поглубже и зашаркал прочь, в дождь и ветер.
Ландсман сунул смятую ассигнацию в карман, расплющил каблуком окурок и вернулся в отель.
– Кто этот дед? – спрашивает Нетски.
– Его кличут Илией. Совершенно безвреден, – отзывается Тененбойм из-за стальной сетки окошечка регистрации. – Все время бормочет о Мессии. Постоянно слоняется по городу. – Тененбойм постучал золоченой зубочисткой по зубам и продолжил: – Послушайте, детектив, этого я вам, возможно, не должен говорить… Но могу и сказать, подписки не давал. Администрация завтра отправляет письмо…
– Ну-ну…
– Гостиницу собираются продать сети отелей из Канзас-Сити.
– А нас всех выкинут?
– Не знаю. Все возможно. Никто ничего не знает. Но и это не исключено.
– Об этом тоже говорится в письме?
– Там сплошная канцелярщина, аж зубы сводит.
С соответствующими наставлениями помалкивать и посматривать Ландсман поставил Нетски у входа.
Криминалист «кладбищенской» смены Менаше Шпрингер ворвался в отель и одной рукой сразу принялся отряхивать свою меховую шапку. В другой руке Шпрингер сжимал фонтанирующий зонтик, с которого лились на пол потоки уличного дождя, в третьей – хромированную двухколесную тележку, к которой прилепились примотанные клейкой лентой виниловая коробка с инструментарием, пластиковая авоська с выполненной крупными, четкими буквами совершенно нечитаемой надписью и пластиковая же корзина. На последней тоже крупные, четкие буквы, но надпись вполне можно разобрать почти не глядя: «EVIDENCE». Вещдоки.
Шпрингер изящен, как пожарный гидрант, ноги его грациозно изогнуты коромыслами; вместе с руками примерно такой же длины и исполненными такой же грации они крепятся к голове без помощи отсутствующих туловища и шеи. Голова представлена могучими челюстями и лбом глубокой вспашки, выпуклостью напоминающим ульи – символ тогдашней тяжелой индустрии на средневековых гравюрах.
– Уезжаешь? – вопрошает Шпрингер вместо приветствия. Собственно, в последнее время этот вопрос превратился в весьма популярное приветствие, вполне логичное. В последние годы население бежит из города, бежит, куда может. Туда, где не хватает населения, не хватает кадров. В местечки, жителям которых надоело слышать об этих самых «pogroms» из лживых уст средств массовой информации, представителям которых хотелось бы поближе узнать, что это за штука такая. Ландсман отнекивается, разъясняет, что, насколько ему известно, он никуда не уезжает. Большинство мест и местечек, принимающих евреев на постоянное проживание, требуют, чтобы за них поручился какой-нибудь уже осевший там близкий родственник. Вся родня Ландсмана – покойники либо жители той же Ситки.
– Тогда – пожмем друг другу руки – и, прощай, мой друг, прощай! Завтра в это же время меня согреет солнце саскачеванского заката.
– Саскатун? – гадает Ландсман.
– У них сегодня тридцать ниже нуля, – кивает Шпрингер.
– Всяко бывает, – утешает Ландсман. – В этом роскошном отеле пожить не хочешь?
– «Заменгоф»? – Шпрингер вспоминает досье Ландсмана и хмурится, когда у него в памяти всплывают остальные подробности биографии детектива. – Родина, милая родина…
– Вполне соответствует моему теперешнему социальному статусу.
Шпрингер улыбается с гомеопатически отмеренной дозой сожаления… или жалости.
– Где покойник? – меняет он тему разговора.
4
Первым делом Шпрингер ввинтил вывинченные и закрутил до конца ослабленные Ласкером лампочки в светильниках. Напялив на глаза защитные очки, приступил к работе. Выполнил покойнику маникюр и педикюр, распахнул ему рот, поискал там откушенные пальцы и спрятанные за щеку дублоны, принялся пылить вокруг порошком для выявления отпечатков пальцев. Вытащив «Поляроид-317», общелкал труп, общелкал комнату, снял прошитую пулей подушку, выявленные отпечатки. Сфотографировал шахматную доску с фигурами.
– И для меня один снимок, – потребовал Ландсман.
Шпрингер обдумал это предложение, еще раз щелкнул доску, оставленную Ласкером вследствие вмешательства высших сил, вручил снимок Ландсману.
– Ситуация на доске подскажет решение, – усмехнулся тот.
Шпрингер взломал защиту Нимцовича… Алехина? Ароняна?… Конфисковал фигуры по одной, засунул каждую в отдельный пакетик.
– Где ты так измазался? – спросил он, не глядя на Ландсмана.
Тут и сам Ландсман заметил пятна рыжей грязи на туфлях, манжетах, рукавах и коленях.
– В подвал лазил. Там какая-то здоровенная служебная труба. Надо было ее осмотреть. – Он почувствовал, что к щекам прилила кровь.
– Варшавский туннель, – бесстрастно заметил Шпрингер. – Ведет прямо в Унтерштат.
– Да брось ты.
– Когда сюда прибыли первые евреи, после войны… Те, кто спасся из Варшавского гетто, из Белостока… Партизаны… Можно понять, что они и американцам не слишком-то доверяли. Вот и вырыли туннель. На всякий случай. А вдруг опять война? Потому и Унтерштат так назвали – подземный город.
– Слухи, Шпрингер. Городская мифология. Иначе говоря – сплетни. Простая служебная труба.
Шпрингер хрюкнул. Большое и малое полотенца убитого последовали каждое в мешок соответствующего размера, обмылок – в малый пакетик. Сосчитав налипшие на унитаз лобковые волосы, Шпрингер запаковал и их.
– Кстати, о сплетнях, – вспомнил он. – Слышал что-нибудь о Фельзенфельде?
Инспектор Фельзенфельд – руководитель их группы.
– Что значит «слышал»? Я его сегодня видел. Услышать от него что-нибудь сложно, он за три года трех слов не вымолвит. Что о нем болтают? Что за слухи?
– Так просто спросил.
Шпрингер провел облаченной в перчатку ладонью по веснушчатой коже левого предплечья Ласкера. Заметны следы уколов и слабые вмятины в местах, где покойный перетягивал руку.
– Фельзенфельд все время держал руку на брюхе, – вслух вспоминал Ландсман. – Кажется, я слышал, что он продекламировал: «Отток»… Что ты там увидел?
Шпрингер головой указал на участок повыше локтя Ласкера, где накладывалась перетяжка.
– Похоже, он использовал поясок. Но его пояс слишком широк для этих следов.
Он уже упаковал в коричневый бумажный мешок поясной ремень Ласкера, как и две пары его брюк и две куртки.
– Там, в ящике, еще мешок на молнии, – кивнул Ландсман. – Я не смотрел.
Шпрингер выдвинул ящик прикроватного столика, вынул черный мешок. Раскрыв его, издал странный горловой звук. Ландсман не сразу увидел, что произвело на коллегу такое странное впечатление.
– Что ты об этом Ласкере думаешь? – спросил Шпрингер.
– Осмеливаюсь предположить, что он шахматами увлекался. – Одна из трех найденных в номере книг – зачитанный, захватанный экземпляр под названием «Триста шахматных партий» некоего Зигберта Тарраша. К внутренней стороне обложки приклеен кармашек из коричневой бумаги. Оттуда торчит карточка, из которой следует, что в последний раз книжка выдана городской публичной библиотекой Ситки в июле восемьдесят шестого года. Ландсман невольно вспомнил, что именно в июле восемьдесят шестого он впервые переспал со своей тогда будущей, а ныне бывшей женой. Бине было двадцать, ему двадцать три. В самый разгар северного лета. Июль восемьдесят шестого года… иллюзии, иллюзии… Две другие книжки – дешевые триллеры на идише. – Больше мне о нем пока нечего подумать.
По следам на руке Шпрингер заключил, что покойный перетягивал руку перед инъекциями кожаным ремешком примерно в полдюйма шириной. Шпрингер засунул два пальца в черный мешок и вытащил оттуда этот поясок с таким выражением лица, будто опасался укуса. На пояске болтался прикрепленный к нему кожаный футлярчик, предназначенный для бумажной полоски с выполненными пером и чернилами четырьмя выписками из Торы. Ежеутренке набожные правоверные иудеи накручивают одну из таких штуковин на левую руку, другую – на лоб и истово молятся тому самому Б-гу, который обязывает их развлекаться этаким образом каждый Б-жий день. Однако кожаный карманчик на ремешке Эмануэля Ласкера пуст. Ремешок использовался исключительно в целях перетягивания сосудов.
– Впервые встречаю, – удивляется Шпрингер. – Новаторское использование тефилина.
– Знаешь, по виду его можно было сказать, что он… Как будто бы он когда-то носил черную шляпу. Такой налет… в общем, впечатление такое. – Ландсман натянул перчатку и, ухватив Ласкера за подбородок, повернул его голову вправо-влево. Вспухшая маска покойника… – Но если он и носил бороду, то давно. Разницы в цвете кожи не обнаружить.
Он отпустил подбородок Ласкера и отступил на шаг. Ландсман и сам толком не понимал, почему записал этого бедолагу в бывшие «черные шляпы». Но… следы второго подбородка сына богатой семьи… Аура обвала… Исходя из этого можно было предположить, что не всю свою жизнь Ласкер провел бесштанным доходягой в дешевой гостиничке.
– Чем бы я только не пожертвовал, чтобы нежиться на солнечных пляжах Саскатуна…
В коридоре что-то загрохотало. В дверь толкнулись снаружи, и вот уже ввалились в номер двое работяг из морга со складной каталкой. Шпрингер сбагрил им корзину с вещдоками и авоську и удалился, поскрипывая одним из колесиков своей тележки.
– Дерьмо, – высказался Ландсман, имея в виду не труп и не морговских трудящихся, а перспективы раскрытия дела.
Его замечание поняли и приняли сочувственным покачиванием голов. Ландсман вернулся в свой номер к бутылке сливовицы и сувенирному стопарику, уселся на стул с лежащей на сиденье грязной рубашкой. Вынув из кармана снимок, пожертвованный ему Шпрингером, Ландсман впился в него глазами, изучая диспозицию, пытаясь понять, чей следующий ход и каким он должен был быть. Но фигур на доске переизбыток, в голове много не уместишь, а у него нет даже собственной шахматной доски, чтобы воспроизвести ситуацию. Через несколько минут Ландсман почувствовал, что засыпает. Но нет, нет, не надо спешить, ибо ждут во сне заевшие его эшеровские видения, крутящиеся шахматные доски, туманные гигантские грачи, отбрасывающие фаллические тени…
Ландсман разделся и залез под душ, потом улегся и полчаса лежал с открытыми глазами, вспоминая сестричку в ее «суперкабе», юную Бину летом восемьдесят шестого, вынимая воспоминания из отведенных им обложек. Он изучает их, как будто они записаны в пыльной книге, украденной из библиотеки, вникает в их блеск и туман… Через полчаса столь полезного времяпрепровождения Ландсман встает, надевает чистую рубашку, одевается и следует в управление, чтобы оформить документы.
5
Его научили ненавидеть шахматы отец и дядя Герц. Будущие родственники, товарищи по детским играм в Лодзи, посещали молодежный шахматный клуб Маккаби. Ландсман помнил, с каким энтузиазмом они рассказывали о посещении их клуба великим Тартаковером в один из летних дней 1939 года, о его лекции и демонстрационной игре. Гроссмейстер Савелий Тартаковер, гражданин Польши, прославился выражением: «Все ошибки здесь, перед вами, на доске; они ждут, чтобы вы их совершили». Он прибыл из Парижа с заданием от тамошнего шахматного журнала, чтобы осветить какой-то турнир и навестить директора шахматного клуба, с которым когда-то вместе гнил в окопах на русском фронте в армии Франца-Иосифа. По просьбе директора прославленный гроссмейстер согласился сыграть с лучшим из игроков клуба, юным Исидором Ландсманом.
И вот они уселись за столик, добродушный ветеран в знаменитом своем костюме и заикающийся от робости пятнадцатилетний вьюнош с бельмом на одном глазу, жиденькой шевелюрой и усиками, которые, если не приглядеться как следует, можно принять за пятно грязи. Как будто кто-то мазнул у него под носом пальцем, испачканым в саже. Тартаковеру выпали по жребию черные, и будущий отец Меира Ландсмана выбрал английский дебют. В течение первого часа Тартаковер играл невнимательно, почти не глядя на доску, не радуя болельщиков блеском мысли. На тридцать четвертом ходу он с некоторым пренебрежением предложил Ландсману-отцу ничью. Мочевой пузырь парня требовал внимания, уши горели, но он отказался, оттягивая неизбежное. Играл он с этого момента, базируясь лишь на чутье и на отчаянии. Он уклонялся, отказывался от размена фигур, надеясь на авось, на свое упрямство и на звериное чутье. Через семьдесят ходов, четыре часа и десять минут игры, Тартаковер, уже не столь беззаботный, как в начале партии, снова предложил сопернику ничью. Исидор Ландсман, почти ничего не слыша из-за звона в ушах, едва удерживая в себе рвущуюся на волю мочу, согласился. В более зрелые годы отец Ландсмана иной раз утверждал, что мучения, перенесенные им во время этого поединка, необратимо повлияли на его рассудок. Однако будущее принесло ему куда более суровые испытания.
Говорили, что Тартаковер заверил отца Ландсмана, что не получил от игры ни малейшего удовольствия. Молодой Герц Шемец, всегда очень внимательный к маленьким человеческим слабостям, заметил, что рука гроссмейстера, державшая спешно поданный ему бокал токайского, слегка дрожала. После этого Тартаковер указал на череп Исидора Ландсмана.
– Но все же лучше, чем быть вынужденным существовать там, внутри.
Не прошло и двух лет, как Герц Шемец, его мать и сестренка Фрейдль прибыли на аляскинский остров Баранова с первой волной галицийских беженцев. Их доставил известный «Дайамонд», войсковой транспорт-ветеран времен Первой мировой, расконсервированный по распоряжению министра внутренних дел Айкса и получивший имя в честь покойного Энтони Даймонда, неголосующего члена палаты представителей от Аляски – до того самого момента, когда в его биографию вмешался на вашингтонском перекрестке пьяный водила-таксист, обшарпанный шлемиель и мешуган Дэнни Ланнинг, герой евреев Ситки на вечные времена. Благодаря подвигу таксиста делегат Даймонд не смог провалить в комитете Аляскинский акт.
Тощий, бледный, дрожащий Герц Шемец спустился с борта проржавевшего, пропахшего жирной камбузной вонью «Дайамонда», ступил под сень аляскинских сосен. Всех новоприбывших пересчитали, отправили в вошебойку, сделали все положенные прививки и окольцевали, как перелетных птиц, согласно Аляскинскому акту от 1940 года. В кармане Герца Шемеца оказался «паспорт Айкса» – своеобразная чрезвычайная виза, отпечатанная на особой папиросной бумаге специальной маркой краской.
Отсюда – никуда ни на шаг. Об этом кричали крупные буквы паспорта. Ни в Сиэтл, ни в Сан-Франциско, ни даже в Джуно или Кечикан. Все прежние квоты на еврейскую иммиграцию в США оставались в силе. Несмотря на своевременную кончину Даймонда, Акт удавалось заставить реально действовать лишь с большим нажимом и при значительной смазке.
Вслед за своими предшественниками из Германии и Австрии Шемец с семьей и остальными галичанами попали в торфяную топь Кемп-Слатери в десяти милях от развалюх Ситки, центра бывшей русской колонии. В продуваемых насквозь жестяных бараках они полгода проходили акклиматизацию при помощи спецкоманды из пятнадцати миллионов комаров, работающих по контракту с Министерством внутренних дел США. Герц попал в дорожную бригаду, потом его направили на строительство аэропорта, где ему в кессоне, при разработке водонасыщенного грунта ситкинской гавани, кто-то высадил рукояткой лопаты два зуба. По прошествии многих лет, пересекая мост Черновиц-бридж, Шемец непроизвольно потирал челюсть и в глазах его появлялась какая-то отвлеченность. Фрейдль посещала школу в переоборудованном амбаре, по крыше которого постоянно колотил дождь. Мать ходила на сельскохозяйственные курсы, где ее учили обработке земли, технике вспашки и посева, применению удобрений, ирригации. Брошюры и плакаты по сельскому хозяйству, казалось, символизировали краткость не только аляскинского лета, но и их пребывания на этой неуютной земле. Миссис Шемец представляла себе Аляску в виде погреба или иного хранилища, куда ее с детьми поместили, как прячут клубни цветов, дожидаясь, пока почва отмерзнет и прогреется перед высадкой в грунт. Кто же ожидал, что почва Европы удобрится таким слоем крови и пепла.
Весь этот сельскохозяйственный ажиотаж закончился пшиком. Вместо семейных ферм и кооперативов Министерство внутренних дел занялось нефтью и горнодобывающей промышленностью. Японцы напали на Перл-Харбор, тут уж не до чудес северной агрикультуры… «Колледж Айкса» оставил евреев без присмотра, предоставил самим себе. Как и предрекал депутат Даймонд, народ рванул в Ситку, город вспухал, как на дрожжах. Герц изучал уголовное право в новом Техническом институте Ситки, в 1948 года окончил его и подрядился на работу в крупную юридическую фирму, открывшую здесь филиал. Сестра его Фрейдль, будущая мать Ландсмана, оказалась среди первых герл-скаутов поселения.
1948 год. Странные времена, чтобы быть евреем. Опасные времена. В августе оборона Иерусалима рухнула, защитники трехмесячной республики Израиль оказались разбиты, уничтожены, сброшены в море. Герц начал работу в фирме «Фен, Харматтан и Буран», а комитет Палаты представителей по островам и территориям начал пересмотр Акта о Ситке в свете изменившейся ситуации. Комитет, Конгресс, да и все население США не могли не заметить уничтожения двух миллионов евреев в Европе, варварского искоренения сионизма, судеб беженцев из Палестины и Европы. Еще сложнее оказалось не заметить изменения ситуации в самой Ситке. Население поселения возросло до двух миллионов душ. Нарушив условия Акта, евреи расселились по западному берегу острова Баранова, на Крузове, до острова Западного Чичагова. Экономика региона переживала расцвет. Американские евреи нажимали на администрацию. В результате Конгресс даровал Ситке «временный статус» федерального округа. Требования прав штата, однако, отвергли. «NO JEWLASKA», нет Еврейской Аляске! Такая аршинная шапка украсила один из выпусков «Дейли таймc». Ударение делалось на то, что статус временный. Сроком на шестьдесят лет. А потом – видно будет.
Примерно тогда же Герц Шемец прогуливался в обеденный перерыв вдоль Сьюард-стрит и чуть не наступил на ногу Исидору Ландсману, приятелю детских лет из Лодзи. Ландсман-отец только что прибыл в Ситку на борту «Вилливо», один-одинешенек, чудом избежав мясорубки лагерей смерти в Европе. В свои двадцать пять совершенно лысый, почти беззубый. При росте в шесть футов весил сто двадцать пять фунтов. Странный запах изо рта, сумасшедшая речь, единственный выживший из всей семьи. Пионерской энергии Ситки он не замечал. Не видел молодых евреек-работниц в синих косынках, не слышал негритянско-еврейских спиричуэл, перепевающих Линкольна и Маркса, не ощущал вони рыбы, запаха вскопанной земли и аромата древесной смолы, не слышал грохота драг и экскаваторов на берегу и в проливе. Ничто его не трогало, он плелся, повесив голову, сгорбившись, как будто пробираясь через чужое измерение по герметичному, наглухо изолированному туннелю. Но как только Исидор Ландсман осознал, что тип с ухмылкой на физиономии, напомаженными волосами и в новеньких туфлях, блестящих, как только что сошедшие с конвейера лимузины, тип, пахнущий только что съеденным у стойки «Вулворта» луковым чизбургером – его друг детства, Герц Шемец из Маккавейского молодежного шахматного клуба в Лодзи, он замер и распахнул рот в ужасе, возмущении, восторге, удивлении. И тут же из глаз его полились слезы.
Герц вернулся в «Вулворт» с отцом Ландсмана, купил ему ланч (сэндвич с яйцом, первый в его жизни молочный коктейль, салатик) и отвел его в недавно открывшийся отель «Эйнштейн», в кафе которого ежедневно и ежечасно без всякого снисхождения перемалывали друг друга еврейские мастера шахмат. Отец Ландсмана, несколько обалдев от поглощенных жиров и сахара, под впечатлением завтрака и недавно пережитого тифа, молниеносно вымел всех игроков, да так свирепо и беспощадно, что иные не смогли ему этого простить всю оставшуюся жизнь.
Стиль игры его не изменился. Он демонстрировал все те же настроение и состояние.
– Отец твой играл в шахматы, – сказал как-то Герц Шемец, – как будто у него одновременно болели зубы, его мучили запор и геморрой, а кишечник раздувался от газов.
Он вздыхал и стонал, он ломал пальцы и запускал их в те редкие волосины, которые еще остались на черепе от былой прически, он терзал ногтями лысину и строил гримасы. Каждый ход противника – особенно неудачный – вызывал у него судороги. Собственные ходы, сколь бы отважными, остроумными и сильными они ни были, убивали его, как неожиданно полученные трагические известия. Он прикрывал ладонью рот и скорбными глазами глядел вслед только что сделавшей ход фигуре.
Совершенно иначе играл в шахматы дядя Герц. Этот играл спокойно, даже беззаботно, сидя чуть под углом к доске, как будто ожидая, что ему сейчас предложат съесть что-нибудь вкусненькое, или что сейчас к нему на колени прыгнет премиленькая крошка. Но глаза Герца видели все, не упускали ни малейшей детали, как заметили они дрожь в руке Тартаковера в тот далекий день, когда чемпион играл с Исидором Ландсманом. Промахи не ввергали дядю Герца в уныние, удачи не заставляли вскакивать с места. В тот вечер в кафе отеля «Эйнштейн» он следил, как его друг громит завсегдатаев, раскуривал очередную сигарету от окурка предыдущей, а когда на поле боя остались лишь дымящиеся развалины, сделал очередной необходимый шаг: пригласил Исидора Ландсмана домой.
Летом 1948 года семья Шемец занимала двухкомнатную квартиру в новом доме на новом острове. В здании проживали две дюжины семей, все без исключения «полярные медведи», как называли себя переселенцы-ветераны. Мать спала на кровати, Фрейдль – на кушетке, а Герц раскладывал постель на полу. Они уже стали стопроцентными аляскинскими евреями, что предполагало утопизм. Утопизм означал, что они видели изъяны во всем, на что падал взгляд. Семейка Шемец – склочная, сварливая, особенно Фрейдль, в четырнадцать лет вымахавшая ростом в пять футов восемь и весившая сто десять килограммов. Едва увидев Ландсмана-отца, призраком маячившего в дверях, не решавшегося сделать шаг внутрь, Фрейдль сразу же решила, что он столь же недосягаем и неприступен, как дикая Аляска, которую она уже считала своим домом. Любовь с первого взгляда.
Впоследствии Ландсман неоднократно и всегда безуспешно пытался вызнать у отца, что тот нашел – и вообще нашел ли хоть что-нибудь – привлекательного во Фрейдль Шемец. Нет, она очень неплохо выглядела. Египетские глаза, оливкового цвета кожа, в шортах, туристских ботинках, с закатанными рукавами пендлтоновской рубашки – воплощение маккавеевского спортивного mens sana in corpore sano.[1]1
В здоровом теле здоровый дух (лат.).
[Закрыть] Фрейдль сразу ощутила жалость к молодому человеку столь трудной судьбы, потерявшему всю семью, на себе испытавшему ужасы лагеря смерти. Много было таких детишек среди «полярных медведей» – ощущавших вину за то, что их не коснулись грязь, голод, угроза физического уничтожения, и осыпавших прошедших через все это градом советов, информации, критических замечаний, полагая перечисленное лучшим способом поддержать пострадавших. Как будто давящую, нависающую пелену небытия можно устранить благонамеренным порывом одной целеустремленной советчицы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.