Текст книги "О свободе: четыре песни о заботе и принуждении"
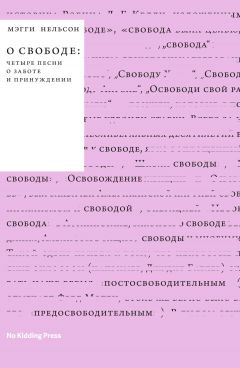
Автор книги: Мэгги Нельсон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Скорость, спонтанность, редуктивность, предел досягаемости и негативные аффекты – всё это черты того, что Томкинс назвал «грубой теорией». Соответственно то, что описано ниже, может беззастенчиво считаться «мягкой теорией». Мягкая теория не утверждает нового лингвистического или концептуального регистра (в отличие от риторики вреда), не пытается встроить богатое разнообразие явлений в единую структуру (так называемое разрастание концепции) или требовать, чтобы другие соглашались с ее условиями. Вместо этого она предполагает неоднородность и побуждает к эпистемологической неопределенности. Ее не беспокоят неоднозначность и хаос. Она никуда не спешит и не боится показаться «слабой» в среде, где предпочтение отдают мускулам и консенсусу, не говоря уже о той, где регулярно высмеивают (иногда не без оснований) такие понятия, как «нюанс», «неопределимость», «неуверенность» и «эмпатия», а также взаимовыгодные дежурные фразы полиции нравов. Держу пари, что беззаветная преданность такому подходу, особенно тому, в рамках которого признается важность «грубой теории», создает собственный вид заботы как о проблемах сегодняшнего дня, так и об искусстве как проявлении силы, которая, к счастью, не ограничивается этими проблемами.
ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО
Психоаналитическое понимание репаративного, которым руководствовались Седжвик и Муньос, с тех пор расширилось и включает другие регистры, в том числе тандем ущерб/возмещение в контексте восстановительного правосудия, компенсации жертвам рабства и понятие межличностного «обязательства по возмещению» (термин из жилищного права, перепрофилированный Сарой Шульман в ее книге 2016 года «Конфликт – это не насилие: преувеличение вреда, ответственность общества и обязательства по возмещению»). У каждой из этих сфер свое наследие и четкий набор предубеждений и требований; общие призывы к компенсациям, которые не учитывают этих различий, могут привести (на самом деле уже привели) к изрядной путанице. В своих целях я сосредоточусь в основном на значении, которым термин наделяли Седжвик и Муньос, поскольку мне кажется, что ключевые аспекты их убеждений исчезли из поля зрения несмотря на то, что торжество репаратива в самом разгаре.
Седжвик позаимствовала идею о репаративном из психологического аппарата Мелани Кляйн, которая определяла репарацию как нечто испытанное и разыгранное ребенком, когда он боится, что навредил объекту своей любви (как правило матери) и впоследствии чувствует необходимость восстановить и защитить этот объект. Репарация неразрывно связана с тем, что Кляйн называет «депрессивной позицией» (и Седжвик, и Муньосу нравилось, что Кляйн говорила о «позициях», а не об «этапах»: человек не может перерасти репарацию как таковую; это деятельность, к которой мы возвращаемся; мотив, который мы проживаем снова и снова; эта повторяемость помогает объяснить, как репарация может вдохновлять непрерывную творческую практику). Опираясь на идеи Кляйн, Седжвик сформулировала концепцию так называемого «репаративного чтения», противопоставленного «параноидальному чтению» («чтение» здесь понимается шире и охватывает различные медиа). «Репаративное чтение» – это способ получить удовольствие и поддержку, способ стать лучше. «Параноидальное», в свою очередь, направлено на предотвращение боли и защиту от угроз. Седжвик описывает репаративную практику как «сборку и наделение объекта полнотой, чтобы впоследствии он обладал ресурсами, необходимыми для зарождающегося „я“». Такое определение проясняет возможные взаимоотношения между репарацией и искусством: обращаясь как к собственным, так и к чужим «разнообразным репаративным практикам», – утверждает Седжвик, – мы можем больше узнать о «множестве способов, с помощью которых люди и сообщества с успехом находят опору в объектах культуры… чье формальное предназначение зачастую было наоборот в том, чтобы не предоставлять подобную опору». Более того, репаративные практики полны парадоксов, и их, безусловно, далеко не всегда реализуют великодушные люди, преисполненные целительного «внимания к другим». Как замечает Седжвик в отношении таких фигур как Рональд Фербенк, Джуна Барнс, Джозеф Корнелл, Кеннет Энгер, Чарльз Ладлэм, Джек Смит, Джон Уотерс и Холли Хьюз: «Порой именно наиболее склонные к паранойе люди способны и нуждаются в развитии и распространении разнообразных репаративных практик».
Муньос также относился к своим текстам об искусстве и художниках, которые ему нравились, как к репаративной практике. Но в то время как Седжвик была сосредоточена на квир-измерении, Муньос добавил проработку так называемых «смуглых чувств» или «смуглых недосообществ»; также он добавил термин «дезидентификация» (или «дезидентификационная практика»). Дезидентификация – сложная концепция, изложенная в одноименной книге Муньоса 1999 года. По сути, это разновидность репаративной практики, с помощью которой «представитель меньшинства… бросает вызов публичной сфере страдающего от фобий большинства, которое постоянно игнорирует или пресекает существование субъектов, не соответствующих фантазии о нормативной гражданственности». Столкнувшись с бинарным выбором – поддерживать или протестовать против так называемых исключающих произведений искусства или культуры, дезидентификация предлагает третий путь, который позволяет людям преобразовывать «эти произведения искусства в соответствии со своими культурными целями». Среди примеров, приведенных Муньосом, спектакль Джека Смита с «„экзотическими“ этнографическими пейзажами третьего мира», интерпелляции женщины-комика Марги Гомес в популярных ток-шоу; дезидентификация Жан-Мишеля Баскии с Уорхолом и поп-артом; вторичное использование порнографии Ричардом Фунгом; и «террористический дрэг» Vaginal Davis о белых шовинистах в Айдахо.
И репарация, и дезидентификация предполагают, что субъект – будь то художник или зритель – нуждается в поддержке и исцелении; как и многие современные мыслители, Седжвик и Муньос рассматривали расизм, сексизм, гомофобию, колониализм, капитализм и так далее как основные причины истощения или урона. Концепция «ортопедической эстетики» Муньоса была откровенно более политической, он страстно верил, что произведения искусства могут служить «утопическим проектом возможного будущего». Тем не менее ни Седжвик, ни Муньос не противопоставляли свободу и заботу; Муньос фактически описал дезидентификацию как практику свободы, опираясь на фукольдианский смысл этой фразы. С одной стороны, потому что оба критика фокусировались на устойчивости, творчестве, агентности и правах представителей меньшинств, которым чуждо тратить силы на осуждение работы или требовать «признания ущерба», ведь на это ушло бы незаслуженно много энергии и времени, которых и без того не так много. С другой стороны, оба критика ясно осознавали фундаментальную идиосинкразию и неопределенность как в наблюдении, так и в создании произведения искусства. Весь смысл репаративного чтения состоит в том, что люди находят силы таинственными, творческими и непредвиденными способами в тех произведениях, которые, вероятно, не были для этого предназначены, и эта трансмиссия не подлежит передаче и не поддается управлению; весь смысл репаративного созидания заключается в том, что оно репаративно для создателя, что оно не дает никаких гарантий в отношении его воздействия на зрителя[35]35
Муньос считал выступления Джека Смита «богатыми антинормативными сокровищницами квирных возможностей» и относился к ним как к основополагающим, несмотря на то, что поначалу был встревожен «[их], так сказать, ориентализирующими и тропикалистскими аспектами»; всё это доказывает, что для Муньоса дезидентификация не была предопределена и переопределена уровнем социальной вовлеченности, но оставалась вопросом интерпретации, в отношении которой мнения критиков могли и будут расходиться.
[Закрыть].
Изучение откликов, полученных на книгу «Искусство жестокости», окончательно убедило меня в этой разнородности: искусство, которое заставляет одних людей чувствовать себя плохо, делает других сознательными и активными; искусство, которое одни находят безнадежно токсичным, другие считают заветным источником вдохновения или катарсиса. Точно так же художники, которые, очевидно, ставят перед собой задачу репрезентации, репарации или же предоставления убежища для других (или для самих себя), вполне могут не преуспеть в этом (например, художник, который посвятил всю свою карьеру борьбе с расизмом и социальной несправедливостью, может быть обвинен в создании грубого произведения белого шовинистского искусства, как это было в случае со скульптурой Сэма Дюранта «Эшафот» в 2017 году, к которой мы еще вернемся). Опять же, эта неопределенность становится особенно очевидной со временем: работы, которые когда-то казались спорными, бесполезными или невнятными, со временем становятся каноническими, живыми и ясными; работы, которые в свое время оказали нам жизненно важную поддержку, со временем могут утратить свою ценность или привлекательность. (Одно из достоинств педагогической работы заключается в том, что, обсуждая одни и те же тексты или произведения искусства на протяжении десятилетий, ты начинаешь лучше чувствовать и понимать, как определенные произведения воспринимаются или приобретают новое значение для разных людей в разные поворотные периоды.)
Всё это кажется мне само собой разумеющимся, учитывая неоднородность историй, ментальностей, потребностей и вкусов, которые мы привносим в искусство. Из этого также становится ясно, что критические попытки утверждать этическую или политическую целесообразность произведения, с одной стороны, или осуждать его безнравственные гегемонные реинскрипции – с другой, никогда не будут и никогда не смогут иметь решающее значение. Даже Лэнгстон Хьюз, который представлял свои тексты в виде репаративной практики категоричнее (и, возможно, успешнее), чем любой другой известный мне писатель, напоминал нам, что удовлетворение людей никогда не может быть целью, а восприятие в определенный момент времени – лишь один из уровней воздействия: «Если белым людям нравится [наше искусство] – мы рады. Если нет – это не имеет значения… Если небелым людям нравится – мы рады. Если нет – их неудовольствие тоже не важно. Мы строим наши храмы для завтрашнего дня так крепко, как умеем, и стоим на вершине горы, оставаясь свободными в душе».
Жизнестойкий субъект Хьюза, сформировавший творческие способы сохранить «свободу в душе», противопоставлен современному фокусу на подчиненном, уязвимом субъекте, который чувствует, что искусство (других людей) представляет собой (едва ли не) преступную угрозу вреда, и потому требуют от его создателей или сторонников возмещения ущерба. Согласно последней модели потребность в заботе и восстановлении (и последующие призывы к остракизму, в случае если эта потребность не удовлетворена) – и есть форма репаративного труда. (Здесь стоит отметить, что Седжвик никогда не утверждала, что вывести параноидальное из репаративного – легкая или в принципе выполнимая задача; как и не утверждала, что репаративное превосходит параноидальное. «Паранойя лучше разбирается в одних вещах, но совершенно не разбирается в других», – так выразилась Седжвик; то же самое можно сказать о грубой и мягкой теориях.) Этот поворот стал особенно ясным в 2017 году в ходе дебатов, развернувшихся вокруг двух произведений белых художников: квазиабстрактной картины маслом Даны Шутц «Открытый гроб», выставленной на Биеннале Уитни в 2017 году, где был изображен Эмметт Тилл в гробу, а также «Эшафота» Дюранта – крупной уличной скульптуры, копирующей части семи исторических виселиц, включая ту, на которой в 1862 году были повешены 38 мужчин коренного народа Дакота. Версия этой скульптуры была также установлена в Центре искусств Уокера в Миннеаполисе, на бывшей родине Дакота. Эти работы навели многих на мысль, что белые художники (и институции) могли бы быть немного (или намного) более проницательными и ответственными, менее легкомысленными и неосторожными, особенно учитывая, что работа Дюранта продолжает логику белого шовинизма с его невежеством, вседозволенностью и беспечностью.
В искусстве этот поворот от репаративного к требованию репарации воспринимает искусство не как «посредника» между людьми, смыслом которого «никто из них [ни художник, ни зритель] не владеет и на смысл которого никто не притязает… но [который] остается между ними», а как явление, значение и функция которого могут быть определены и установлены. Это явление, по сути своей, может быть исключено из категории искусства и приближается к таким категориям, как дискриминационная риторика, физическое насилие или откровенная непристойность. Такая рекатегоризация распространяется на весь политический спектр: «Это язык ненависти, ни больше ни меньше», – как сказал Билл Донохью из Католической Лиги про видео Дэвида Войнаровича «Огонь в моем животе», в рамках организованной им в 2010 году (успешной) кампании, призванной принудить Смитсоновский музей исключить это видео из групповой выставки (оскорбительные кадры изображали муравьев, ползающих по распятию). «Работа Сэма Дюранта – не искусство. Это акт насилия. Это пощечина людям народа Дакота, чьи семьи были повешены на почти такой же виселице на городской площади Манкато», – говорил протестующий против работы «Эшафот», чьи противники требовали демонтажа и уничтожения скульптуры (требование, с которым Дюрант согласился после переговоров с представителями Дакота). Этот пример также основан на слиянии истории вредоносных форм политической свободы с формами творческой свободы, как высказалась Ханна Блэк в открытом письме музею Уитни, в котором призывала к демонтажу и уничтожению портрета Тилла, созданного Даной Шутц: «Речь идет не о Шутц; белая свобода слова, как и белая свобода творчества, основана на подавлении других и соответственно не может считаться естественным правом. Картина должна быть убрана».
Вне всяких сомнений свобода белых людей в Соединенных Штатах исторически опиралась на рабство, эксплуатацию и подавлению небелых других и впоследствии существовала за их счет. Работы Дюранта и Шутц, вне зависимости от критических и эмпатических намерений, взывают к этой истории – каждая по-своему – через репрезентацию актов насилия, совершенных против Черных и коренных жителей, актов насильственного принуждения (в первом случае внесудебного, во втором – санкционированного государством) к построению свободы, основанной на порочном неравенстве, смертельной угрозе и истреблении народов. Это принуждение не рассеялось, а лишь изменило свою форму с течением времени, и это ключ к пониманию кампании «Картина должна быть убрана», как и долгая и гнусная история линчевания как своего рода зрелища и развлечения для белой аудитории, уродливым эхом которой может отозваться тандем искусства и публики. Воззвание к этому наследию зрительства неизбежно приводит к ужасающим процессам, с этикой и последствиями которых невозможно справиться без вреда, особенно учитывая демографию рассмотренных художников и художниц. Добавьте к этому обоснованное недовольство тем, что белые художники и художницы продолжают занимать больше пространства, получать больше внимания и финансовой поддержки на создание работ, которые многие считают если не откровенно оскорбительными, то, по крайней мере, доказывающими невнимание или нечуткость к проблемам, с которыми другие боролись всю жизнь, – и тогда возмущение покажется одновременно неизбежным и оправданным.
Я думаю, обсуждение этих (и многих других) тем не означает, что подобные работы не являются искусством и однозначно вредны, а потому должны быть убраны или не должны существовать; я думаю, можно всерьез заниматься вышеуказанными проблемами (возможно, даже серьезнее), не обращаясь к вопросу о том, «должны ли кураторы и кураторки иметь абсолютную свободу выставлять то, что [хотят]», как настаивала женщина-критик Аруна Д’Суза в связи с «делом Шутц». Когда кто-то начинает говорить об «абсолютной свободе», ты уже знаешь – перед тобой лжесвидетель. Ни у кого на земле нет абсолютной свободы делать что бы то ни было; любой, кто когда-либо пытался выставить в музее произведение искусства, на котором было хоть немного плесени, или пролить кровь во время живого перформанса, быстро обнаруживает, что подобные порывы требуют планирования, специальных разрешений и согласования. Искусство – это не священное царство или «режим чрезвычайной ситуации», когда всё, что нужно сделать – это добавить немного магии «искусства» к выражению, опыту или объекту, чтобы все этические, политические или юридические затруднения испарились[36]36
Предположение о том, что искусство – это всегда ободряющая и благотворная сила, которая неизбежно приносит пользу какому-либо сообществу, горячо оспаривается в убийственных кампаниях против джентрификации и районного благоустройства, проводимых группами из Лос-Анджелеса: «Защитим Бойл-Хайтс», «Альянс Бойл-Хайтс против артвошинга и переселения»; примером также могут служить яростные протесты против токсичной филантропии в мире искусства, которые против семьи Саклер проводит группа P.A.I.N. художницы Нэн Голдин или участницы движения «Деколонизируй это место». См. также протесты, которые прошли на волне движения #MeToo и привлекли внимание к различным формам жестокого обращения, защищенных званием «искусства» (например, нежелательные прикосновения в импровизационном театре или свидетельства о жестоком обращении на съемочной площадке из рассказов актрис Марии Шнайдер («Последнее танго в Париже») или Умы Турман («Убить Билла»), которая утверждала, что режим работы на площадке «граничил с убийственным».
Что касается споров вокруг искусства как состояния исключительности, вот что пишет Джордж Оруэлл в своем эссе 1944 года о Сальвадоре Дали «Привилегия Духовных Пастырей: Заметки о Сальвадоре Дали»: «И мы увидим, что защитники Дали требуют для себя чего-то вроде привилегии духовных пастырей. Художник должен быть свободен от нравственных норм, которые связывают простых людей. Стоит произнести волшебное слово „искусство“ – и всё в порядке. Гниющие трупы с ползающими по ним улитками – нормально; пинать головку маленькой девочки – нормально; даже фильм типа L’Age d’Or («Золотой век»). Нормально и то, что Дали годами нагуливает жир за счет Франции, а потом, как крыса, трусливо бежит, едва над Францией нависла опасность. Коль скоро вы умеете писать маслом достаточно хорошо, чтобы выдержать тест, всё вам будет прощено. Фальшь подобных рассуждений можно почувствовать, приложив их к сокрытию обыкновенного преступления… Если бы завтра на землю вернулся Шекспир и обнаружилось, что его любимое развлечение в свободное время – насиловать маленьких девочек в железнодорожных вагонах, мы не должны говорить ему, чтобы он продолжал в том же духе только потому, что он способен написать еще одного „Короля Лира“… Нужна способность держать в голове одновременно оба факта: и то, что Дали хороший рисовальщик, и то, что он отвратительный человек… И точно так же мы должны иметь возможность сказать: „Это – хорошая книга (или хорошая картина), но ее следует отдать на публичное сожжение палачу“». Сколько бы раз я ни читала это эссе, я никак не могла понять, как Оруэлл, который изобрел «Полицию мыслей», в этом тексте совершенно не беспокоится о разнице между гротескной живописью и «изнасилованием маленьких девочек в железнодорожных вагонах»; единственное, что приходит на ум, это влияние Второй мировой войны и обида Оруэлла на Дали за то, что тот покинул Францию. (Спасибо Кэмерон Ланж, что обратила мое внимание на это эссе.)
[Закрыть].
И всё же, говоря о проблеме сохранения пространства для искусства, важно учитывать повторяющиеся из раза в раз аргументы, звучащие в попытках это пространство урезать. Аргументы в пользу запрета или уничтожения обычно начинаются с попытки лишить произведение его онтологического статуса искусства. Оно должно стать «языком ненависти, ни больше ни меньше», «пощечиной» или «настоящей мерзостью», чтобы к нему можно было применить новые правила[37]37
Среди тех, кто подписал открытое письмо Ханны Блэк, Кристина Шарп поддержала аргумент в пользу уничтожения искусства как искусства. Как объяснила Шарп в интервью «Хайпераллерджик» в 2017 году о полемике с Шутц, «призыв к уничтожению чего-либо может быть этичным… Существует масса этичных реакций – вы можете соглашаться с ними или нет, – которые призывают к уничтожению определенного вида репрезентации». Я могу не согласиться с Шарп относительно действенности таких призывов, но, по крайней мере, ее позиция кажется более честной, чем попытка лишить определенные произведения искусства их статуса искусства, чтобы оправдать их демонтаж и уничтожение.
[Закрыть]. Подобные аргументы можно найти в письме, отправленном в Институт современного искусства в Бостоне в знак протеста против выставки Шутц после Биеннале Уитни – где портрет Тилла выставлен не был. В письме авторы описывают картину как акт насилия и требуют не оставлять «предательскую работу» Шутц – которая продолжает «оскорбительные» традиции «белых женщин, совершающих насилие над Черным сообществом», – «в свободном доступе» и не «снимать [с нее] институциональной ответственности». Подобная риторика пронизывает и академическую критику, которая часто служит отправной точкой параноидального чтения: например, утверждение ученого Арне де Бовера о том, что «Эшафот» Дюранта не просто пробуждает или подражает «жестокой силе государственной власти», но «в точности восстанавливает [эту власть] в правах» [курсив мой – М. Н.]. Такие споры выходят за рамки императива политизации искусства и нацелены на полное устранение его художественной части, и в таком случае сила искусства воспринимается как аналог – или «точная копия» – милитаризованного государства.
Предположения о том, что определенные произведения искусства следует рассматривать как акты насилия или приравнивать их к жестокой силе государственной власти, совпадают с доводами, которые долгое время использовались для дискредитации правовой защиты искусства. Согласно действующему законодательству США, часть «общественно полезной ценности» искусства – а, следовательно, и его защищенный статус – заключается в невозможности свести его к единственной интерпретации или функции, например, вызывать сексуальное возбуждение или подстрекать к насилию. Утверждение о том, что произведение искусства может иметь одну единственную цель или эффект и что этот эффект представляет угрозу для отдельных лиц или обществ – классическая предпосылка не только для появления цензуры, но и для преследования художников и художниц, вплоть до тюремного заключения. Просто спросите порнозвезду, сексологиню и художницу Энни Спринкл, которая в своем эссе «Мои схватки и столкновения с законом» рассказывает, как ее посадили в тюрьму за создание зина, в котором был изображен секс с женщиной с ампутированной ногой: «Нам предъявили обвинения по более чем сотне уголовных статей; „заговор с целью создания и распространения непристойных материалов“, „содомия“ и мое любимое – „заговор с целью совершения содомии“. В Род-Айленде под содомией понимают „недопустимое, предосудительное действие против природы“, чем, видимо, некоторые и считают секс с людьми с ампутированными конечностями». Испугавшись тюремного заключения, Спринкл решила уйти из порноиндустрии в индустрию искусства, где она нашла правовую защиту: «Хоть я и была не раз близка к этому, – пишет она, – меня так и не арестовали [снова]. Думаю, на моей стороне была „общественно полезная ценность“ искусства».
Поиск убежища в этом зазоре, безусловно, может стать причиной нестабильности; без сомнения, им можно злоупотреблять, что иногда и случалось (конгрессмены, критиковавшие Спринкл и видевшие в ее последующих эскападах еще больший разврат под маской искусства, несомненно, считали, что она злоупотребляет). Вопрос в том, может ли эта нестабильность со всеми ее сложностями породить желание сократить этот зазор или же продолжать за него бороться, осознавая, что с ним связаны определенные риски как для зрителей, так и для художников. Мое мнение по этому вопросу, вероятно, основано на более чем десятилетнем опыте преподавания в художественном университете с открытой политикой свободы выражения и богатым практическим опытом ее применения. Официальная политика в отношении выставленных в университете произведений гласит: «1. Калифорнийский институт искусств не подвергает цензуре ни одну работу на основе ее содержания так же, как и никакая работа, выставленная в Институте, не подлежит предварительной цензуре. 2. При наличии возражений против какой-либо выставки или экспоната, необходимо подать письменную жалобу в деканат. Письменный ответ на жалобу поступит в течение 48 часов с момента ее получения. Если лицо не удовлетворено принятым решением, он/она может подать апелляцию в Выставочный комитет Института. Решение комитета не подлежит обжалованию». Такая система работала хорошо не потому, что время от времени в ней не возникало неровностей, а как раз потому, что они возникали. (Неспроста один конкретный случай, произошедший в Калифорнийском институте, регулярно вспоминают на тренингах по борьбе с сексуальными домогательствами в других университетах. Он связан со студенческим карандашным рисунком, который в течение недолгого времени выставлялся в Главной галерее. На рисунке были изображены преподаватели, сотрудники и студенты Института, в том числе и восьмидесятидвухлетняя сотрудница, во время полового акта. Восьмидесятидвухлетняя женщина и ее семья подали в суд на Институт за сексуальное оскорбление и проиграли дело; на работу преподавательница так и не вернулась.)
Как демонстрирует приведенный пример, это среда не для слабонервных. Во время моей работы в Институте мне приходилось бороться со студентами, чьи работы предполагали (по крайней мере такова была задумка) похищение людей, нанесение порезов, преследование, откровенные сексуальные сцены и многое другое. Зачастую это казалось безумием. Иногда было страшно. Но по большей части произведения работали. Они работали, потому что присутствие там означало верность искусству как значимой и просторной конструкции, заслуживающей как можно большего уважения. Мы знали, что собрались там не затем, чтобы мешать чужому самовыражению, поэтому нам пришлось учиться по-новому говорить о том, что нам нравится, а что нет. Я часто вспоминала свою предыдущую работу, которой занималась несколько лет назад, – я проводила вечерние открытые микрофоны Poetry Project в церкви Святого Марка. В мои обязанности, помимо прочего, входило составление списка людей, приходивших выступать с улицы; я следила за тем, чтобы у каждого было не больше двух минут независимо от того, была это женщина, живущая в Томпкинс-сквер-парке и хранящая свои стихи в пластиковом пакете, или недавний выпускник Лиги Плюща в ожидании литературной премии Ланнана; давала микрофон каждому, кто хотел выступить; убирала стулья и запирала церковные двери. Что бы я ни услышала в понедельник вечером, мне всегда нравилось чувство, охватывающее меня на ночной улице, когда я шла домой и мой разум наполнялся настоящими и необычными историями о том, что думают и чувствуют окружающие меня люди.
За всё время моего преподавания в Калифорнийском институте мне не раз приходилось вещать о различиях между этическим и юридическим, подчеркивая, что у трансгрессии этического есть свои последствия. (Например, студентка, писавшая диссертацию о том, как она преследовала своего профессора, отстаивала свое право продолжить проект в суде – и выиграла; хотя нельзя сказать, что она выпустилась с блеском.) В одних провокационных студенческих работах загоралась искорка панковского духа или революционности; в других трансгрессия скатывалась в клише или казалась мелочной. Задача педагога заключалась не в том, чтобы наказывать студентов за их неудачи, а в том, чтобы помогать им создавать более интересные произведения, понимать, как говорить о них с другими и позволять этой общей смелости и поддержке стать основой разношерстного сообщества. Опять же, это не всегда было легко или приятно. Время, которое я потратила на вежливое обсуждение работ, содержащих экстремального уровня насилие и насквозь пропитанных мизогинией, в определенных случаях может показаться потраченным впустую. Но я ценю этот жизненный опыт, благодаря которому увидела, что общность может быть совсем иной[38]38
Это не значит, что подавление или остракизм всегда неуместны. Разумеется, я не допускаю существования работ, которые предполагают несогласованное причинение телесного вреда или ущемление физической независимости других людей (например, запирание дверей аудитории или театрального зала), или даже провокацию угрозой телесных повреждений (например, размахивание оружием или его реалистичной копией). Здесь уместно упомянуть об увольнении Криса Бердена из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 2005 году из-за того, что студент использовал в своем перформансе оружие; см. Бем: «Два художника покинули Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе из-за инцидента с оружием». Некоторые считали позицию Бердена лицемерной, поскольку сам он прославился своей работой 1971 года «Выстрел», в ходе которой в галерее ему прострелили руку. Однако, мне в наивысшей степени важной кажется разница между «Выстрелом» Бердена и поступком студента, который играл в русскую рулетку перед классом, а потом выстрелил, выйдя из аудитории (никто не пострадал).
[Закрыть], если она строится без подавления, упреков и остракизма. Поэтому я с улыбкой одобрения читала биографический материал о художнице Кэтрин Опи в журнале New Yorker в 2017 году: Ариэль Леви вспоминала один эпизод из курса, который Опи вела в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. После того как один студент раскритиковал работу другого, заявив, что она «символизирует основы колониализма», художник приуныл и бормотал, сидя в углу: «Пофигу, если это так, и если не так – тоже пофигу». Тогда Опи начала аккуратно его задирать: «Отстаивай свою работу!.. Не молчи! Борись за нее!» Она не советовала студенту стать упрямым нарциссичным придурком, неспособным принять любую деколониальную критику. Но она напомнила ему, что, если он действительно считает, что его искусство чего-то стоит, он должен быть готов отстаивать свою позицию, а не вставать в так хорошо знакомую нам позу человека ранимого, пассивного, готово чуть что защищаться или нападать в ответ.
ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ — СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО
Когда мы хотим описать, насколько мощными могут быть слова или образы, мы часто прибегаем к языку физического насилия («пощечина»). Отчасти мы делаем это потому, что слова и образы порой имеют соматическое воздействие, а отчасти потому, что надеемся, что в нашей боли увидят сходство с физическим насилием или даже его эквивалент, ведь тогда ее будут воспринимать серьезнее, а обидчик перейдет из разряда допустимых в разряд запрещенных.
Часть дискурса о «словах, которые ранят» вдохновлена одноименной антологией 1993 года, в которой редакторка Мари Мацуда объединила несколько эссе научных специалистов в области права, целью которых было разбить догматизм свободы слова в Соединенных Штатах, усложнив контекст. Многие из этих эссе приводят доводы в пользу расширенного регулирования наиболее жестких форм языка ненависти по аналогии с тем, что практикуется в других демократических странах на протяжении десятилетий. На мой взгляд, в книге приводятся веские аргументы как в пользу, так и против ограничения прав, например, вооруженных неонацистов на уличный протест и скандирование антисемитских лозунгов – именно на сценариях такого типа сконцентрировано внимание в «Словах, которые ранят». Однако использование подобных аргументов в сфере искусства влечет за собой определенную опасность, учитывая, что искусство, даже когда оно оскорбительно, предстает перед разнообразной аудиторией и не имеет четко обозначенной цели; обычно в искусстве нет единственного и неизменного содержания или недвусмысленно (даже явно) злого умысла; за исключением печально известных произведений, которые можно пересчитать по пальцам, искусство не представляет неизбежной опасности для своей аудитории, которая, как правило, должна тщательно выискивать эту опасность, если хочет испытать на себе ее непредсказуемое и разнообразное воздействие.
Когда профессора права в Беркли Джона А. Пауэлла спросили о недавних попытках приравнять речь к телесным повреждениям, он ответил, что «классическое либеральное обоснование свободы слова» – «ваше право наносить удары заканчивается на кончике моего носа» – перестало быть состоятельным, когда «мы узнали о мозге многое из того, чего не знал Джон Стюарт Милль. Поэтому [современные студенты] спрашивают: „Учитывая всё, что мы на сегодняшний день знаем об угрозе стереотипов, травмах и ПТСР, где именно находится кончик нашего носа?“»[39]39
См. статью Эндрю Маранца «Как тролли превратили Беркли в цирк свободы слова».
[Закрыть] Это любопытная мысль, и я не верю, что у этой проблемы есть решение. Но мне еще не довелось услышать ни одного убедительного аргумента в пользу того, что эту концепцию можно разумно применить в сфере искусства. Возможно, неврологи и психиатры сегодня знают больше о том, как работает травма и ПТСР (возможно и нет: история психологии не вселяет в меня веру в ее телеологический прогресс). Но даже с учетом тех знаний, которые есть у них или у нас на сегодняшний день, вопрос о том, как лучше всего реагировать на травму или ПТСР, остается открытым; терапия таких состояний едва ли сводится к остракизму или контролю над чужим самовыражением.
Выражению нужен контекст. Искусство – один из таких контекстов, и важно обращать внимание на его специфику[40]40
Пример тиранического отсутствия контекста предлагает писатель Уолтер Мосли в колонке, опубликованной в 2019 году под названием «Почему я покинул комнату сценаристов». Мосли описывает, как однажды один коллега подал анонимную жалобу в отдел кадров после того, как Мосли, пересказывая историю, услышанную от белого полицейского, использовал слово на букву «Н». Мосли вызвали в офис, где ему объявили, что он не может больше произносить это слово на работе ни при каких условиях, что в конечном итоге привело к его увольнению.
[Закрыть]. По-прежнему одна из наших задач – уметь определять разницу между чувствами, которые вызывает, например, эпизод в романе, где кто-то проклинает героиню, называя ее «пиздой», и ситуацией, когда вы вышли на улицу за молоком, и «пиздой» вас назвал случайный прохожий; когда вас окружает группа альтрайтов, скандирующих «пизда» с факелами в руках, и когда «пиздой» вас называет любовник или любовница во время секс-игры; когда вас во время совещания «пиздой» называет ваш босс, и когда, проходя мимо, вы увидели на стене слово «пизда», написанное баллончиком; когда вы называете собственную пизду «пиздой», и когда вы читаете этот абзац, и так далее. Гомогенизирующая логика паранойи вовсю работает ради того, чтобы сглаживать такие различия или пренебрегать ими; именно гомогенизирующая логика паранойи требует, чтобы все люди реагировали на них одинаково – и всегда неизменно[41]41
Это релевантно и для риторики ненависти. Например, Чарльз Блоу в своей колонке «Моральное возвышение» в New York Times от 31 мая 2018 года пишет: «Меня не оскорбляют расистские высказывания. Нисколько. Тем не менее я считаю, что люди находят их оскорбительными: как те, кто ими разбрасывается, так и те, кто сочувствует возможному унижению». Его точка зрения, которую он подкрепляет цитатами Тони Моррисон, заключается в том, что расистские комментарии в своей основе отражают моральную несостоятельность человека, который их отпускает, а не того, кому они адресованы, и риторика вреда разламывает это принципиальное разграничение, предполагая, что расистские комментарии унижают адресата, а не автора. Безусловно, это индивидуальная реакция Блоу, и другие могут не разделять его мнения. Однако, эта точка зрения напоминает, что существует множество эмоциональных и этических реакций на токсичную речь.
[Закрыть]. Здесь мне приходит на ум одно из моих любимых произведений видеоарта – восьмиминутная работа 2008 года под названием «Ты никогда не будешь женщиной. До конца своих дней ты должна жить как мужчина, и с каждым годом ты будешь становиться всё более мужественной. Выхода нет», снятая А. Л. Штайнер и Закари Друкер вместе с Ван Барнс и Мэрайей Гарнетт. В этом фильме Друкер и Барнс, две трансгендерные женщины, обмениваются оскорблениями в разных интонациях: от ненависти до соблазнения и нежности, при этом изображая различные интимные позы. Создательницы фильма описывают взаимообмен как средство для «подготовки [участниц] к более масштабной и опасной культуре нетерпимости и насилия», в результате чего обе «наконец возвращают себе агентность». Но отчасти гениальность этого видео заключается в том, что оно позволяет зрителям погрузиться в изменчивый, многогранный, неопределенный мир уничижительной риторики, присвоенной или, наоборот, позволяющей нам почувствовать и увидеть ее многочисленные измерения, пока оскорбления повторяются вновь и вновь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































