Текст книги "О свободе: четыре песни о заботе и принуждении"
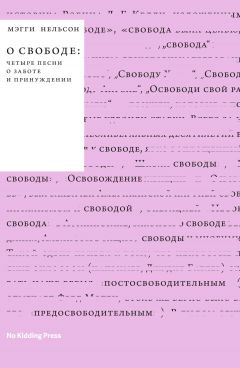
Автор книги: Мэгги Нельсон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Я не считаю этическим поражением отказ взять на себя бремя того, как искусство может повлиять на разнообразную, неконтролируемую массу других людей. Более того, оно, наоборот, может проводить разумные границы в мире, посвятившем себя их размыванию – в таргетированной рекламе, общих календарях Гугл, онлайн-приглашениях, срочно ожидающих вашего ответа, круглосуточной доступности примерно 3,4 миллиарда людей по всему миру через электронную почту и социальные сети. Такое размывание предполагает, что человеческого внимания, которое, в сущности, есть одна из форм заботы, может требовать кто угодно, если они возмущены и имеют доступ в интернет. Как замечают многие, такая экономика внимания утомляет (или вызывает зависимость), а также отнимает время от тех занятий и людей, о которых мы должны заботиться больше всего. И хотя мы можем фантазировать о том, что наша забота безгранична (и это может быть правдой в духовном смысле), в повседневной жизни многие из нас вынуждены признать, что забота – это экономика со своими ограничениями и переломными моментами[50]50
Нэнси Фрейзер в статье «Кризис заботы в эпоху капитализма» пишет: «Ни природа, ни социальные репродуктивные способности не бесконечны, они могут быть доведены до предела своих возможностей». См. также идеи Берарди о когнитивном истощении капитализма в книге «Душа за работой» и статье «Шизо-экономика».
[Закрыть].
В статье «Истощение и энтузиазм: как сопротивляться диктату производительности» критик Ян Фервурт описывает эту проблему как вопрос масштаба: «С этической точки зрения… существует фундаментальная проблема: когда мы полностью осознаем возможные последствия формулы „Мне не всё равно“, мы вынуждены признать, что потенциал заботы не может быть организован коллективно, потому что долг перед другим, скрытый во фразе „Мне не всё равно“, всегда радикально конкретен. Обобщить его – значит уничтожить саму его движущую силу». Далее Фервурт отмечает, что для того, чтобы быть вовлеченным в «дисциплину заботы», которая имеет значение главным образом в медийной среде и экономике, требующей времени и внимания, необходимо научиться устанавливать границы. В некоторых ситуациях, как наблюдает Фервурт, «открыто заявить „Я не могу“ – единственный адекватный способ продемонстрировать, что вы заботитесь о своих друзьях, семье, детях или любимых, которым необходимо ваше присутствие, или вам нужно посвятить себя какому-то продолжительному творческому занятию, которое требует времени». Как сбалансировать глубокое внутреннее убеждение, что «мы всем обязаны друг другу» и эту особую экономику – неразрешимая головоломка, с которой каждый разбирается по-своему, на свой вкус и в соответствии со своими возможностями.
Услышать (или произнести) фразу «Я не могу» может быть неприятно, но, скорее всего, это означает, что забота проявляется где-то еще. Для многих художников «где-то еще» – это жесткая, иногда неосознанная защита условий, которые обеспечивают их продолжительную художественную практику. Такая защита может приводить других в ярость. И это понятно, ведь эстетическая забота отличается от других форм заботы. Кажется, что в ней нет прямого беспокойства о других, – так оно и есть. Эстетическая забота подразумевает внимание к другим вещам: качеству бумаги и пигмента, гравитации, окислению, случайности, узору, мертвому и нерожденному. Всё это – тоже часть мира, тоже часть сил, которым мы многим обязаны и которым должны подчиняться. Эти силы не всегда заявляют нам о своих требованиях через человеческие тела или этические нормы, но это не повод сомневаться в силе или жизнеспособности их призывов. Я состою в браке с художником, и хотя мы, по-видимому, понимаем важность работы друг друга лучше других, тот факт, что наша работа состоит в основном из самостоятельного, трудоемкого, уединенного труда (сопровождаемого «перерывами», которые посторонним могут показаться тратой времени), почти или вовсе не ограниченного жесткими сроками и без каких-либо гарантий прибыли (чаще всего работа приносит убыток), всё вышеперечисленное делает эту работу легкой мишенью, если один из нас решает, что другой мог бы или должен был бы заняться чем-то еще (убраться дома, поиграть с детьми, уделить внимание второму, заработать денег и так далее). В то же время мы оба знаем, поскольку оба преподаем, что одна из самых важных вещей, которой мы должны делиться как друг с другом, так и с нашими учениками – это необходимость выделять пространство и время для собственного творчества в мире, который всегда будет угрожать его существованию и преуменьшать его значимость.
Конечно, в жизни художника бывают моменты, когда позиция «мне всё равно» становится несостоятельной (мой собственный брак напоминает мне об этом где-то раз в неделю). Но пока мы в любой момент можем попросить других о чем-то большем или о чем-то ином, требование реакции или взаимодействия с нами на наших условиях отражает, прежде всего, наше желание. А желание всегда рискует остаться неудовлетворенным. В ответ на «Ты должен меня выслушать», или «Ты должен обо мне позаботиться», или «Ты должен мне ответить» – неважно, обращается ли к вам художник, учреждение, любовник, ребенок или представитель в Конгрессе – вы всегда можете сказать «нет» (или «не так, как ты меня просишь»)[51]51
Я вспоминаю протестующих против Института современного искусства, которые требовали от администрации музея предоставить «настоящее тело» Даны Шутц, будто музей имел или должен иметь возможность конструировать ее тело. («Вы сказали, что Дана не обязана физически присутствовать на своем выступлении. Чтобы оправдать это требование, вы заявили, что художнице не обязательно говорить, и, цитируя вас, Ева [Респини, главная кураторка Института современного искусства], „художественные интересы художницы не ограничиваются пределами этой картины“. Такая линия защиты не учитывает отношения власти, которые требуют такой формы отчетности».) В таких конфликтах полезно прояснить, что является целью: этический обмен или политический театр. Если целью является политический театр, то уловка с поддельными извинениями за портрет Тилла, отправленными национальным изданиям якобы от имени Шутц (ее электронную почту взломали), может оказаться эффективной (даже если взлом и подмена личности выдают собственные этические проблемы). Но если цель состоит в движении в сторону этического обмена, то такой трюк выглядит, скорее, как издевательство. Этический обмен призывает нас смириться с тем фактом, что другие люди обычно не говорят того, что мы хотели бы от них услышать. Они говорят своими словами. Зачастую они даже не близки к тому, что мы хотим услышать по разным историческим и личным причинам. (Иногда они предпочитают вообще не говорить.) Всё это может ужасно расстраивать и даже бесить, но тем не менее мы не можем ожидать, что такого не будет, как не будет и чего-либо еще.
И здесь я категорически не согласна с Сарой Шульман, которая в своей книге «Конфликт – не насилие» призывает читателей не принимать «нет» в качестве ответа и игнорировать чужие личные границы, если люди утверждают, что не хотят продолжать разговор или идти на контакт, особенно если такое пожелание выражено онлайн. («Иногда сердитые или травмированные ксенофобы требуют: „Не пишите мне“. Я хочу заявить для протокола, что никто не обязан подчиняться одностороннему приказу, не вынесенному на обсуждение… Когда взрослые люди отдают приказы, прячась за технологиями, они ведут себя неправомерно».) Многие двенадцатиступенчатые программы помогли людям понять, что упорная попытка настоять на выполнении «долга по восстановлению» (не говоря о требовании этого от других) вряд ли приведет к результату, если она нарушает установленные границы другого человека или может нанести ему иной вред. Так что, конечно, вы не обязаны «подчиняться», если вам говорят, что с вами не хотят иметь дела, но имейте в виду, скорее всего, вы нарываетесь на блокировку или охранный ордер, а не на продуктивный разговор.
[Закрыть]. Тогда вам понадобится план В. Обычно нам также нужен надежный план C и D. Как только мы признаем, что в мире существуют другие люди – что труднее, чем кажется, – нам приходится считаться с тем, что мы не можем их контролировать, даже если зависим от них (Филлипс). Такое отсутствие контроля пугает и даже бесит. Тут, как сказал Филлипс, и лежит начало политической жизни, не говоря уже о зарождении репаративного эксперимента.
ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО, МОЖЕТ БЫТЬ, ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО
Когда Лэнгстон Хьюз говорил, что «художник, безусловно, должен иметь право выбирать, что он делает, но он также никогда не должен бояться делать то, что, может быть, хочется», его больше всего беспокоило «стремление [Черной] расы приблизиться к белым». В частности, он имел в виду одного Черного поэта (многие полагают, это был Каунти Каллен), которого цитирует Хьюз: «Я хочу быть поэтом, не поэтом-негром». В этом контексте страх означал, главным образом, страх – или даже стыд – быть Черным и писать как Черный, что бы это ни значило для Хьюза в те времена.
Я не хочу искажать слова Хьюза, выдергивая их из контекста. Но позволить их сложной мудрости изменяться – способ отдать им должное. Ведь нет никаких сомнений в том, что его мантра оказалась невероятно эластичной и подошла для ситуаций и людей за пределами ее первоначального смысла. У каждого поколения есть силы, которые вселяют в художника «страх делать то, что, может быть, хочется»; несомненно, этот вопрос имел огромное значение для Хьюза, который, помимо участия в ожесточенных спорах о публике, покровительстве и доступности внутри сообщества, подвергался преследованиям со стороны ФБР в рамках борьбы с «Красной угрозой» 1940-х и 1950-х годов.
Рэнкин и Лоффреда абсолютно правы, когда утверждают, что крайне важно, особенно в обусловленных расой противоречиях искусства, не воспринимать «критическую реакцию как запрет» – не совершать ошибку, которую они считают «инфляционной риторикой возмущенной белости». Достаточно сказать, что я не слишком переживаю по поводу писательниц вроде Лайонел Шрайвер, которая жаловалась, надев сомбреро: «Признаюсь, эта атмосфера пристального изучения действует мне на нервы. Когда я только начинала писательскую карьеру, я, не задумываясь, создавала черных персонажей, например, использовала черные диалекты, которые хорошо знаю, поскольку часто слышала их в детстве на юге Америки. Сейчас изображение персонажей разных рас вызывает у меня тревогу, я беспокоюсь из-за их акцента». Упаси Боже «хорошему слуху» столкнуться с необходимостью сомнений, беспокойства и самоанализа, прежде чем использовать Черные диалекты! Полное отсутствие понимания того, что с самоанализом или осведомленностью по теме может быть связано что-то сложное, конструктивное, эстетически или этически вразумительное, пусть и на мгновение неприятное – вот и всё, что нужно знать об хрупкости представлений Шрайвер о художественной свободе, которые, по-видимому, моментально скукоживаются при соприкосновении с неоднозначной, часто глубоко расистской историей изображения белыми речи Черных или, в случае возможной критики, за использование этой речи.
Однако мне кажется, если – и когда – мы действительно призываем к демонтажу и/или запрету произведения искусства и/или к наказанию автора или куратора на основании одного только конкретного произведения искусства (например, прибегаем к дисциплинарным мерам в мастерской художника, отменяем выставку, уничтожаем работу, заносим художника в черный список других учреждений, лишаем наград, препятствуем публичной демонстрации работы, угрожаем личной безопасности и так далее), лицемерно утверждать, что на самом-то деле мы ни к чему не призываем, и настаивать, что у нас недостаточно власти, чтобы выдвигать подобные требования и лучше всего рассматривать их как инертный перформанс, созданный для привлечения внимания к данной работе, которое в другом случае критика не смогла бы ей уделить. Точно так же, если под «последствиями» мы на самом деле подразумеваем «требование, чтобы власть имущие вмешались и наказали», мы должны взять всю ответственность за такое требование на себя. Женщина-теоретик Андреа Лонг Чу права, когда утверждает в своей статье о #MeToo, что «желание наказать из лучших или из худших побуждений – не то же самое, что наказание». Тем не менее, я не уверена, что, если это желание находит активное публичное выражение, такое разделение имеет ту этическую прочность, на которую надеется Чу. Если у нас нет средств для возбуждения судебного процесса или уничтожения кого-то в социальном или профессиональном смысле, это вовсе не значит, что у наших обвинений или кампаний по оказанию давления нет никакого эффекта, в том числе карательного. (Будь это так, не стоило бы и беспокоиться.) Кроме того, если принять рабочее определение цензуры Американского союза защиты гражданских свобод: «Цензура – сокрытие слов, изображений или идей, которые являются „оскорбительными“ – происходит всякий раз, когда некоторым людям удается навязать свои личные, политические, или моральные ценности другим. [Цензура] может осуществляться правительством, а также частными группами давления» – то можно заметить, что объединение ради запрета определенных работ, занесения в черный список или увольнения художников может считаться цензурой, для этого не нужен служебный значок или должность в государственных органах.
Я понимаю высказывание о том, что протестуют люди «без власти», тогда как цензурой занимаются люди, «наделенные властью», согласно этой логике, нельзя назвать призыв Ханны Блэк к демонтажу и уничтожению картины Шутц «цензурой», разве что «проявлением чувств». (В определенный момент Дюрант использовал это различие, чтобы объяснить, почему он не считал, что уничтожение «Эшафота» – это согласие с цензурой, хотя с тех пор он значительно поменял свои взгляды[52]52
В сентябре 2020 года вышло эссе Сэма Дюранта под названием «Размышления об „Эшафоте“ три года спустя», в котором Дюрант пересматривает свои первоначальные заявления о свободе действия и власти:
В отличие от моих предыдущих заявлений, когда я утверждал о собственной относительной свободе действий, теперь я наблюдаю недопонимание динамики переговоров между заинтересованными сторонами. Сейчас я хочу быть предельно точным, чтобы не создавать впечатления, будто я был актором, наделенным значительной свободой действий, или каким-то образом контролировал и мог решительно повлиять на принятие решений на протяжении переговоров. Напротив, пока старейшины Дакота вели переговоры с руководством Центра Искусств Уокера и представителями штата Миннесота и города Миннеаполис, у меня почти не было права повлиять на судьбу «Эшафота». Я не хочу отрицать свой статус представителя доминирующей группы (белого мужчины с привилегиями белого превосходства), но хочу подчеркнуть специфику своего положения как художника и стороннего наблюдателя среди людей, располагающих большей свободой действия, чем я в этих конкретных обстоятельствах. Я также хочу прояснить, что старейшины Дакота мастерски распоряжались своей властью, они были кем угодно, но только не жертвами. Это очевидно, поскольку и Дакота, и штат Миннесота получили то, что хотели, – демонтаж скульптуры и соответствующее прекращение протестов. Моя роль заключалась, по большей части, в том, чтобы дать согласие на демонтаж и передачу авторских прав на «Эшафот» этнической организации народа дакота «Оятэ». И это немаловажно. И не ограничивает мою свободу слова, как посчитали некоторые. Я добровольно принял вышеуказанные условия.
[Закрыть].) Но нам, наверное, не нужно соглашаться с чем-то, что технически зовется «цензурой», чтобы критически рассматривать наши тактики, привычки и предубеждения по поводу власти. Как известно почти каждому действующему активисту, власть меняет форму и перемещается, преодолевая долгий путь к утверждению. Отказ от застывших представлений о том, что такое власть и где она располагается, может стать решающей частью побуждения к ее перераспределению; осознание нашей власти – не говоря уже о нашем стремлении к ней – побуждает к размышлению о том, что мы хотим с ней делать или что уже делаем. На мой взгляд, утверждение о том, что хорошо всё, что хорошо кончается, если вдруг институции не выполнят наших требований (например, профессора не уволят из университета, музей не уберет картину, а издатель не отзовет публикацию) – нельзя считать планом победы.
Что касается самоцензуры, то ее, как известно, сложно измерить: можно коллекционировать истории или впитывать атмосферу, но индивидуальные художественные решения остаются, по большей части, деяниями труднопознаваемого человеческого сердца, к которому у нас самих не всегда есть полный доступ. Кроме того, мы сами непрестанно занимаемся самоцензурой, зачастую ради глубоко благоприятного социального, личного или даже эстетического эффекта (в литературном творчестве это можно даже назвать «редактурой»). Некоторые видят в определенных формах самоцензуры доказательство благотворного изменения норм (например, изменение стандартов допустимости в отношении языка нетерпимости); некоторые даже находят в ней утешение, поскольку воспринимают самоцензуру как знак того, что определенная мера свободы всё еще существует (например, некоторым поднимает настроение тот факт, что какой-нибудь автор подростковой литературы отозвал публикацию книги или очередной Сэм Дюрант уничтожил скульптуру самостоятельно, а не предоставил институциям возможность отдать работу на съедение внешним силам. Билл Донохью из Католической лиги, который стремится настолько испортить жизнь художникам, чтобы они подвергали самоцензуре любую потенциально оскорбительную работу еще до того, как начнут ее создавать, зашел так далеко, что назвал самоцензуру «соратницей свободы». И наоборот, некоторые считают, что рост самоцензуры – признак торжества более коварного типа несвободы («Но теперь всё хорошо, всё хорошо – борьба окончена. Он победил себя. Он любит Большого Брата»).
Из-за споров вокруг «Эшафота» Дюранта Национальная ассоциация по борьбе с цензурой (NCAC) раскритиковала действия Центра искусств Уокера следующим образом:
Культурным учреждениям и художникам необходимо срочно разработать творческие способы реагировать на подобную критику и подключать к их разработке различные сообщества, при этом серьезно относиться к ответственности за произведения искусства, находящиеся на их попечении. Без активной институциональной поддержки работ художникам, которым приходится сталкиваться с сильным давлением в социальных сетях, личными оскорблениями и даже угрозами физической расправы, может казаться, что у них нет другого выбора, кроме как согласиться на уничтожение своей работы, отказаться от определенных тем (самоцензура) и/или даже отказаться от своих прав на интеллектуальную собственность.
Дюрант отверг идею о том, что у него «не было выбора» и он был вынужден согласиться с требованиями протестующих; ставить под сомнение его восприятие собственной свободы действий означало бы обвинять его в ложном сознании, что не в моих правилах. Более того, переговоры между Дюрантом и представителями народа Дакота показались мне мучительной, но воодушевляющей историей о возможностях протеста, диалоге и благополучном разрешении. Однако глупо отрицать, что нынешняя среда, как указывает Ассоциация по борьбе с цензурой, способна оказывать новые формы сильного, иногда угрожающего давления на отдельных художников – давления, которое мы еще не полностью осознали и с которым не до конца считаемся, но которое, несомненно, влияет на всех нас.
Я согласна, что нельзя сравнивать такой вид давления с нынешними и прошлыми практиками дискриминации, исключения и государственного подавления, как раз поэтому я не использую для его описания такие слова, как «тоталитарный». Как сказала Маша Гессен: «За плечами тоталитарной идеологии стояло государство. За контролирующими органами тоталитарной идеологии – будь то члены ЦК, руководители Союза писателей или авторы вывесок на витринах, – стояла власть государственных учреждений. У протестующих на улицах американских городов и поддерживающих их журналистов нет государственной или институциональной поддержки, ровно наоборот: на каждом этапе они ей противостоят». В то же время исключительное внимание к угрозам со стороны государства может привести к минимизации или уклонению от тех проблем нашего времени, которые включают приватизацию так называемой общественной сферы, хотя многие элементы нашей жизни сформированы негосударственными силами. К тому же это может привести к недооцененности иных, неполитических сфер – социальной, частной, эмоциональной и духовной, – которые определяют наш общественный и жизненный опыт.
Если нынешние представления о структурном расизме, неравных возможностях, токсичной филантропии, артвошинге[53]53
Артвошинг или «промывание мозгов искусством» – термин, определяющий сотрудничество художниц и художников с организациями и корпорациями в целях улучшения имиджа последних. – Примеч. пер.
[Закрыть], взаимодействии с сообществами, возмещении ущерба и сокращении финансирования искусства будут столь же радикальными и реформаторскими, какими им и следует быть, многие будут ощущать беспокойство и притеснение, вполне, впрочем, реальные. И это нормально. Я надеюсь, мы сможем справиться с такими последствиями, не забывая при этом, что мы обратились к искусству – или, по крайней мере, большинство из нас обратились в какой-то момент – как раз для того, чтобы уйти от тупиковых бинарностей «нравится/не нравится», «осуждение/восхваление» – от того, что Седжвик назвала «риторикой хорошей/плохой собаки в школе дрессировки для щенков», которой и в других областях предостаточно. У многих художников, которые для меня очень важны, были проблемы с законом и не всегда по этически безупречным причинам (на каждого Торо найдется свой маркиз де Сад, на каждого Хьюза Кливер, на каждого Голдмана – Соланас). Многие художники и мыслители, которых я упоминала на этих страницах, в том или ином виде подвергались «аресту»; написание этой книги заняло так много времени, что некоторые уже успели пройти стадию «ареста» и перешли в категорию «неоднозначных фаворитов» – термин, который я презираю. Презираю, потому что он предполагает, что существуют «однозначные» люди, видимо, те, чьи слова, убеждения, эксперименты или поступки никогда не сбивали с толку других, а, на мой взгляд, именно это и значит размышлять, создавать достойные произведения и быть сложной личностью. Такой подход отражает логику «идеализируй, унижай, отсеивай», которая свойственна нарциссическому восприятию других, а точнее их не-восприятию. Идея о том, что мы могли бы просто исправить людей: срезать немного алкоголизма тут, немного педофилии там (мачизма, трансфобии, расстройства личности или чего угодно еще) и продолжать поклоняться им как героям, кажется мне смехотворной, даже жестокой. Я убеждена, что это не имеет ничего общего с идеологией репаративной справедливости, формой идеологии, из которой беспощадно заимствуют отдельные части, не придерживаясь ее основополагающих принципов[54]54
Такие принципы могут предполагать следующее: те, кому был нанесен наибольший ущерб, должны быть сильнее других вовлечены в устранение его причин; вовлеченные стороны должны выслушать друг друга, если это возможно; как жертвы, так и агрессоры нуждаются в сострадании и заботе; конечная цель процесса – реинтеграция обидчика в сообщество, а не изгнание (см. http://restorativejustice.org/#sthash.eoh1btIH.dpbs). Применение таких принципов в сфере искусства сразу же сталкивается с проблемами, поскольку восстановительное правосудие зависит от общего соглашения по поводу фактически причиненного вреда (обычно, явного преступления); но, когда дело доходит до искусства, такой консенсус – большая редкость. Кроме того, восстановительное правосудие опирается на соблюдение заранее согласованной структуры для упрощенной координации и разрешения проблемы; музейные дискуссии, которые модерируют обороняющиеся кураторы и администраторы и на которые приходят разгневанные протестующие, редко могут соответствовать вышеописанным требованиям (это еще одна причина, по которой частная встреча Дюранта и старейшин Дакота была такой необычной и продуктивной). Позже Дюрант так описал эту встречу в одном из интервью: «Там были люди из Центра Искусств Уокера, дакотские старейшины и я. Это было церемониальный круг. С их точки зрения, наша встреча была духовным собранием, а не политическим, что позволяло вести определенный диалог, возможно, более открытый и честный. Он был очень откровенным».
[Закрыть].
Мифы о художнике вне закона (или о режиссере, страдающим манией величия, о неисправимо похотливом романисте, о ком угодно), к которым мы обращались так долго, не должны считаться оправданием неприемлемого поведения. В то же время наивно и несправедливо ожидать от художников и писателей, что они, имея доступ к наиболее интенсивным, экстремальным или болезненным аспектам жизни, вдруг с удивлением и ужасом обнаружат, что их связь с этими явлениями выходит за рамки абстрактного созерцания или простой критики. К счастью, делать вид будто мир четко делится (или что наша задача разделить его) на неоднозначных, этически нестабильных, по существу, опасных людей, которым следует оставаться «там», и однозначных, этичных, по сути, безопасных людей, которым можно позволить остаться «здесь» – не единственный выход. В конце концов, то, что я только что описала, называется тюрьмой.
ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО
Ставки в борьбе раскрепощенности и свободы против запрета и долга выходят далеко за пределы мира искусства. Пока я пишу эти строки, ультраправые, по словам Венди Браун, ведут «блестящую… кампанию» по объединению «антиэгалитарных, антииммигрантских и антиответственных настроений со свободой и весельем», при этом называя «левые и либеральные убеждения репрессивными, регулирующими, мрачными и полицейскими». Эта кампания привлекает потенциальных новообращенных обещанием освобождения от ответственности любого рода, будь то ответственность «за себя, за других, за мир, за социальный договор с другими, за социальный договор с будущим во имя определенной политической и социальной раскрепощенности». Предостережения Браун, которые стали еще более актуальными за то время, что я потратила на написание этой книги, состоят в том, что слияние либидинальных «свободы и веселья» с «новой авторитарной государственностью» способно распространяться с огромной силой и скоростью и может привлекать внимание «молодых, неискушенных, безрассудных и раненых». Это слияние, по словам Браун, приведет нас к «серьезным проблемам, каких мы не знали прежде», и потребует «серьезных размышлений над тем, какие стратегии мы могли бы им противопоставить»[55]55
Все цитаты Венди Браун в этом абзаце взяты из ее выступления в Международном институте Калифорнийского университета, которое состоялось в марте 2017 года под названием «Вернем популизму, авторитаризму и фашизму былое веселье».
[Закрыть].
Одна из таких стратегий – привнести либидинальный заряд неконтролируемой агрессии в ряды сопротивления и оппозиции, которые, в попытке оправдаться за возможные этические ошибки, утверждают, что оскорбление, троллинг и даже неспровоцированное физическое нападение – правомерный источник «свободы и веселья», если они совершаются более уязвимыми в отношении более привилегированных[56]56
Такой подход можно найти у Наташи Леннард в ее описании эстетического и либидинального удовольствия от просмотра видео, в котором неонацист Ричард Спенсер получает по лицу: «Трансцендентный опыт наблюдения за игрой Роджера Федерера Дэвид Фостер Уоллес назвал „кинетической красотой“. Ювелирная точность Федерера и его владение моментом на грани человеческих возможностей была формой телесной гениальности. То, что Фостер Уоллес увидел в „моменте Федерера“, я вижу на видео, где неонацист Ричард Спенсер получает по лицу… Все, кто наслаждается избиением нацистов на видео (а таких много), должны знать, что они наблюдают за тактикой антифашистского блока par excellence – смотрят на первозданную кинетическую красоту». Такие рассказы убедительно напоминают о том, что любое человеческое животное, вне зависимости от политической принадлежности, может заряжаться либидинальной и эстетической энергией насилия и преобразовывать это возбуждение в добродетель.
[Закрыть]. Такой подход может привести к поведению, зеркально отражающему вседозволенную жестокость, известную как трампизм, но обращать на это внимание – не попытка всем угодить, как смело утверждали бы некоторые. Обращать на это внимание – значит признавать, что проблема получения удовольствия от выплескивания ярости или проявления воинственности в адрес тех, кого мы сочли плохим объектом, подходящим для наших (часто обоснованных) обид, – это то, к чему каждый из нас склонен и за что каждому из нас придется ответить.
Другая стратегия заключалась в том, чтобы взять на себя роль «зануды», как писала Сара Ахмед: «Быть занудой… возможно, это отличный план по созданию нового мира». Для Ахмед и других быть занудой – значит признавать, что в этом мире много того, что не без оснований может нас расстроить, а попытка обратить внимание других на эти несправедливые трагичные явления может расстроить и их (что, в свою очередь, превращает вестника в плохой объект (если он еще им не был) просто по факту его существования). Зануда Сары Ахмед демонстративно сопротивляется требованию быть счастливым, особенно в случаях, когда это счастье основано на подавлении несчастья других, вплоть до их порабощения[57]57
См.: Сара Ахмед – «Обещание счастья».
[Закрыть].
Обламывать удовольствие – важный этап на пути к пониманию того, как мы можем стимулировать более справедливые, общие формы благополучного сосуществования; если использовать его с юмором и креативностью, он даже может быть веселым (как в иммерсивном проекте KillJoy’s Kastle, лесбийском феминистском доме с привидениями, созданном Эллисон Митчелл и Дейрдрой Лог, который возрождает «„мертвые“ теории, идеи, движения и стереотипы, придавая им квир-флер» в виде «Полиаморных бабушек-вампирок», «Зомби-фолк-певиц», «Бунтующих упырей» и «Помешанных профессорок с кафедры женских исследований»)[58]58
См.: https://iceboxprojectspace.com/killjoys-kastle-2019. См. также сборник под редакцией Митчелл и Маккинни «Внутри Killjoy’s Kastle».
[Закрыть]. Но я слишком многого еще не знаю (но отчаянно хочу узнать) о непредсказуемом удовольствии, строптивом веселье и радикальном сострадании, чтобы позволить себе благоговеть перед риторикой занудства или жалоб, поскольку слишком часто такое благоговение скатывается в «нездоровое групповое отчуждение, в котором людей связывают не кровь или общий язык, а плохие предчувствия, в которых они соревнуются», как сформулировал Мотен. Такая ситуация, по его же словам, приводит к тому, что многие тратят «огромное количество времени на размышления о том, чего не хотят делать, и на размышления о том, чем они не хотят стать, вместо того, чтобы браться и реализовывать то, чего они хотят».
С давних времен искусство было местом, где люди выражают, что хотят, и думают о вещах, о которых хотят думать. Искусство издавна было пространством для участия в открытых экспериментах с крайностями, дикостью, сатирой, бунтарством, табу, красотой и абсурдом, оно создавало пространство для анархических жестов и устремлений, которые в противном случае могли бы (к счастью или к сожалению) разорвать полотно социальных норм и общественного устройства. Искусство издавна было зоной свободы и веселья, где не прибегали – а если и прибегали, то нечасто – к запугиванию, угрозам или издевательствам[59]59
Опять же, это связано с динамикой власти, и мне не кажется, что среди современных художников много тех, кто тратят свое время на унижение уязвимых; регулярные набеги на эту территорию совершают только стендап-комики. Эссе Джерарда Косковича «Конвенции власти/Стратегии неповиновения: квир-заметки»), посвященное шуткам о СПИДе, предлагает отличный краткий вводный курс по вопросам юмора, субъектности и динамики власти. См. также антологию 2016 года «Хокум: Антология афроамериканского юмора» Пола Битти. Кроме того, хотя искусство и способствует процессам возбуждения и оправдания, важно отметить, что не все подобные состояния равноправны: как показали исследования нейропсихолога Аллана Шора (и многих других), тип возбуждения, связанный, скажем, с протестами, где толпа, разгневанная на врага, ставшего козлом отпущения, может воспроизводить процессы разобщения и фрагментации, а не оправдания.
[Закрыть]. Как отметил Доун Ланди Мартин о работе Кары Уокер: возможно, это «экзорцизм… изгнание культурных демонов» – то есть рамка для того, чтобы подчеркнуть нечто или поразмыслить о чем-то, о чем нельзя размышлять никаким иным способом. Некоторым из нас оно предлагает магию – магию, которую трудно найти в другом месте, которая может сделать жизнь более достойной. Тем, кто решит посмеяться над такой характеристикой и увидит в ней сентиментальное очарование, или сочтет искусство вредоносным притоком капитала или очередным обанкротившимся концептом, я не предлагаю никаких опровержений, но напоминаю, что искусство может быть множеством различных явлений одновременно, явлений, которые для некоторых из нас имеют такое же или даже большее значение, чем плоды демистификации.
ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО
Переход к языку заботы и долга в рамках мира искусства отражает убежденность в том, что все формы человеческих взаимоотношений, включая искусство, могут и должны оцениваться в соответствии с их утилитарностью, способностью сделать нашу жизнь «более гуманной и выносимой для всех нас», как написала Сьюзен Сонтаг в «О стиле». Сонтаг не разделяла этого убеждения. Вот соответсвующий отрывок: «Высшим обоснованием нравственности, в отличие от искусства, служит в конечном счете ее полезность: то, что она делает – или предполагается, что делает – жизнь более гуманной и выносимой для всех нас. Однако сознание, в прошлом достаточно тенденциозно именовавшееся способностью к созерцанию, может быть – и есть – шире и разнообразнее любого действия».
Я возвращалась к этому эссе много раз и всегда находила в нем что-то новое; сегодня меня не оставляет в покое фраза «Шире и разнообразнее любого действия». Забота о себе и близких, репаративные практики, попытки сделать жизнь более выносимой и гуманной для всех нас, – всё это имеет огромное значение (и также имело огромное значение для Сонтаг). Однако, хорошо это или плохо, это еще не всё. Многим – возможно даже большинству – жизнь кажется более полноценной и сносной, «шире и разнообразнее», когда она не сводится к одному периоду заботы или восстановления. Приятно, когда жизнь полна разных ощущений, фактур, когда в ней есть пространство для различных занятий, увлечений и удовольствий, даже тех, чья ценность неочевидна. Несмотря на многократные и настойчивые утверждения об обратном, подобное разнообразие не является исключительной прерогативой или стремлением привилегированных слоев[60]60
Здесь уместно упомянуть о различии, которое между «гранями искусства» проводит Берджер в своем знаменитом эссе «Белая птица»: «Несколько лет назад, рассматривая историческую грань искусства, я написал, что сужу о произведении по тому, помогает ли оно людям в современном мире отстаивать свои права в обществе. Я не отказываюсь от этих слов. Другая, трансцендентальная грань искусства порождает вопрос о праве онтологическом… Трансцендентальная грань искусства – всегда разновидность молитвы».
[Закрыть]. На самом деле, многие художники из так называемых маргинализованных групп ведут самую ожесточенную битву не за право создавать произведения, которые в надежде на изменения обращаются к «варварским реалиям расового и гендерного насилия, лежащим в основе нашей жизни» – в этом Ханна Блэк видит приоритетную цель искусства, – но за право быть услышанными, увиденными или воспринятыми всерьез, когда они решают обратиться к любой другой теме (я живу с художником, который ведет эту битву ежедневно и считает ее в высшей степени бесчеловечной).
На фоне капитализма с его одержимостью количественно-измеряемыми результатами утилитарный подход к искусству может показаться ироничным. В таком случае воспевать искусство за его неутилитарность, за то, что оно «ни к чему» не приводит – способ обратить внимание на наличие другой системы ценностей, альтернативного образа жизни. «Учитывая, сколько плохого произошло, – пишет Уэйн Кестенбаум, подражая Оскару Уайльду, – не было бы лучше, чтобы вообще ничего не происходило? Поэзия, в которой ничего не происходит – это и есть то, что в ней происходит. Поэзия предотвращает насилие всего, что составляет часть „происходящего“, то есть разрушения». Сонтаг приводит аналогичный аргумент в книге «Смотрим на чужие страдания», когда пишет: «Нет ничего плохого в том, чтобы стоять в стороне и думать. Перефразируя нескольких мудрецов: „Ни один человек не может думать и бить одновременно“». Такие взгляды могут разочаровать критиков, которые обращаются к искусству для реализации новых форм общественной заботы или для формирования контрпублики; они также могут расстраивать художников, которые считают свое искусство формой активизма. Но не должны. Искусство может, но не должно быть репаративным, чтобы представлять ценность. Более того, так называемое репаративное работает самым загадочным образом: не будет преувеличением, например, назвать «интенсивную деятельность сознания» Сонтаг репаративной работой[61]61
В своих трудах о заботе о себе Фуко использует одно из античных изречений дельфийских максим «Познай самого себя» и определяет заботу как процесс, посредством которого люди позволяют «сами [себе] или при помощи других людей совершать определенное число операций на своих телах и душах, мыслях, поступках и способах существования, преобразуя себя ради достижения состояния счастья, чистоты, мудрости, совершенства или бессмертия». В такой модели эстетическая забота могла бы стать одной из технологий, что лежат в основе этики Фуко.
[Закрыть]. В определенный момент вопрос о том, что считается репаративным, а что нет, становится вопросом семантики, игрой, в которой мы сможем участвовать, только если согласимся, что искусство (или определенное искусство) нуждается в обосновании.
Эстетическая забота, при которой человек сосредотачивает свое внимание, скажем, на одной тысяче графитовых квадратов, а не на непосредственной заботе о других (по крайней мере, в данный момент) или на вопросе о том, имеет ли – или может иметь – забота о тысяче графитовых квадратов какое-либо отношение к заботе о других – вот один из источников фактурности и масштаба. Девальвация эстетической заботы уже давно идет рука об руку с выявлением и неодобрением того, что иногда называют «искусством ради искусства» или «формализмом» (история, которую Блэк вспоминает в письме, когда обращается к «пустому формализму» – уничижительный термин, активно использовавшийся философами от Гегеля до Франкфуртской школы). Формализм не становится полноценнее, если художники руководствуются одними и теми же мотивациями или сомнениями, и не опустошается, если мнения художников расходятся. Художникам вовсе не обязательно опираться на общие основополагающие вопросы, чтобы их работа имела ценность. (См. Майк Келли: «Я занимаюсь искусством, чтобы рассказывать другим о своих проблемах».)
Ирония этого возрождающегося политизированного морализма, в котором формализм вновь играет негативную роль, заключается в том, что за последние несколько десятилетий произошел взрыв искусства и критики, которые, наконец, кажется, отходя от утомительных бинарных оппозиций формы/содержания, абстракции/фигуративности, искусства как автономного аполитичного объекта/искусства как политического оружия, искусства как подрывной деятельности/искусства как гегемонной реинскрипции, которые доминировали почти целое столетие[62]62
Другой такой бинарной структурой может быть противопоставление свободы и дисциплины, принуждения или формы – как в искусстве, так и в других сферах. Такое представление было распространено на протяжении 1960-х годов и стало поводом для важного заявления феминистки Джо Фримен в эссе 1972–1973 годов «Тирания бесструктурности», где Фримен поясняет, что любая группа людей, собравшихся вместе, неизбежно образует структуру; и реальный вопрос состоит в том, насколько эта структура формализована и прозрачна. Как показали ранние модернистские эксперименты со свободным стихом и parole in libertà (как и большая часть концептуального, процедурального и перформативного искусства 1960-х и 1970-х годов), понимание неизбежности структуры или формы имеет решающее значение как в искусстве, так и в активизме. Форма не противоположна бесформенности или неформальности, они сосуществуют и зависят друг от друга. Как пишет Трунгпа: «У вас не будет формы без бесформенности, без восприятия и принятия бесформенности». См. также интервью Фреда Мотена в конце «Недосообществ»: «Форма – это не искоренение неформального. Форма возникает из неформального… Неформальное – это не отсутствие формы. Это то, что создает форму. Неформальное – не бесформенность». Освободив себя от бинарного мышления, мы сможем избежать аргументов о том, что, если кто-то считает тиранию несправедливой и нежелательной формой правления, их искусство должно быть очищено от всех тиранических элементов (также известных как «ошибка подражающего»).
[Закрыть]. Мне на ум, например, приходит недавний пересмотр формализма, абстракции и концептуализма сквозь призму квирности и расиализации – будь то «квир-формализм» или ничем не ограниченный интерес кураторов к размышлениям о расиализации и абстракции, предложенных, в частности, Гленном Лигоном и Эдриенн Эдвардс[63]63
В своей работе «Ключевое эссе: Николь Айзенман, Чаепитие, 2012» Келли Шиндлер пишет: «Некоторые искусствоведы начали формулировать представление о „квир-формализме“ в работах [Николь] Айзенман, Эми Силлман, Хармони Хаммонд, Скотта Бертона и других»; затем Шиндлер прослеживает эту концепцию в книгах Джулии Брайан-Уилсон «Нарисуй картину, теперь пусть она кровоточит» и «Квир-формализмы: Разговор Дженнифер Дойл и Дэвида Гетси» и в книге Уильяма Дж. Симмонса «Заметки о квир-формализме». См. также выставку «История отказа: Черные художники и концептуализм» в Музее Хаммера в 2015 году, выставку куратора Гленна Лигона «Иссиня-Черный», прошедшую в 2017 году в Пулитцеровском фонде искусств и выставку Эдриенн Эдвардс 2016 года «Абстракция черности» в галерее Пейс.
[Закрыть]. Здесь уместно упомянуть теорию и практику «социальной абстракции» художника Марка Брэдфорда (которую он описывает как абстрактное искусство «в социальном или политическом контексте») и теоретизацию квир-формализма, которая не считает себя свободной от ужасов политики идентичности и не выступает против них[64]64
Брэдфорд пишет: «Меня завораживает, что движение за гражданские права возникло одновременно с развитием абстракционизма в Америке. О Джексоне Поллоке написали в Life всего за несколько лет до убийства Эммета Тилла в Миссисипи. Поэтому моя работа колеблется между историей абстрактного искусства и социальными проблемами. Я не специалист по последним, но я в них заинтересован. Одной ногой я стараюсь стоять в истории искусства, а другой – на автобусной остановке». Такое пересечение на страницах Life возымело еще более яркие последствия в новостях культуры 2015 года, когда рентгеновский снимок картины Казимира Малевича «Черный квадрат» 1915 года (первой признанной абстрактной картины в истории модернизма и иконы формалистского искусства) обнаружил расистскую шутку, нацарапанную Малевичем в углу холста: Combat de Nègres dans une cave pendant la nuit («Битва негров в пещере ночью»), отсылку к шутке Альфонса Алле, известного французского юмориста того времени. Если кому-то нужны были прямые доказательства того, что разделение между абстракцией / формализмом и беспорядочной «содержательностью» тел и идентичностей всегда были лишь плодом фантазии, рентгеновский снимок их предоставил.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































