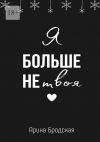Текст книги "Женщины Девятой улицы. Том 1"

Автор книги: Мэри Габриэль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Искусство и война
Глава 6. Художники-беглецы«Но это бывает со многими художниками, даже самыми большими. Они не уверены в том, что существуют как художники. И вот они стараются себе это доказать – критикуют, осуждают. Это придает им сил, это означает для них начало существования…»
«Ну а ты, – сказал Рато, – ты существуешь?..»
«Нет, я не поручусь, что существую. Но я уверен, что буду существовать».
Нью-йоркские художники, жаждавшие новостей, могли услышать их в кафе, на Вашингтон-сквер и на углу любой улицы от Челси до Четвертой авеню. Но в холодные зимние дни лучшим местом для этого считался магазин красок Леонарда Бокура на 15-й улице. Пока Леонард растирал краски и составлял нужные цвета, мастера грелись у мощных батарей, обмениваясь слухами и сплетнями. Однажды в начале октября 1940 г. речь зашла о Мондриане. Это был их коллега-нидерландец, которому пришлось бежать в Америку из Парижа, где он жил и работал. Именно Бокур сообщил нью-йоркским художникам, что Мондриан в городе. «Эта новость была сродни тому, чтобы прочитать о внезапном крупном подкреплении, подоспевшем на помощь к союзникам на фронте», – вспоминал скульптор Филипп Павия. Мондриан был одним из множества европейских мастеров, которые в последнее время искали убежища в Нью-Йорке, но при этом одним из самых известных и значимых. Среди художников, живших в Даунтауне, он считался легендой. Впрочем, его работы было очень трудно увидеть, и большинство знало их только по низкокачественным журнальным репродукциям. Что же касается самого Мондриана, это был человек-загадка. Он поселился на 34-й улице, и некоторые, кому посчастливилось мельком его лицезреть, рассказывали, что он был маленького роста и невероятно худым. Художник имел вид «скромный и совсем не героический», по словам Павии. Это делало его образ еще более таинственным и интригующим[365]365
Edgar, Club Without Walls, 39–40; Virginia Pitts Rembert, “Mondrian, America, and American Painting”, vi.
[Закрыть].
Несомненно, именно неуклонное продвижение Гитлера по Европе породило мощную волну иммиграции и привело на американскую землю Мондриана и многих других художников, композиторов, философов, поэтов, психоаналитиков и ученых. Это говорилось тысячу раз, но, безусловно, заслуживает повторения. Режимы европейских стран один за другим, словно кости домино, падали тогда под натиском нацистских танков, войск и самолетов. И скорость, с которой это происходило, поражает воображение: апрель 1940 г. – Дания и Норвегия; 15 мая – Нидерланды; 29 мая – Бельгия[366]366
Parrish, Anxious Decades, 463; Gilbert, The Second World War, 60–61, 67–68, 77, 83, 85–86, 90–91.
[Закрыть]. До всех этих событий Германия – к серьезной озабоченности соседей – перевооружалась годами. Но, когда Гитлер наконец применил свой арсенал в борьбе против других стран, это почему-то застигло Европу врасплох. В первую очередь это относится к Франции.
Через два дня после бомбежки Парижа 3 июня 1940 г. Германия ввела во Францию войска. Уже через десять дней сохранившаяся часть французского правительства подписала договор о разделе страны в пропорциях, чрезвычайно выгодных Гитлеру. Три пятых Франции оказались под немецкой оккупацией, а остальные две пятых – под французским контролем. На этой территории было установлено правление, которое войдет в историю как режим Виши. (Вишистская Франция считалась независимой, но на самом деле проводила политику в интересах нацистов, так что, по сути, Германия тогда завоевала всю Францию.) Гитлер вошел в Париж по-императорски 23 июня. Он с помпой проехал под огромным флагом со свастикой, вывешенным на Триумфальной арке. Фюрер любил этот город, но война не позволяла ему задержаться тут более чем на день. И поэтому он решил взять с собой лучшее, что было в Париже. Гитлер хотел вывезти в Германию все многочисленные произведения искусства, принадлежавшие государству и французским евреям. Когда он с триумфом вернулся в Берлин на спецпоезде «Америка», миллионы немцев приветствовали своего вождя красными флагами со свастикой[367]367
Gilbert, The Second World War, 94, 97, 101–2, 105, 108.
[Закрыть].
Для Германии захват Парижа был глубоко символичным. В 1870 г. немцы уже завоевывали французскую столицу, но во время Первой мировой войны повторить этот успех у них не получилось. Заявленное Гитлером намерение напасть на Францию в значительной мере базировалось на огромном желании исправить ошибки и компенсировать унижения, пережитые Германией в предыдущем глобальном конфликте. По мнению самого фюрера и, судя по всему, многих его соотечественников, завоевание Парижа позволяло отомстить за позор и несчастья немцев в прошлом. Но была и еще одна, более глубокая причина. Гитлер использовал немецкую мифологию и культуру, чтобы сформировать истинно арийское общество, нарисованное его воображением. В то же время оккупация Парижа должна была обеспечить ему господство над международной столицей культуры. Неслучайно Гарольд Розенберг назвал этот город «лабораторией ХХ века… Святилищем нашего времени»[368]368
Harold Rosenberg, “The Fall of Paris”, 440–441.
[Закрыть].
Французские, итальянские, испанские, русские, немецкие, нидерландские, бельгийские и швейцарские художники и другие люди культуры со всего мира десятилетиями стекались в Париж. Там они могли работать в обстановке красоты, которая мощно стимулировала творчество и интеллектуальные изыскания через свободный обмен идеями. Именно из Парижа в мир пришла львиная доля «дегенеративного» искусства, которое так ненавидел Гитлер. Став хозяином этого города, он мог бы с новой силой подавлять оскорбительные виды творчества. Фюрер также мог пресечь всякое выражение свободы со стороны отдельных личностей, будь то в форме слов или живописных полотен. Ведь эти высказывания были для тирана не менее опасны, нежели ружья бойцов французского Сопротивления. Взяв Париж под контроль, Гитлер действительно сделал большой шаг к такому господству. Поэт-песенник Оскар Хаммерстайн, увидев Гитлера на Елисейских Полях, написал стихи для песни «Последний раз, когда я видел Париж»[369]369
Parrish, Anxious Decades, 465.
[Закрыть]. А многие другие люди искусства просто принялись паковать чемоданы. Они отлично понимали намерения и цели Гитлера. Пока из динамиков, установленных на немецких грузовиках, которые колесили по улицам Парижа, доносились объявления о комендантском часе c восьми часов вечера, творческие люди планировали побег.
Впрочем, по тем временам ни одно место в континентальной Европе или Северной Африке нельзя было считать совершенно безопасным, ведь агрессию проявляли не только немецкие нацисты. Италия вторглась в Грецию и принесла войну на территории Ливии, Эритреи, Эфиопии и Сомали. Великобритания, в свою очередь, бомбила Геную, Турин и итальянские базы в Африке. И даже если кто-то из художников не был против того, чтобы забраться аж в Азию, то в некоторых частях этого континента тоже шли бои из-за политики экспансионизма, которую проводила Япония. Что касается Англии, то она избежала оккупации на суше. Однако летом 1940 г. нацистские самолеты показывались в небе над Британскими островами практически ежедневно. С 17 сентября 300 немецких бомбардировщиков и 600 истребителей начали уничтожать Лондон сериями страшных воздушных налетов. В первый же день бомбежки, пока по всему городу разносился тревожный перезвон церковных колоколов, фашисты сбросили на столицу Великобритании почти 400 тонн бомб. И этот ужас продолжался[370]370
Gilbert, The Second World War, 94, 111, 116, 123, 134, 153.
[Закрыть]. По-видимому, единственным местом, где художник мог быть уверен в безопасности и возможности спокойно жить и творить, являлся Нью-Йорк, отделенный от Европы Атлантическим океаном.
В 1933 г. Альфред Барр и его жена Марга Сколари-Барр жили в Германии. Барр находился тогда в длительном отпуске по психическому здоровью. Он восстанавливался после стресса, пережитого в ходе управления Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Супруги застали момент, когда Гитлер дорос до канцлерства. Они также стали свидетелями широкомасштабных репрессий, начавшихся вскоре после этого. Марга рассказывала: «Мы видели первые желтые звезды на одежде евреев. На наших глазах закрывались первые универмаги». Это было началом нацистской кампании против принадлежавшего евреям бизнеса. Женщина добавляла: «Увидев все это, мы быстро стали убежденными антифашистами». А еще Барры стали очевидцами того, как последователи Гитлера закрыли революционную художественную академию Баухаус и как все жестче притесняли художников-авангардистов. В ярости от опасного культурного национализма, который пропагандировали фашисты, Барр написал девять статей под общим названием «Гитлер и девять муз». В них Альфред говорил о непосредственной угрозе, с которой столкнулись художники и интеллектуалы в Германии после прихода Гитлера к власти. Но никто в США не опубликовал эти статьи, как вспоминала Марга. Даже спустя много десятилетий она не могла не поражаться добровольной слепоте американцев. И тогда Барр сделал все, что было в силах обычного человека, решившего во что бы то ни стало помешать нацистскому режиму уничтожить современное искусство. Он свернул в трубку как можно больше живописных полотен и тайком вывез из Германии в зонте[371]371
Oral history interview with history interview with Margaret Scolari Barr, AAA-SI; Marquis, Alfred H. Barr, Jr., 104, 106, 108, 153.
[Закрыть].
Словом, никто во всем Нью-Йорке не был лучше Альфреда Барра подготовлен к тому, чтобы помогать художникам, которым грозила опасность в Европе. И никто лучше него не знал, насколько сложная ситуация там сложилась. Когда художники, намеревавшиеся сбежать из Франции, поднимали шум и требовали помощи, реакция Барра была молниеносной. Так же быстро он откликался и на просьбы разных европейских музеев, которые просили, чтобы его Музей современного искусства, пока континент погружался в хаос, принял на хранение бесценные произведения Тициана, Микеланджело, Донателло и множество работ в стиле авангардизма. Среди первых полотен, отправленных тогда в США, была и «Герника»[372]372
Marquis, Alfred H. Barr, Jr., 177, 182, 185–87; Lynes, Good Old Modern, 226, 231.
[Закрыть]. А вот как справлялся с трудностями во Франции сам Пикассо, оставалось только гадать. «Мы ровно ничего ни о ком не знали… – рассказывала Марга. – Мы были не в курсе, где они, что с ними… Мы постоянно думали: а может, Пикассо тоже хочет переехать в Нью-Йорк?»[373]373
Oral history interview with history interview with Margaret Scolari Barr, AAA-SI.
[Закрыть]
Чтобы координировать усилия по спасению собратьев-художников, спасающихся бегством из Европы, Барр и Марга открыли офис в своем доме на Бикман-стрит[374]374
Lynes, Good Old Modern, 226, 231; oral history interview with history interview with Dorothy C. Miller, AAA-SI; oral history interview with history interview with Margaret Scolari Barr, AAA-SI; Jackman and Borden, The Muses Flee Hitler, 81.
[Закрыть]. В этом деле их активно поддерживал однокашник Барра по Гарварду Вариан Фрай. Вооруженный списком фамилий, который составили Барр с Томасом Манном, Фрай взял на себя управление специально созданным Чрезвычайным комитетом по спасению из Марселя. Он не гнушался никакими доступными методами (в том числе подделкой документов, воровством и взяточничеством). Лишь бы они позволяли вывезти из Франции художников и интеллектуалов, которым больше всего угрожало преследование нацистов. Тайная деятельность давалась Фраю довольно трудно. По его словам, все, что ему было известно о мошенничествах и уловках в столь больших масштабах, он почерпнул из кинофильмов. Но Фрай выполнял свою задачу с блеском. Кому-нибудь это даже показалось бы чудом, особенно учитывая постоянную слежку и огромную опасность, которая ему угрожала в случае провала. Фрай прятал беглецов в домах и на виллах на холмах, окружающих портовый город Средиземноморья, от гестапо и вишистов. Одновременно Марга, Барр и другие обхаживали чиновников из Госдепартамента США, выбивая для беглецов въездные визы. За каждого иностранца, попадавшего таким образом в США, поручители должны были внести залог в размере 3000 долларов – примерно три средние годовые зарплаты в США по состоянию на 1940 г. Это тоже легло на плечи Барров и их друзей[375]375
Oral history interview with history interview with Rebecca Reis, AAA-SI; Anton Gill, Art Lover, 241–243; Jackman and Borden, The Muses Flee Hitler, 81, 83; Marquis, Alfred H. Barr, Jr., 185–87; Lynes, Good Old Modern, 231; “The 1940 Census: Employment and Income”, National Archives, www.archives.gov.
[Закрыть].
В конечном итоге через сеть Фрая в безопасное место было переправлено более тысячи художников и других представителей интеллигенции[376]376
Jackman and Borden, The Muses Flee Hitler, 50, 54, 80; Lynes, Good Old Modern, 231–232. Данные об иммиграции в США показывают, что из общего числа иммигрантов, въехавших в страну из Европы в период с 1933 по 1941 г. (132 тыс. человек), 702 были художниками и скульпторами.
[Закрыть]. «Для творческого разума эти беженцы воплощали в себе все ценное в современной цивилизации. И это достояние оказалось под угрозой физического уничтожения, – сказал Роберт Мазервелл. – Никогда еще всем не было столь очевидно, что современный художник ратует за цивилизацию». Художник Эл Лесли как-то раз назвал коллег-беженцев «тощими маэстро»[377]377
Frank O’Hara, Robert Motherwell, 9; Alfred Leslie, interview by Jack Taylor.
[Закрыть]. Самым худым среди них был 68-летний Пит Мондриан. Минуя марсельский маршрут Фрая, бедняга в поисках безопасной жизни бежал из Парижа в Лондон – только для того, чтобы угодить под бомбежку в самый разгар немецких налетов. Ему пришлось спасаться бегством и оттуда, на этот раз на пароходе, шедшем в США. Целый месяц изнурительного путешествия Мондриан носил единственный костюм и спасательный жилет. Он прибыл в Нью-Йорк разбитым и травмированным[378]378
Harry Holtzman, interview by Jack Taylor; oral history interview with history interview with George L. K. Morris, AAA-SI.
[Закрыть]. И сразу же влюбился в этот самый вертикальный из всех городов мира. «Мондриан смотрел на Нью-Йорк такими же глазами, какими Гоген в свое время глядел на Таити», – рассказывал его друг Карл Холти. Питу ужасно нравился даже непрекращавшийся шум мегаполиса[379]379
Rembert, “Mondrian”, 44; Harry Holtzman, interview by Jack Taylor.
[Закрыть].
С тех пор как бывший любовник Ли Игорь оставил ее, уехав посреди ночи во Флориду, до нее доходили о нем только редкие, случайные новости. Поговаривали, что он работает в аристократических кругах Юга художником-портретистом, больше рассчитывая в жизни на свое обаяние, нежели на талант художника. В 1940 г. он написал Ли бодрое письмо, на котором она нацарапала «идиот». Краснер чувствовала себя без него прекрасно. Она жила одна в однокомнатной квартирке на Девятой улице. Обретя независимость от Игоря и освободившись от поглощавших слишком много времени и сил обязанностей в Союзе художников, Ли процветала[380]380
May Tabak Rosenberg, interview by Jeffrey Potter, courtesy PKHSC; Levin, Lee Krasner, 138, 141–142; Rose, Lee Krasner, 45.
[Закрыть]. Теперь у нее было время сосредоточиться на себе и своем искусстве. Результатом стал настоящий прорыв в живописи. Ушли в прошлое нерешительные мазки приглушенных цветов, которым она благоволила под влиянием Гофмана три года назад. Формы на ее полотнах, часто с черными контурами, стали предельно четкими и определенными, так же как и цветовое решение, которое теперь тяготело к основным цветам спектра: синему, красному и желтому. А еще ее картины стали совершенно абстрактными. На них больше не было никаких узнаваемых образов: ни ваз, ни яблок, ни торсов. Это тоже отчасти объяснялось влиянием Гофмана, который весь предыдущий год читал лекции о Мондриане. По его словам, этот голландец с его линиями и прямоугольниками, незакрашенными, белыми пространствами и продуманным использованием цвета достиг абсолютной чистоты в живописи. Ли опробовала этот метод[381]381
Levin, Lee Krasner, 127; Landau, Lee Krasner: A Catalogue Raisonné, 59.
[Закрыть]. Она написала ряд полотен, и ее вдохновленные кубизмом формы постепенно становились все более простыми, четкими и геометрическими. Наконец, они стали практически мондриановскими по стилю. Ли и не подозревала, что по иронии судьбы вскоре после упражнений в его стиле она подружится с самим художником.
В январе 1941 г. «Американские художники-абстракционисты» пригласили Мондриана и французского художника Фернана Леже присоединиться к их группе. Мондриан к этому моменту приехал в Нью-Йорк совсем недавно, а Леже жил тут с 1935 г.[382]382
Rembert, “Mondrian”, 45; Landau et al., Mercedes Matter, 33, 68n63.
[Закрыть] Американские коллеги уже полюбили француза за его творчество, жажду жизни и полное отсутствие претенциозности. Билл де Кунинг, ожидавший встретить «бога», так описывал свое впечатление от первого знакомства с Леже: «Он выглядел как портовый рабочий… Воротничок поношенный, но чистый. Он не был похож на великого художника; в нем вообще не было ничего от человека искусства»[383]383
Sandler, A Sweeper Up After Artists, 51.
[Закрыть]. Биллу и Мерседес поручили ассистировать Леже при создании фрески. Мерседес также выступала в качестве переводчика. Они с французом стали хорошими друзьями, и именно он познакомил ее со швейцарским фотографом Гербертом Маттером. В 1939 г. Мерседес с Маттером начали жить вместе, а в 1941 г. поженились. Кроме родственников на их свадьбе присутствовали Ли, жена Гофмана Миз, которая также благополучно сбежала из нацистской Германии, и двое бывших любовников Мерседес[384]384
Landau et al., Mercedes Matter, 13, 34; Goodman, Hans Hofmann, 31.
[Закрыть].
В отличие от беспечного и безрассудного Леже, Мондриан был точно таким, как его искусство: строгим и жестким. Критик Клемент Гринберг описывал работы Мондриана как «страсть, укрощенную и остуженную»[385]385
John O’Brian, ed., Clement Greenberg: The Collected Essays and Criticism, vol. 1, Perceptions and Judgments, 1939–1944, 188.
[Закрыть]. Эта характеристика отлично подошла бы и к самому художнику. Он снял мастерскую в доме в викторианском стиле с полукруглыми арками. Но, желая жить среди прямоугольников, Мондриан «выпрямил» дверные проемы с помощью кусков картона[386]386
Mercedes Matter, interview by Sigmund Koch, Tape 4A, Aesthetics Research Archive; oral history interview with history interview with Nell Blaine, AAA-SI.
[Закрыть]. Невысокий, худой и сдержанный холостяк в очках в проволочной оправе, он туго затягивал галстук, а его пиджак всегда был застегнут на все пуговицы. Его вымученная улыбка казалась скорее знаком вежливости, нежели выражением радости. Мондриан воплощал в себе сдержанность – и физическую, и духовную. Тем не менее у него были две тайные страсти: кофе (чтобы эта его слабость не обнаружилась, он вечно прятал кофейник) и, как ни трудно в это поверить, танцы. У художника были патефон и кипа пластинок джазового лейбла Blue Note Records, под которые он любил танцевать босиком в своей мастерской[387]387
Rembert, “Mondrian”, 78; Gill, Art Lover, 282; O’Brian, Clement Greenberg: The Collected Essays and Criticism, 1:189.
[Закрыть]. Хотя в Париже Пит брал уроки и научился танцевать фокстрот и танго, он предпочитал импровизацию. Одна из партнерш назвала его стиль ужасающим[388]388
Hall and Wykes, Anecdotes of Modern Art, 72; Rembert, “Mondrian”, 78n75–76.
[Закрыть].
Леже и Мондриан приняли приглашение «Американских художников-абстракционистов» присоединиться к ним. (Кстати, впоследствии Мондриан, бывший, как правило, совсем без денег, обычно делал членские взносы в срок; Леже, у которого деньжата водились, никогда ничего не платил.) Художники Джордж Л. К. Моррис и Сьюзи Фрелингхойзен устроили в их честь раннюю вечеринку. Леже явился в сопровождении толпы женщин, поздоровался со всеми на французском языке и довольно быстро удалился. Мондриан прибыл один и оставался до 10 вечера. Он «был душой компании», по словам Морриса[389]389
Ilya Bolotowsky and Henry Geldzahler, “Adventures with Bolotowsky”, 25; Rembert, “Mondrian”, 45–46; Levin, Lee Krasner, 151; oral history interview with history interview with George L. K. Morris, AAA-SI.
[Закрыть]. Общаясь тогда с Мондрианом, Ли обнаружила, что им обоим нравится джаз. Они договорились о встрече в Café Society Downtown Барни Джозефсона[390]390
Lee Krasner, interview by Barbaralee Diamonstein, provided by Dr Barbaralee Diamonstein-Spielvogel, interviewer and author, from Inside New York’s Art World, 199–200.
[Закрыть].
Café Society Downtown было гринвич-виллиджской версией гарлемского джаз-клуба. Заведение славилось политикой расовой интеграции во времена сегрегации и левой ориентацией, несмотря на то что американские власти рьяно охотились за «красными». В фойе с потолка наряду со сделанными из папье-маше сатирическими изображениями манхэттенских знаменитостей свисало чучело Гитлера. Это был клуб анархо-социалистов[391]391
David W. Stowe, “The Politics of Cafe Society”, 1384, 1387.
[Закрыть]. Художники захаживали в кафе потанцевать. Именно с этой целью сюда пришли и Ли с Мондрианом. «Я довольно хорошо танцую, – рассказывала Ли, – то есть меня довольно легко вести в танце, но ритм Мондриана ни в коем случае нельзя было назвать простым». Мондриан независимо от музыки танцевал, будто она звучала стаккато[392]392
Стаккато (итал. staccato, от staccare – «отрывать», «отделять») (музыкальное) – короткое, отрывистое исполнение звуков, четко отделяющее их друг от друга.
[Закрыть], откинув голову назад[393]393
Lee Krasner, interview by Barbaralee Diamonstein, provided by Dr.Barbaralee Diamonstein-Spielvogel, interviewer and author, from Inside New York’s Art World, 200; Rose, Lee Krasner, 40; Rembert, “Mondrian”, 78n75–76.
[Закрыть]. «Мне показалось, что все его движения были исключительно вертикальными, вверх-вниз, вверх-вниз», – вспоминала Ли. Но она признавала: возможно, на нее «просто слишком сильно повлияла его живопись, еще до встречи с ним»[394]394
Lee Krasner, interview by Barbara Novak, videotape courtesy of courtesy PKHSC.
[Закрыть].
Впрочем, они были весьма примечательной парой и без специфического танцевального стиля Мондриана. Ли была на тридцать с лишним лет моложе своего партнера и – на каблуках – сантиметров на десять выше. А еще она была соблазнительной, дерзкой и очень стильной в чулках в сеточку и узкой юбке. Мондриан, странно двигавшийся под музыку, звучавшую в его голове, выглядел совсем неподходящим партнером для нее. Но Ли этот странный опыт показался чрезвычайно волнующим. «Я любила джаз, и он любил джаз, поэтому мы несколько раз встретились и каждый раз танцевали как сумасшедшие»[395]395
Hobbs, Lee Krasner (1999), 29.
[Закрыть].
Вскоре после первого свидания Ли с Мондрианом «Американские художники-абстракционисты» провели пятую ежегодную выставку. Леже и Мондриан были среди 33 художников, представивших на ней свои картины и скульптуры[396]396
Rembert, “Mondrian”, 46.
[Закрыть]. На открытии Мондриан сопровождал Ли; они вместе внимательно рассматривали каждую работу. Голландец был немногословен, но постарался хоть чуть-чуть сказать о каждом полотне. «Он спрашивал: “Это кто?”, а затем давал короткий комментарий. И вот мы подошли к полотну Ли Краснер. Мондриан задал вопрос: “Это кто?” И я ответила: “Это я”. И почувствовала, как к горлу подступает тошнота, – вспоминала Ли тот момент. – А он сказал: “Очень сильный внутренний ритм. Сохрани его”»[397]397
Oral history interview with history interview with Lee Krasner, November 2, 1964–April 11, 1968, AAA-SI.
[Закрыть]. Несколько слов, произнесенных тогда Мондрианом, имели для Ли огромное значение. И не только из-за огромного веса в мире искусства человека, который их произнес. Для художника в те дни иметь «ритм» означало, что у его живописи есть единство и «дух» и она не является простой серией случайных мазков на холсте. Ганс Гофман тоже говорил, что «высшее качество живописи – это всегда ритм»[398]398
Dewey, Art as Experience, 56–57; Martica Sawin, Nell Blaine, 20.
[Закрыть]. Признание Мондрианом этого свойства у творчества Ли осталось с ней до конца жизни. Как она говорила, эта оценка навсегда сохранилась «в каком-то уголке души. Я стараюсь ей соответствовать, чего бы это от меня ни потребовало»[399]399
Oral history interview with history interview with Lee Krasner, November 2, 1964–April 11, 1968, AAA-SI.
[Закрыть].
Ли перестала писать полотна в мондриановском стиле примерно в то же время, когда познакомилась с этим художником. Тем не менее эти упражнения существенно улучшили и укрепили ее живопись. Это стало совершенно очевидным в последующей серии ее картин, где соединялось влияние Мондриана, Пикассо, Матисса, Миро и Горки. Эти работы притягивали внимание изобилием концепций, которые пропустила через себя художница, и освоенных ею методик. Все это позволило Краснер сделать в высшей степени индивидуальное творческое заявление. Наконец-то сама Ли со всей ее буйной силой раскрывалась на холсте в насыщенной палитре красок, нанесенных густыми, смелыми мазками, и в свободном использовании черного контура. С его помощью она могла разрезать плоскость пополам резко, по прямой. Или совершить пируэт, получив причудливую кривую, словно устремившуюся в бесконечность. Ли летала. Это было потрясающе, и не в последнюю очередь потому, что ей потребовались недюжинные усилия, чтобы достичь точки, в которой она наконец смогла громко заявить о себе как художник: «Вот она я, я существую!»
Новый стиль Ли привлек внимание официальных лиц Федерального художественного проекта, в обязанности которых входило решение о том, заслуживает ли тот или иной художник права на создание фрески. В 1941 г. глава соответствующего отдела проекта в Нью-Йорке предложил Ли подготовить эскизы для оформления радиостанции WNYC. Она стала одним из четырех художников (среди них был и патриарх американского абстракционизма Стюарт Дэвис), которых попросили написать по фреске для студий этой радиостанции[400]400
Landau, Lee Krasner: A Catalogue Raisonné, 76; Landau, “Lee Krasner’s Early Career, Part One”, 16.
[Закрыть]. Работу, которая в итоге принесла Ли всеобщий почет и уважение, ей поручили в значительной мере благодаря образованию. Краснер дала его себе сама, не просто занимаясь искусством, но и всесторонне изучая его. Ли понимала: великий художник должен иметь нечто большее, чем твердую руку и сильное запястье. Ему нужна особая способность видеть, а развитие этого навыка, как, впрочем, и любого другого, требует времени и постоянной практики. (Мондриан, например, считал свой взгляд настолько пронзительным, что старался не поднимать глаз, чтобы не смотреть прямо на других людей[401]401
Rembert, “Mondrian”, 78n75–76.
[Закрыть].) Ли тоже сумела развить в себе способность видеть как состоявшийся художник. Не зря Клем Гринберг сказал: «В сороковых годах в живописи у Краснер был лучший глаз во всей стране»[402]402
Landau, Jackson Pollock, 86; It Is 3 (Winter – Spring 1959): 10; Landau, “Krasner’s Past Continuous”, 71. Гофман однажды сказал: «Видеть без осознания… это почти слепота. “Видеть” и осознавать – это визуальный опыт, искусство. Нам нужно научиться видеть».
[Закрыть].
В начале ноября 1941 г. Ли случайно столкнулась неподалеку от своего дома № 51 по Восточной Девятой улице с греческим художником по имени Аристодимос Калдис. Он был на редкость колоритной личностью: пузатый, с длинными темными волосами, торчащими во все стороны. Так вот, спутником грека в тот день оказалась его полная физическая противоположность. Это был безупречно аккуратный, элегантно одетый мужчина вообще без волос. Он посмотрел на Ли и сказал: «Вы художник». Потом Краснер вспоминала, как подумала тогда: «Боже, да он обладает магической проницательностью». И продолжала: «Я спросила: “А откуда вы знаете?” А он вместо ответа указал на мои ноги в пятнах краски». Калдис представил своего спутника Ли. Наблюдательным человеком оказался Джон Грэм[403]403
Landau, Lee Krasner: A Catalogue Raisonné, 306; Lee Krasner, interview by Ellen G. Landau, AAA-SI; Naifeh and Smith, Jackson Pollock, 391; Levin, Lee Krasner, 164; Rose, Lee Krasner, 45.
[Закрыть]. Ли, конечно же, читала его книгу «Система и диалектика в искусстве». Та оказала на девушку огромное влияние, особенно теория подсознательного как источника художественных образов[404]404
Lee Krasner, interview by Barbara Novak, videotape courtesy of courtesy PKHSC; Lee Krasner, interview by Barbaralee Diamonstein, provided by Dr. Barbaralee Diamonstein-Spielvogel, interviewer and author, from Inside New York’s Art World, 201.
[Закрыть]. С учетом того, насколько сильно пересекались круги общения Ли и Грэма, было довольно странно, что они до сих пор не знали друг друга. Краснер решила тут же исправить эту ситуацию, пригласив обоих мужчин в мастерскую посмотреть ее работы. Они зашли, увидели и обсудили картины и ушли. На этом, казалось, все и кончится. Но через несколько дней Ли получила по почте записку.
Дорогая Ленор,
Я устраиваю в Аптауне галерею. Это будет выставка французской и американской живописи с отличной рекламой и так далее. У меня есть Брак, Пикассо, Дерен… Стюарт Дэвис и другие. Мне бы хотелось выставить и Вашу последнюю большую картину. В пятницу днем я к Вам заеду с управляющим галереи. Позвоните, если сможете.
«О, это был такой важный момент! – говорила Ли. – Тот факт, что он меня пригласил, потряс меня до глубины души»[406]406
Lee Krasner, interview by Barbara Novak, videotape courtesy of courtesy PKHSC.
[Закрыть]. Наполнение экспозиции «превосходило всякие ожидания. Грэм устраивал выставку великих, и только некоторые из них были американцами… и он хотел включить меня»[407]407
Naifeh and Smith, Jackson Pollock, 391.
[Закрыть]. Чуть позднее Ли узнала, что кроме Пикассо и Брака выставка включала еще и работы Матисса. «Мне все это чертовски нравилось… мне предстояло выставляться с такими мастерами, как Матисс… с моими богами»[408]408
Lee Krasner, interview by Robert Coe, videotape courtesy of courtesy PKHSC.
[Закрыть]. А когда миновал первоначальный радостный шок, Ли заинтересовало, кого еще из ее современников выбрал Грэм. Она рассказывала: «Я же не могла написать мистеру Грэму и прямо спросить об этом, ведь я только что с ним познакомилась… это разрушило бы чары». Вместо этого Ли начала расспрашивать всех знакомых художников, знают ли они о выставке или кого-то из ее участников. «Нет, нет и нет», – отвечали они[409]409
Oral history interview with history interview with Lee Krasner, November 2, 1964–April 11, 1968, AAA-SI.
[Закрыть]. Никто о мероприятии не слышал. Ли продолжала: «А потом я оказалась на открытии выставки в галерее Даунтаун и… столкнулась там с человеком по имени Лу Банс, которого знала по проекту. Мы с ним болтали, и в ходе беседы он вдруг между делом спросил: “Кстати, а ты знаешь такого художника, Поллока?” Я ответила: “Нет, никогда о нем не слышала. А что он делает, где он?” А Лу мне: “О, это отличный художник. Он будет участвовать в выставке «Французская и американская живопись», которую устраивает Джон Грэм”». Именно эта информация была нужна Ли. «А какой у него адрес?» – спросила она собеседника[410]410
Oral history interview with history interview with Lee Krasner, November 2, 1964–April 11, 1968, AAA-SI; Naifeh and Smith, Jackson Pollock, 392; Levin, Lee Krasner, 166; Lee Krasner, interview by Barbaralee Diamonstein, provided by Dr. Barbaralee Diamonstein-Spielvogel, interviewer and author, from Inside New York’s Art World, 201.
[Закрыть].
По словам Ли, в те времена все художники Нижнего Манхэттена могли бы поместиться на головке одной булавки. Довольно скоро она узнала имена других американцев, работы которых должны были выставляться наряду с ее картиной: де Кунинг, его бывшая подружка Нини Диас, Стюарт Дэвис, Уолт Кун, Левилл Парди, Пэт Коллинз, Давид Бурлюк и Джексон Поллок. Она знала их всех, кроме последнего. Ли раздражало, что она никогда ничего не слышала об этом художнике. К тому же, как оказалось, он жил совсем рядом, на Восьмой улице, недалеко от школы Гофмана[411]411
Lee Krasner, interview by Robert Coe, videotape courtesy of courtesy PKHSC; Lee Krasner, interview by Barbara Novak, videotape courtesy of courtesy PKHSC; Levin, Lee Krasner, 165; Landau, Lee Krasner: A Catalogue Raisonné, 75.
[Закрыть]. И Краснер решила его найти. Спустя годы Ли так описывала их первую встречу в неопубликованном эссе о Поллоке:
Они с братом Сэнди [sic] и женой брата занимали верхний этаж; братья жили каждый на своей половине. Когда я вошла, Сэнди стоял наверху лестницы. Я спросила, могу ли я видеть Джексона Поллока. Он ответил: «Вы можете попробовать к нему постучаться, но я не знаю, дома ли он». Позднее я узнала от Сэнди, что Джексон крайне редко кому-то отзывался. Но, когда я постучала, он открыл дверь. Я представилась и сказала, что мы будем участвовать в одной выставке. И сразу вошла.
Что случилось потом? Я была ошеломлена, буквально ошарашена увиденным. Я смотрела на все эти изумительные картины и чувствовала, как пол уходит из-под ног… Я просто не сдержалась, я не могла не сделать пару-другую комментариев об увиденном. Помню, как после очередного восторженного замечания он сказал: «О, я не уверен, что это законченная работа». Я взмолилась: «Нет, не трогайте ее больше!» Конечно, я не знаю, послушался ли он меня.
Это был некрупный мужчина, но впечатление производил обратное. Ростом чуть выше метра шестидесяти… Фантастические, невероятно сильные руки. Такие руки нужно было фотографировать. Все говорили: он очень силен физически[412]412
Lee Krasner, Pollock, unpublished, undated notes, Series 1.3, Box 2, Folder 41, Jackson Pollock and Lee Krasner Papers, AAA-SI, 2.
[Закрыть].
Впоследствии за многие годы Ли не раз описывала, как на нее повлияло первое знакомство с работами Матисса. По словам художницы, его живопись была настолько новой и необычной, что ей потребовалось немало времени, чтобы оправиться от эффекта первоначальной встречи с ней. То же самое произошло с «Герникой» Пикассо. После увиденного Ли пришлось выйти из галереи, чтобы в буквальном смысле восстановить дыхание. Картины Поллока, расставленные по всей мастерской, потрясли ее не меньше. Краснер вспоминала: «В них была сила, огромная жизненная сила, такая же, какую я чувствовала в работах Матисса, Пикассо, Мондриана. Увиденное потрясло меня»[413]413
Cindy Nemser, “A Conversation with Lee Krasner”, 43; Lee Krasner, interview by Barbara Rose, 1972, AAA-SI, 6.
[Закрыть]. Ли говорила, что, взглянув тогда экспертным взглядом на пять-шесть картин Джексона, она поняла, что «столкнулась с творчеством человека, который был впереди меня». И продолжала: «Я была в восторге. Боже мой, вот оно. Я бы не смогла ощутить всего этого, если бы сама не пыталась достичь того же. В противном случае я этого просто не распознала бы»[414]414
Munro, Originals, 112.
[Закрыть].
Ли обнаружила: стиль Поллока представлял собой удивительную комбинацию техник экспрессионизма и кубизма. Он использовал их, создавая сюрреалистические, мифологические и примитивные образы, через которые проявлялось бессознательное[415]415
“Lee Krasner, Paintings, Drawings and Collages”, 8–9.
[Закрыть]. Он явно тоже читал книгу Грэма. Одна из картин Поллока, «Волшебное зеркало», особенно поразила Ли. «Мы поговорили об этой работе и о других, и разговор получился на редкость приятным и интересным. Он казался очень счастливым из-за того, что мне так понравились его картины. Позднее я узнала, что люди никогда не попадали в мастерскую Поллока так запросто… что он был невероятно закрытым в отношении своего творчества, своей личности, своей жизни, что буквально истязал себя одиночеством»[416]416
Gruen, The Party’s Over Now, 230.
[Закрыть]. Ли поняла: Поллок в некотором смысле творил в вакууме. Да, он был учеником регионалиста Томаса Харта Бентона и сотрудничал с мексиканским муралистом[417]417
Мексиканская монументальная живопись, или мексиканский мурализм, – художественное движение монументальной живописи в Мексике 1920–1960-х гг.
[Закрыть] Давидом Сикейросом. Однако он не знал никого из художников-авангардистов, которые наверняка лучше понимали бы его творчество и в среде которых он с гораздо большей вероятностью достиг бы успеха. Ли твердо решила представить этого замечательного человека своей компании из Даунтауна[418]418
Lee Krasner: An Interview with Kate Horsfield, courtesy PKHSC.
[Закрыть].
Одиннадцатью годами раньше Поллок пошел по стопам своего старшего брата Чарльза и переехал из Калифорнии в Нью-Йорк, чтобы под руководством Бентона изучать искусство в Лиге студентов-художников Нью-Йорка. Поллок родился в городе Коди, штат Вайоминг. Большую часть детства их семья колесила по юго-западным штатам США в стремлении обрести социально-экономическую стабильность. Что касается учебы, то к тому времени, когда парню пришло время идти в старшие классы, всем уже было ясно: единственным предметом, который его действительно интересует, кроме искусства, является теософия. Согласно этой дисциплине, внутренние мысли имеют первостепенное значение, и исторически сложилось так, что «мудрые люди всегда строили свою жизнь за пределами общепринятого». В 1929 г. Поллока исключили из школы за распространение протестной литературы. Со временем его восстановили, но отчисление привело к тому, что в сознании юноши закрепилось предубеждение против формального образования[419]419
Naifeh and Smith, Jackson Pollock, 43, 124, 129, 130, 136; Philip Guston, interview by Jack Taylor. Молодой Филипп Густон был выслан вместе с Поллоком.
[Закрыть]. Он решил отправиться на Восток и стать скульптором, подобно первому «модернисту» – Микеланджело. В долгой поездке через всю страну молодого человека сопровождал брат. Они решили: если Поллок действительно намерен стать художником, то его имя, Пол Поллок, не годится. Ему лучше использовать второе имя. В результате человек, которому суждено было в следующие 20 лет произвести настоящую революцию в живописи, прибыл в Нью-Йорк как Джексон Поллок[420]420
Solomon, Jackson Pollock, 46–47; Arnold Hauser, The Social History of Art, vol. 2, Renaissance, Mannerism, Baroque, 48, 60; Naifeh and Smith, Jackson Pollock, 155.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?