Текст книги "Ирония идеала. Парадоксы русской литературы"
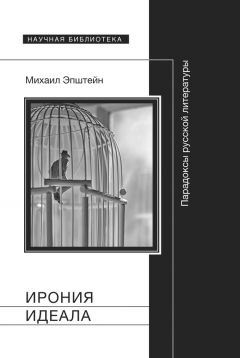
Автор книги: Михаил Эпштейн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
4. Демоническая ирония
До сих пор мы не учитывали еще одну существенную разницу: Филемон и Бавкида гибнут по вине строителей – Фауста и Мефистофеля; Параша, а вслед за ней и Евгений – по вине разбушевавшейся стихии. Петр, кажется, не несет ответственности за наводнение, напротив, он всеми силами старался укрепить город. Но ведь и Фауст не приказывает убивать Филемона и Бавкиду, он только просит Мефистофеля переговорить с ними, посулить выгодное переселение, в результате же дом загорается, как бы заранее освобождая место для градостроительства. Виноват, конечно, Мефистофель – посредник между Фаустом и миром, искажающий добрые начинания героя. Но ведь и все строительство плотин, весь грандиозный проект осушения болот и поселения «народа свободного на земле свободной» – тоже осуществляется Мефистофелем, который выступает как «смотритель» работ: Фауст уже слеп от старости. Толпы рабочих, которые целыми днями орудуют лопатами, олицетворяя грядущее трудовое человечество, – лишь подставные фигуры для наведения идиллического глянца на дьявольский замысел. На самом деле работают по ночам какие-то адские силы, озаряющие мрак, о чем говорит Бавкида: «Лишь для виду днем копрами Били тьмы мастеровых: Пламя странное ночами Воздвигало мол за них» (перевод Б. Пастернака).
Что-то противоестественное, нечистое есть и в том месте, где Петр построил свой город: здесь тоже смешались ночь и день, в «прозрачном сумраке» разлит «блеск безлунный». И в «Фаусте», и в «Медном всаднике» признаком нарушенного порядка вещей являются белые ночи, реки огненные, прорывающие во мраке канал, – сиянье, вторгшееся в святилище ночи. Ведь изначальной была граница между светом и тьмой, созданная в первый день творения; значит, силы, восстающие против Божьего мира, первым делом должны нарушить именно эту границу – начальную заповедь физического мироустройства, так же как они нарушают и главную заповедь нравственного мироустройства – «не убий». Ясно, что нарушенный раздел между морем и сушей, – раздел, установленный в третий день творения, – должен распространиться и на все прочие разделы: между светом и мраком, между жизнью и смертью. Все границы, которыми изначально оформлен и приведен в гармонию мир, разрушаются. В этом и состоит подлинный смысл мефистофелевской работы, которой Фауст придает высшее, благодетельное значение. Суть не в том, чтобы установить новую границу, отодвинув море, а в том, чтобы уничтожить старую и ввергнуть мир в хаос. Мефистофель занят сооружением искусственного берега, потому что хочет упразднить естественный, первоначальный, пусть топкий и мшистый. Мир, выведенный из равновесия, закачается и рухнет. Море, оттесненное от своих берегов, никогда не успокоится, оно поднимет войну против суши, и отныне все границы будут рушиться. Это торжество хаоса и составляет задачу Мефистофеля, которому «мило» одно лишь «вечное Ничто». Мефистофель говорит об этом за спиной полуоглохшего Фауста с не скрытой от читателя издевкой:
Лишь нам на пользу все пойдет!
Напрасны здесь и мол и дюна:
Ты сам готовишь для Нептуна,
Морского черта, славный пир!
Как ни трудись, плоды плохие!
Ведь с нами заодно стихии;
Уничтоженья ждет весь мир.
Замысел Мефистофеля очевиден: поселить человечество на отвоеванной земле, на берегу моря, чтобы стихия в конце концов могла унести миллионы душ. Черт Мефистофель работает не для благодетеля человечества Фауста, а для своего же брата – морского черта Нептуна.
Скучающий Фауст, подаривший морю корабль, оказывается всего лишь краснобаем и недоучкой в сравнении с трудящимся Фаустом, который – с легкой руки Мефистофеля – усердно готовит в дар морю целую страну. Уже не «три сотни негодяев» (как в пушкинской «Сцене из Фауста»), но миллионы «свободных людей», расселяя их поближе к «порабощенной» стихии. И первая жертва после Филемона и Бавкиды – сам Фауст: звон лопат и мотыг, в котором ему чудится грандиозная созидательная работа народа, означает в действительности, что лемуры – мелкие злые духи – роют ему могилу. «Как звон лопат ласкает ухо мне!» – восклицает Фауст, мысленно видя перед собой усердных исполнителей своей воли, а на деле обращаясь к собственным могильщикам. В этой реплике – вся ирония созидательного титанизма, который сдвигает берега, готовя торжество разрушительного хаоса. «А мне доносят, что не ров, А гроб скорей тебе готов», – вполголоса замечает Мефистофель. «Град Петров» и становится таким каменным саркофагом для жертв наводнения. Мефистофелевская угроза не сбывается в немецкой драме, где черт в конечном счете оказывается посрамлен (душа Фауста вырвана ангелами из его рук). Но угроза эта: «уничтоженья ждет весь мир» – приводится в исполнение в русской поэме.
Своеобразие Петра у Пушкина состоит в том, что в нем нет разделения на человеческую и дьявольскую ипостаси, как в образах Фауста и Мефистофеля у Гете. Петр – и то, и другое. Когда он стоит на берегу пустынных волн, полный великих дум, когда пышно расцветает на берегу Невы основанный им город – он Фауст, «строитель чудотворный». Но чудо, воздвигшее Петербург, имеет ту же неприятную, нечистую окраску, что и ночные «работящие» огни в «Фаусте». О Петре еще при его жизни сложилась легенда как об Антихристе. Oснование этому дали не только шутовские богослужения Петра, упразднение патриаршества, но и кощунства, связанные с построением Петербурга. Так, было приостановлено по всей России строительство каменных церквей, потому что весь камень и все каменщики в принудительном порядке отправлялись на строительство новой столицы. Так что известные слова Писания: «На сем камне воздвигну я церковь свою», обращенные к апостолу Петру, были царем Петром вывернуты наизнанку: из церквей – в буквальном смысле слова – изымался камень. В самом начале пушкинской «Истории Петра» есть знаменательная фраза: «Народ почитал Петра антихристом»11← 11
Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 т. М., 1977. Т. 8. С. 12.
[Закрыть], и это же апокалиптическое восприятие выразилось в поэме.
5. Пушкин между Гете и Мицкевичем
Но дело не только в легенде, а и в том конкретном поэтическом произведении, на которое Пушкин ориентировался при написании «Медного всадника», – речь идет о знаменитом «Отрывке» из третьей части «Дзядов» Мицкевича (1832), целиком посвященном России. Город Петра здесь толкуется как создание самых злых, сатанинских сил истории, обреченное – рано или поздно – на Божий гнев и разрушение:
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.
Для Мицкевича Петербург – это город, взошедший на крови и потому не способный произрастить на своей почве ничего истинно великого («Втоптал тела ста тысяч мужиков, И стала кровь столицы той основой»). «Медный всадник» обычно толкуется как пушкинский полемический ответ на уничижительную картину русской столицы, данную мятежным поляком12← 12
См., например, статью Д. Благого «Мицкевич и Пушкин» в его книге «От Кантемира до наших дней» (М., 1972. Т. 1).
[Закрыть]. И действительно, вступление в поэму исполнено восхищения перед державной мощью города:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный…
Пушкин восхищается именно тем, что отталкивает Мицкевича. Там, где для польского поэта – угнетающая ровность и прямизна («Все ровно: крыши, стены, парапет, Как батальон, что заново одет»), там для русского поэта – «строгий, стройный вид». Мицкевичу и бронзовый памятник Петру, и весь этот каменный город-крепость представляются замерзшим водопадом, который растает под жаркими лучами свободы. Пушкину же чуждо стремление польского романтика разрушить твердыню, растопить архитектурный лед ради безбрежного излияния вольного духа. Для Пушкина Петербург – великое деяние Фауста, тогда как для Мицкевича – злая воля Мефистофеля.
Но вслед за одическим Вступлением, в первой и особенно во второй части поэмы, Пушкин не только не отбрасывает, но и развивает «сатанинский» мотив, предложенный Мицкевичем, – в образе ожившей статуи. Пушкин, конечно, не провозглашает Петра Антихристом, отчасти из-за цензурных ограничений, отчасти потому, что ему вообще чужд пафос открытой риторики, свойственный иногда Мицкевичу. Но суть в том, что Петр соединяет в себе фаустовское и мефистофелевское, и последнее проступает особенно зловеще именно в облике «чудотворного строителя», нового дерзновенного Фауста, воспетого во Вступлении.
Сатанизм Петра обозначен прежде всего словами «горделивый истукан», «кумир на бронзовом коне» (здесь и далее курсив мой. – М.Э.), имеющими библейский подтекст: «не сотвори себе кумира», «не делай себе богов литых». В Апокалипсисе, как бы предвещая всю будущую историю человечества, перечислен ряд таких «богов», постепенно понижающихся в ценности материала: «не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить» (Откр., 9:20). Показательно, что «медные» стоит ровно посередине этого ряда; в поэме Петр тоже назван «державцем полумира», то есть Антихрист находится на полпути своего овладения миром. О том, насколько очевидна была сатанинская подоплека понятий «кумир», «истукан», свидетельствует то, что сам царь, прочитав поэму глазами цензора, вычеркнул из нее эти крамольные слова, которым поэт был вынужден искать неравноценную замену: «гигант», «скала». В статье Романа Якобсона «Статуя в символике Пушкина» демонический смысл скульптурных образов («Каменный гость», «Медный всадник», «Сказка о золотом петушке») объясняется не только общерелигиозным, но и специфически православным миропониманием. «Именно православная традиция, которая сурово осуждала искусство скульптуры, не допускала его в храмы и понимала как языческий или сатанинский порок (эти два понятия для церкви были равнозначны), внушила Пушкину прочную ассоциацию статуй с идолопоклонством, сатанинскими силами, с колдовством. <…> На русской почве скульптура тесно ассоциировалась со всем нехристианским, даже антихристианским, в духе петербургского царства»13← 13
Jаkobson Roman. Questions dе рoétique. Рaris, 1973. P. 186—187.
[Закрыть].
На библейский мотив идолопоклонства у Пушкина накладывается романтический – оживления неживого. Петр в поэме – не просто истукан, который «не может ни видеть, ни слышать, ни ходить»; этот «медный идол» услышал угрозу Евгения, обратил на него взор и погнался за ним по потрясенной мостовой. Ожившее изваяние, механизм, труп, кукла, картина – достаточно традиционный в литературе мотив вторжения демонических сил в мир человека. Произведения Э.-Т.-А. Гофмана, Э. По, П. Мериме («Венера Илльская»), других современников Пушкина полны подобных архетипических образов; в русской литературе они часто встречаются у Гоголя («Майская ночь, или Утопленница», «Вий», «Портрет»). Дьявол не обладает собственной творческой силой, не может создавать живую ткань, – все это божественное дело оплодотворения, произрастания ему не под силу. Легче всего он проникает в этот мир, им осужденный и отринутый, извне, через мертвую материю – разрисованную поверхность холста, изваянную в бронзе статую и т.п. Загадочная сила, внезапно одушевляющая эти вещи, выдает свою дьявольскую природу враждебностью всему живому, ее цель – умертвить, оцепенить, забрать с собою в ад. Ожившая панночка выходит из гроба, призывает на помощь нечистую силу, преследует Хому – и тот падает бездыханным; оживший портрет ростовщика порабощает душу художника и приводит его к гибели.
Наконец, у самого Пушкина несколько раз появляется такой инфернальный мотив. В «Каменном госте» статуя командора стискивает руку Дон Гуана своею каменной десницей, чтобы низвергнуть в преисподнюю; пиковая дама подмигивает Германну с карты в тот миг, когда выпадает ему вместо туза, разбивая его жизнь и погружая в безумие. Точно так же и медный всадник покидает свой постамент, угрожая Евгению смертью. Прямое соответствие этому мотиву есть в Апокалипсисе: «И дано ему [Антихристу] было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». При этом дух, вложенный в мертвый образ, конечно, не означает воскрешения. Антихрист не воскресает сам и не воскрешает умерших, он одушевляет мертвое лишь для того, чтобы обездушивать живое. У истукана – «дума на челе», в человеке – «ум не устоял».
Показательно, что во всех этих случаях соприкосновения с демонической силой герои: Евгений в «Медном всаднике», Германн в «Пиковой даме», Чартков в «Портрете», Натанаэль в «Песочном человеке» Гофмана – сначала сходят с ума, а затем уже гибнут. Разрушение духа предшествует разрушению плоти. Выход Невы из берегов, сошествие памятника с постамента и сумасшествие Евгения – во всех трех событиях, стирающих границы бытия, ощущается первоначальная «роковая воля» того, кто сдвинул раздел между морем и сушей, произвел – в буквальном смысле – переворот, благодаря которому «под морем город основался».
Вообще между Медным всадником и бушующей рекой обнаруживается какая-то тайная общность – не только в том, что оба они преследуют Евгения и сводят его с ума, но и в непосредственной обращенности друг к другу. Разъяренная Нева не трогает всадника, как бы усмиряется подле него, – сам же всадник «над возмущенною Невою стоит с простертою рукою». Ведь бунт Hевы против Петербурга заведомо предопределен бунтом самого Петра против природы – и в этом смысле они союзники.
6. Апокалипсис
В «Медном всаднике» Пушкин развивает апокалипсические мотивы, обобщенно намеченные в петербургском цикле Мицкевича. В стихотворении «Олешкевич» в уста польского художника, живущего в российской столице, вложено – накануне наводнения – следующее пророчество:
«Вслед за второю третья кара грянет.
Господь низверг Ассура древний трон
Господь низверг развратный Вавилон,
Но третьей пусть мои не узрят очи»1414
По мысли Мицкевича, несколько затемненной в стихотворном переводе, Петербургу суждено претерпеть вторую кару – первая постигла столицы древнего мира. Третья кара, которой «не приведи, господи, увидеть», – это Страшный суд в конце всех времен. См. подстрочный перевод «Олешкевича» по изданию: Пушкин А.С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978. С. 141.
[Закрыть].
У Мицкевича это предсказано. У Пушкина – изображено. Народ в поэме «зрит божий гнев и казни ждет» – настали как бы последние времена, сама смерть вступила в город, вырвавшись из отведенного ей пространства: «Гроба с размытого кладбища плывут по улицам!» Мосты, гордо «повисшие над водами», теперь рушатся, «грозой снесенные». Как зверь из бездны, Нева «остервенясь, На город кинулась. Пред нею Все побежало, все вокруг Вдруг опустело».
Картина «второй кары» невольно вызывает в памяти картину «первой» – ведь именно падение Вавилона изображено в Апокалипсисе: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие и все плывущие на кораблях, и все корабельщики и все торгующие на море стали вдали… и посыпали пеплом головы свои, и вопияли, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море: ибо опустел в один час!»
Но не только картина «гнева и казни», но и образ всадника сближает поэму с Апокалипсисом: «Ужасен он в окрестной мгле!». Медный всадник, скачущий по пустынным улицам Петербурга, – не один ли из четырех всадников Апокалипсиса, словно бы перенесшийся сюда прямо с улиц Вавилона? «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли…» И петербургскому всаднику дана великая власть над землей – вдвое больше, чем вавилонскому15← 15
Напомним, что под Вавилоном в Апокалипсисе подразумевается Рим.
[Закрыть]: он «державец полумира» (накануне «третьей кары», перед последним судом Антихрист, согласно Апокалипсису, овладеет целым миром). В пушкинском описании сохранена даже бледность – цвет смерти, – составляющая характернейшую примету апокалипсического всадника:
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звoнко-скачущем коне…
Таким образом, если во Вступлении образ Петра-сатаны оспорен, то в двух частях поэмы – подхвачен и развит. Есть огромная разница между двумя Петрами. Один глядит с берега в даль – он даже не назван по имени, есть только местоимение «он». Творцу не пристало конкретное имя, он весь мир заключает в своей мысли. Его дух носится над пустынными водами, готовясь к актам творения («Ha берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн»). Но вот пустота заполнилась, город построен, и Петр предстает уже не как творческая мысль, а как бездушный истукан. Не случайно, конечно, это оглушительное звучание конского топота по мостовой: тут медь звучит о камень, твердь о твердь. Весь ужас неотвратимой поступи Петра – в этом чеканном звуке: «как будто грома грохотанье – тяжело-звонкое скаканье…» – и дальше повторено: «на звонко-скачущем коне».
Лишь трижды во всей поэме Пушкин называет Петра по имени, причем только во Вступлении, в лирической оде Петербургу: «Люблю тебя, Петра творенье…», «Красуйся, град Петров, и стой…», «Тревожить вечный сон Петра!». Имя Петра во всех контекстах неотделимо от имени города. Далее на протяжении двух частей поэмы имя Петра не упоминается ни разу. Здесь есть только существительные нарицательные – «кумир», «истукан», «медный всадник», причем последнее – в завершение всей петровской темы – возведено в имя собственное («за ним несется Всадник Медный»). Человека Петра вообще нет в поэме: если в начале – сверхличность творца, то в конце – неодушевленность идола.
Начало поэмы – великая мысль Петра, финал – безумие Евгения. У Пушкина показано, как фаустовская идея, подчиняясь косной, отчуждающей силе истории, приводит к мефистофельскому результату.
7. Превращение фаустовского в мефистофелевское
Существенное отличие пушкинской трактовки от гeтевской в том, что Фауст и Мефистофель не разделены, как два самостоятельных персонажа. Один исторический герой оказывается и Фаустом, и Мефистофелем. Поэтому Гeте в принципе оптимистичен: Фауста можно отделить от Мефистофеля, черт-разрушитель посрамлен, гений созидания увенчан. Но в Петре они соединены неразрывно. Пушкин любит творение Петра и не может сдержать восхищения перед стройным замыслом, но и ужасается его разрушительному итогу. Для Гете добро и зло разделимы, как бы сосуществуют в пространстве, а не взаимообращаются во времени. Поэтому у Мефистофеля можно отобрать Фауста, вернее, его дух, что и совершают ангелы в развязке («Дух благородный зла избег, Сподобился спасенья»). Но что станется с плотиной, что предпримут люди на завоеванной земле, как ответит им оттесненное море – остается недосказанным. Оптимистическая оценка фаустовского труда объясняется тем, что этот труд еще только начат, представлен только в ослепительных видениях Фауста, который, по словам Мефистофеля, «влюблялся лишь в свое воображенье». «Высший миг», пережитый Фаустом накануне смерти, вызван лишь предчувствием той «дивной минуты», когда осуществится его мечта. Да и небесное спасение даровано ему лишь за его «стремленья». Фауст уходит со страниц гетевской драмы таким, каким Петр появляется на страницах пушкинской поэмы, – полным великих дум и глядящим в даль времен.
Мицкевич, напротив, увидел Петербург только как закономерный результат тирании, нагромождение камней, враждебных людям, – не почувствовал в нем воплощенной гармонии и торжества человеческой мысли; и потому он всецело осудил и проклял его, как создание Сатаны. Оптимизм Гете и пессимизм Мицкевича – оба по-своему оправданны16← 16
Третья часть «Дзядов» Мицкевича написана в 1832 году и прямо соотносится с поражением польского восстания 1830 года.
[Закрыть].
Что же касается Пушкина, то у него «фаустовское» вступление к поэме соединяется с «мефистофелевским» завершением. Пушкин не разделяет ни оптимизма немецкого поэта, ни пессимизма польского. Судьба своей нации видится ему как историческое превращение фаустовского в мефистофелевское, как торжество величественного государственного строя, объединительного порядка, чем можно гордиться (этого, увы, не дано Мицкевичу), и крушение личностного начала, прав на частную жизнь, чему нельзя не ужасаться (от этого, к счастью, избавлен Гете). Фауст и Мефистофель друг без друга не делают истории. Поэма Пушкина воплощает оба настроения, выраженные порознь Гете и Мицкевичем. Напомним, что все три произведения были созданы почти одновременно, в 1831, 1832 и 1833 годах, что придает особенно конкретный исторический смысл их сопоставлению.
Двойственность пушкинской поэмы имеет строгое композиционное выражение. В поэме звучат два голоса: во Вступлении – автора («Люблю тебя, Петра творенье…»); в первой и особенно второй части – персонажа («Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..»). Но нигде нет их диалогического взаимодействия, так же как и прямого противопоставления. Ни хвала автора Петру, ни хула героя на Петра – это еще не вся правда, ибо автору, как созидателю, и естественно быть солидарным с царем-созидателем, а герою, как лицу вымышленному и подчиненному, надлежит роптать на создателя и господина. Поэтому закономерно, что голос Пушкина – творца поэмы – славит Петра, творца Петербурга, а голос Евгения, персонажа, «твари», – проклинает сверхчеловеческую мощь «чудотворного» строителя. Две правды столь же разделены и сомкнуты поэмой, как две стихии – берегом, который им равно необходим.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































