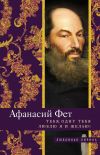Текст книги "Афанасий Фет"
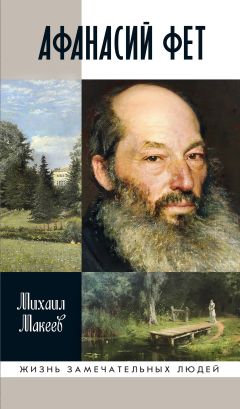
Автор книги: Михаил Макеев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Время, когда Фет вступал в лучший период жизни, было для разночинца благоприятным. В эту эпоху, которую один из ее героев Павел Васильевич Анненков справедливо назвал «замечательным десятилетием», начался необратимый процесс трансформации русской культурной и общественной жизни. Новое поколение постепенно занимало ключевые места в размножавшихся литературных журналах и на университетских кафедрах. Социальный состав этой группы был пестрым: от незаконнорожденного Герцена, настоящего разночинца Белинского до аристократов по происхождению Бакунина и Огарева. Пестрота была совсем не случайной: это поколение было сформировано николаевской системой общей для всех служебной лестницы с ее тенденцией нивелирования сословных различий и привилегий. При этом оно понимало внесословность не как равенство перед государем как единственным хозяином России, но в свете идей Просвещения, то есть как равенство людей независимо от рождения, равенство их прав на свободу и самореализацию. Это предоставляло разночинцам не только возможность занять равное с дворянами место, но даже некоторую фору как людям, часто более образованным.
Судьба давала Фету замечательный шанс занять в этом процессе вполне достойное место. Он был умен и готов интеллектуально развиваться, усваивать новые идеи, в том числе, как показывает его общение с Введенским, очень радикальные, переворачивающие традиционные представления о мире. Выходил Фет из пансиона в то время, когда герои эпохи только готовились к будущим «сражениям», в момент кристаллизации ведущих кружков и объединений, споры между которыми определили характер времени и в конечном счете судьбы русской культуры. Большинство основных событий, в которых этот процесс выразился, прошло на глазах Фета: превращение «Отечественных записок» в центральный либерально-западнический орган, статьи Белинского, сенсационные герценовские циклы «Письма об изучении природы» и «Дилетантизм в науке», горячая полемика западников со славянофильским «Москвитянином». И Москва, в которой Фет уже вполне обжился, была центром этого движения, в то время едва ли не более важным, чем Петербург. Очевидное благоволение к нему Погодина, одного из значимых актеров этой сцены, открывало дорогу в те дома, салоны, гостиные, где новыми людьми вырабатывались новые идеи. Однако Фет этими возможностями пользоваться не собирался. Те процессы, которые происходили в русской культуре, те идеалы, которые провозглашались передовыми современниками, были ему чужды.
В любом случае поступление в университет означало серьезные и разнообразные перемены в образе жизни Фета. Правда, последовали они не сразу. Во время первого семестра Фет по-прежнему проживал в пансионе Погодина. Однако в феврале туда неожиданно нагрянул Афанасий Неофитович Шеншин и застиг пасынка за курением трубки и чтением французского романа. Взявший на себя вину Введенский только усилил в Шеншине уверенность, что Афанасий находится в нездоровом окружении.
Размышления о том, где угроза для нравственности пасынка была бы меньшей, привели Афанасия Неофитовича к решению поселить его в доме родителей другого новоявленного студента – Аполлона Григорьева, с которым Фет познакомился в самом начале учебного года по совету репетитора погодинского пансиона, не раз ставившего ему в пример талантливого и усердного ученика, и, несмотря на это, подружился. Мысль поселиться у Григорьевых принадлежала самому Афанасию, и он смог внушить ее Шеншину. Афанасию Неофитовичу понравились и хозяин дома, в разговоре придавший себе «степенный и значительный тон», и его супруга, «скелетоподобная старушка». Не вызвал у него подозрений и Аполлон, по воспоминанию Фета, «одутловатый, сероглазый и светлорусый», представлявший собой в то время «образец скромности и сдержанности», к тому же подкупивший Шеншина недостижимой для его пасынка виртуозной игрой на рояле. Уже на следующий день Фет переехал в скромный домик в Замоскворечье «на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса в Наливках»[128]128
Там же. С. 146, 140.
[Закрыть]. Годовая плата за проживание на полном пансионе была определена в 300 рублей – существенно дешевле, чем у Погодина.
Дом, в котором Фет прожил больше пяти лет, с парадным крыльцом, выходившим во двор, «состоял из каменного подвального этажа, занимаемого кухней, служившею в то же время и помещением для людей, и опиравшегося на нем деревянного этажа, представлявшего, как большинство русских домов, венок комнат, расположенных вокруг печей. С одной стороны дома, обращенной окнами к подъезду, была передняя, зала, угольная гостиная с окнами на улицу, и далее по другую сторону дома столовая, затем коридор, идущий обратно по направлению к главному входу. По этому коридору была хозяйская спальня и девичья. Если к этому прибавить еще комнату налево из передней, выходящую окнами в небольшой сад, то перечислены будут все помещения, за исключением антресолей. Антресоли, куда вела узкая лестница с двумя заворотами, представляли два совершенно симметрических отделения, разделенные перегородкой. В каждом отделении было еще по поперечной перегородке, в качестве небольших спален»[129]129
Там же. С. 147.
[Закрыть]. В правом отделении, которое раньше занимал гувернер-француз, превосходно обучивший хозяйского сына своему языку, поселился Фет; в левом, за перегородкой, проживал Аполлон.
Жизнь здесь кардинально отличалась от жизни в крюммеровском пансионе с его экономностью и в погодинском с его скаредностью. Александр Иванович Григорьев, дворянин, отказавшийся от наследства в пользу матери и сестер, служил секретарем в московском магистрате и компенсировал небольшой размер жалованья, используя возможности, которые предоставляла эта хлебная должность: «Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из охотного ряда даром… корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил»[130]130
Там же. С. 148.
[Закрыть]. Хозяин, взявшийся за не слишком достойную для столбового дворянина подьяческую должность, был человек не жадный, а скорее щедрый, веселый и даже легкомысленный (о чем, в частности, свидетельствовала его женитьба на дочери кучера – матери Аполлона, совершившаяся уже после рождения ребенка). Обед, подаваемый в три часа пополудни, был очень сытным. Сами хозяева вставали рано, отец и сын вместе выходили из дома и шли пешком – один на службу, другой в университет. Возвращались домой после двух: Аполлон – в экипаже с кучером, Александр Иванович – опять же пешком. Пили чай и расходились в восемь вечера. Следовать этому расписанию Фета не принуждали: он мог оставаться в своих комнатках сколько угодно, спать сколько угодно – утреннюю кружку чаю ему присылали наверх. Никакого распорядка больше не было и в помине, и Афанасий мог спокойно предаваться занятиям или безделью – по своему усмотрению.
Студент
Императорский Московский университет, в чьи аудитории Фет вступил в новеньком студенческом мундире в обтяжку, был, несомненно, одним из важнейших центров, в котором происходили описанные нами процессы. Студенческие годы Фета – едва ли не самый блестящий период в истории университета. Как раз в это время приступила к преподаванию целая плеяда молодых профессоров, составивших славу русской науки. Особенно замечателен был юридический факультет, от которого Афанасий отказался: там читали лекции знаменитый правовед и историк философии Петр Григорьевич Редкин, яркий специалист по истории римского права Никита Иванович Крылов, историк русского права Федор Лукич Морошкин. Но и на словесном отделении дела обстояли не хуже. Для большинства студентов того времени университетские занятия не были академической рутиной, а по-настоящему вдохновляли, не только давали серьезные знания, но и внушали благородные идеи, любовь к бескорыстному поиску истины, идеалы гражданского служения.
Однако студент Фет совсем не искал света истины и не стремился овладеть какой-либо наукой: «Ни один из профессоров… не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по временам лекции, я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы не слыхать тоску наводящей болтовни»[131]131
Там же. С. 141.
[Закрыть]. Он спал или прогуливал лекции и по богословию Петра Матвеевича Терновского, и по логике его брата Ивана Матвеевича, и по «римской словесности и древностям» блестящего преподавателя Дмитрия Львовича Крюкова.
Никакого впечатления не произвел на Фета и знаменитый профессор всемирной истории Тимофей Николаевич Грановский, только что вернувшийся из-за границы и находившийся в самом расцвете преподавательского таланта. Лекции его по истории Средних веков производили на слушателей неизгладимое впечатление и помнились ими всю жизнь. Друг Грановского А. И. Герцен так описывал реакцию публики на выступление любимого всей Москвой профессора: «Все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавших сквозь слезы “браво! браво!”»[132]132
Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 9. М., 1956. С. 126.
[Закрыть]. Однако услышавший лекции Грановского на четвертом курсе Фет остался к ним равнодушен. Между тем они как раз и содержали то, на отсутствие чего у прежних своих преподавателей сетовал Фет: не только систематичность, но логическую связность, единство идеи, развиваемой в пластически наглядном повествовании, превращавшем историю из набора разрозненных фактов в гигантскую повесть просвещения и борьбы за освобождение человека. Представления Фета об истории остались хаотическим собранием событий и лиц, а «объемистые записки по реформации», которые пришлось читать перед экзаменом, вызывали отвращение и скуку. Впрочем, на экзамене у Грановского он получил четверку.
С профессорами Фет знакомился преимущественно на экзаменах и запоминал их в основном по тому, добродушно или сурово они спрашивали студентов. Конечно, не все предметы представляли для слушателя одинаково скучную «болтовню». Но и те курсы, которые смогли привлечь внимание Фета, не вызывали у него ничего выходящего за пределы «любопытства», отстраненного интереса; никакая дисциплина не воспринималась им как потенциальное собственное поприще, не вызывала желания самостоятельно заняться ею. Лекции по политической экономии читал другой замечательный молодой профессор Александр Иванович Чивилев. И сама наука, и взгляд на нее, предлагавшийся лектором, тоже склонным к исторически-обобщающим концепциям, заинтересовали ленивого студента: «Наука эта по математической ясности положений Смита, Мальтуса и других своих корифеев до сих пор служит мне для объяснения ежедневных передряг частного и государственного хозяйства. Заинтересованный совершенно новыми для меня точками зрения на распределение ценностей между людьми, я весьма удовлетворительно приготовился из этого предмета»[133]133
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 180–181.
[Закрыть]. Однако на экзамене дурную службу студенту сослужила плохая посещаемость – Чивилев, придравшись к первому же определению своей науки, поставил единицу, из-за чего пришлось остаться на второй год.
Были и другие учебные дисциплины, о которых Фет вспоминал в том же духе: «Вследствие положительной своей беспамятности я чувствовал природное отвращение к предметам, не имеющим логической связи. Но не прочь был послушать теорию красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или разъяснение Крюковым красот Горация»[134]134
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 171.
[Закрыть]. Возможно, в этих случаях употребленное Фетом «не прочь» не совсем точно отражает степень его интереса к предметам. Тот же Крюков, видимо, подвигнул Фета на перевод оды Горация, оживив его прежнюю страсть к переложению сладкозвучных иноязычных стихов. Соединение переводческой страсти и древнего языка, на котором молодой человек отлично читал, оказалось чрезвычайно счастливым и обещало многочисленные и разнообразные плоды. Шевыревские лекции – едва ли не первый курс истории русской литературы, заслуживавший названия научного, – стал до конца жизни Фета фундаментом его представлений об истории российской словесности.
Университетская наука в целом дала Фету немного – в лучшем случае любопытные или умеренно полезные сведения, – но не пристрастила к исследованиям, не определила его систему взглядов и склонности. До конца обучения он оставался посторонним – либо скучающим, либо любопытным, но духом всей этой премудрости так и не проникся, как не проникся и другим духом, царившим в это время на университетских кафедрах и в студенческих квартирах, – духом гегельянства, одним из пропагандистов которого был Грановский. Настоящее поклонение, которое в это время вызывала философия Гегеля, ярко описал Герцен, сам захваченный этим учением: «Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении “перехватывающего духа”, принимали за обиды мнения об “абсолютной личности и о ее по себе бытии”. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней»[135]135
Герцен А. И. Указ. соч. С. 18.
[Закрыть]. В такой атмосфере казалось неизбежным хотя бы поверхностное увлечение «модным учением», тем более что знакомыми Фета были главные русские гегельянцы: в комнате Аполлона Григорьева, тоже поклонявшегося Гегелю, «с великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин», там же часто бывал «постоянно записывавший лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев». Фет познакомился с вернувшимся из ссылки Герценом. «Слушать этого умного и остроумного человека составляло для меня величайшее наслаждение»[136]136
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 155, 154, 205.
[Закрыть], – вспоминал он. Но даже их личное обаяние и склад ума не смогли передать Фету гегельянский энтузиазм. Споры по философским вопросам, не раз ведшиеся на его глазах поклонявшимися Гегелю ровесниками, вызывали у Фета иронию.
Конечно, его могла оттолкнуть сама мода на Гегеля; тот же Герцен к этой стороне «отчаянного гегелизма» относился с неменьшей иронией. Однако Герцену это отрицание почти комической бесплодной схоластики, в которую часто выливались обсуждения философии гениального немецкого мыслителя его русскими последователями («…прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер – поэт субъективный, но его субъективность объективна…»), не помешало обратиться к самим гегелевским трудам и оказаться по-настоящему захваченным и покоренным их интеллектуальной мощью и освобождающей силой: «Я увидел необходимость ex ipso fonte bibere[137]137
…пить из самого источника (лат.), то есть обращаться к первоисточнику. (прим. редакции)
[Закрыть] и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не переживший “Феноменологии” Гегеля… не перешедший через этот горн и этот закал, не полон, не современен»[138]138
Герцен А. И. Указ. соч. С. 20–21, 23.
[Закрыть]. Мы полагаем, что и Фет познакомился с самим учением (не обязательно прочел, но имел достаточно точное представление о нем) и оно вызвало его неприятие. Что же стало его причиной? Возможно, влияние Введенского и нигилистическое направление, которые приняли мысли Фета. Для такого направления гегельянство (особенно в таком виде, который оно приняло в России) слишком идеалистично, слишком прекраснодушно и экзальтированно. Тот тип гегельянца, который позднее вывел Тургенев в своем «Рудине», был Фету психологически чужд, так же как пронизывающий гегелевскую философию исторический оптимизм.
Мышлению Фета было чуждо то, что можно назвать тотальностью гегелевской философии, в которой весь мир, от неорганических явлений до государства и религии, управляется и согласовывается с некоторым абсолютом и спекулятивное абстрактное мышление объявляется высшим судьей для всего сущего. Для самого Фета всю жизнь будет характерно резкое разделение спекулятивного мышления, существующего в области абстрактных идеалов, принципов и ценностей, и мышления практического, царящего в реальной жизни. Можно иметь высокие идеалы, но нельзя исходя из них решать конкретные задачи и нельзя навязывать свои принципы другим, какими бы симпатичными и абсолютно непреложными ни казались эти идеалы самому их носителю.
Этим разделением, в зародыше сложившимся еще в студенческие годы, объясняются многие высказывания Фета, его пресловутый консерватизм и даже «реакционность», так удивлявшие, раздражавшие, вызывавшие негодование у людей «прогрессивных». Дело в том, что и общественные отношения Фет считал принадлежащими исключительно к области практического разума, а следовательно, всякое вмешательство спекулятивного мышления и формулируемых им принципов в сферу политики, вопросов государственного и общественного устройства полагал в лучшем случае нежелательным, в худшем – вредным. И потому его совершенно не привлек, казалось бы, очень соблазнительный для человека с его личной историей потенциально освободительный смысл гегелевской теории (которую Герцен называл «алгеброй революции»), позволявшей ее русским последователям отрицать сословное государство как не соответствующее неким высшим принципам и утверждать необходимость и неизбежность его замены более справедливым общественным устройством. Мечтая о возвращении дворянского достоинства, не смирившись с положением разночинца, Фет не хотел жить верой в будущее общество равенства, в котором не будет сословий и его разночинство потеряет значение второсортности. Он хотел в этом мире обрести равенство другого рода – равенство с людьми одного с собой происхождения. Так же, как Фет не верил в науки и знания (чему в гегелевской философии придается огромное значение) и не ждал от них никакого спасения для себя, он не поверил, что его спасет поступательный прогресс или революционное изменение действительности.
Если обсуждения гегелевских абстракций и их применения к действительности вызывали у Фета сдержанную иронию, то в спорах, касающихся искусства, он принимал более активное участие. Недаром же среди интересовавших его университетских предметов он называл курс эстетики. Лекции Ивана Ивановича Давыдова не могли дать по-настоящему серьезной пищи для ума: его построения были эклектичны и несамостоятельны, что отчасти искупалось их современностью и актуальностью. После своего предшественника Алексея Федоровича Мерзлякова, преподававшего теорию эстетики в духе классицизма, излагая продиктованные разумом правила написания произведений различных жанров и строгие принципы их классификации, Давыдов внес новые (конечно, не для Европы, а для России) веяния. В своих лекциях он опирался на философскую эстетику, в центре которой стояли не нормы и правила, порядок и закон, а творящий дух, господствовал романтический историзм, стремившийся примирить требования воплощения абсолюта в искусстве с признанием его, искусства, национального и индивидуального своеобразия. Придавая искусству важнейшее место в человеческой жизни, Давыдов открывал интерес к актуальным проблемам эстетики. Возможно, это вдохновляло Фета на размышления об искусстве, выработку своих представлений о месте искусства в мире и человеческой жизни.
В этом отношении Фет был вполне «современен» (в том значении, которое придал этому слову Герцен). Проблемы художественности тогда интересовали не только университетского профессора Давыдова, но и критика и публициста Белинского, уделившего им в статьях начала 1840-х годов немало места. Но и формировавшиеся эстетические взгляды Фета были нетипичными. Как можно было ожидать, гегелевское представление о красоте как форме «конкретного созерцания и представления в себе абсолютного духа как идеала», утверждение, что «эта форма ни на что другое, кроме идеи, и не указывает»[139]139
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т. 3. М., 1977. С. 383.
[Закрыть], оказалось для поэта неприемлемо. Ведь в гегелевской философии развитие эстетического чувства становилось одним из средств освобождения человека и создания более справедливого и совершенного общества, основанного на принципах свободы, равенства и братства; Фет же, не желая участвовать в решении этой задачи, не видел ее и в качестве цели искусства. С самого начала идея искусства и идея равенства были для него во всех отношениях противоположны. До конца жизни Фет будет утверждать, что не только творческий дар, но и способность видеть красоту и наслаждаться ею – качества врожденные, доступные только избранным. Поэтому его привлекали эстетические теории, менее сухие и высокомерные по отношению к искусству и не навязывавшие художеству каких-либо лишних обременительных задач.
Какие это были теории, можно предполагать по косвенным признакам. В своих воспоминаниях Фет упоминает книгу Иоганна Иоахима Винкельмана, которую дал ему почитать приятель. Идеи Винкельмана вполне могли его привлечь – тот первым в своей «Истории искусства древности» отделил понятие красоты от привлекательности, от чувственности. Сущность красоты, по Винкельману, «в единстве, многообразии и гармонии»[140]140
Винкельман И. И. История искусства древности. СПб., 2017. С. 131.
[Закрыть]. Греки, считал он, были высшими художниками именно потому, что в своих скульптурах изображали не то, что есть, но совершенство, представленное в конкретных формах. Винкельман включает в понятия красоты идеальные пропорции, гармонию и «выразительность», то есть впечатление, производимое на человека. Высшее искусство соединяет задачи красоты и выразительности; так, в скульптуре Лаокоона демонстрация страдания не отменяет прекрасных пропорций и гармонии, выражающей стойкость человека в момент последней борьбы.
Видимо, большое воздействие на Фета оказали эстетические воззрения Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга (прочел ли он работы этого философа или был знаком с ними в пересказах и интерпретациях, не столь важно). Для Шеллинга искусство стояло на вершине всей человеческой деятельности (именно им он заключал свою знаменитую «Систему трансцендентального идеализма»), поскольку философом не ставилась задача преодоления природного в духовном созерцании абсолютной истины. Апофеозом познания был для него синтез природного и созерцательного начал, и именно такого синтеза достигало искусство в своих самых высоких проявлениях. Мыслитель не скупился на выразительные образы: «Искусство есть для философа наивысшее именно потому, что оно открывает его взору святая святых, где как бы пламенеет в вечном и изначальном единении то, что в природе и в истории разделено, что в жизни и в деятельности, так же как в мышлении, вечно должно избегать друг друга»[141]141
Шеллинг Ф. В. И. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 484.
[Закрыть]. В этом смысле его философия консервативна или даже реакционна в сравнении с гегелевской (или, скажем осторожнее, систему Шеллинга труднее интерпретировать в революционном или прогрессистском духе): действительность в ней не подвергается тесту на соответствие идеалу, но содержит этот идеал, поэтому не может быть подвергнута абсолютному отрицанию, даже если эта действительность – николаевская монархия; таким образом, достичь его невозможно вне самой действительности.
Поэтому, по Шеллингу, художнику требуется только быть самим собой, быть верным своей сути. Ему не нужно и даже противопоказано выражать какие-либо абстрактные идеи, потому что в этом случае будет нарушен баланс и он «промахнется» мимо непосредственно-чувственного, превратится в философа, мыслителя, идеолога, что, по Шеллингу, означает спуститься на одну или несколько ступеней ниже в иерархии познания. Первоначальная сфера деятельности художника – область чувственного, в которой он заставляет быть видной область идеального, оставляя и ту и другую как слитые и одновременно бесконечно далекие друг от друга: «Каждая прекрасная картина возникает как будто благодаря тому, что устраняется невидимая преграда, разделяющая действительный мир и мир идеальный; она служит нам просветом, в котором отчетливо встают образы и области мира фантазии, лишь тускло просвечивающие сквозь покров действительного мира». Этот идеальный мир появляется в произведении искусства не как следствие сознательного намерения его творца, но как бы сам собой, бессознательно, благодаря таинственному свойству гения, который именно благодаря отказу от претензий на мысль достигает бесконечной глубины мудрости: «В произведении искусства отражается тождество сознательной и бессознательной деятельностей. Однако их противоположность бесконечна, и снимается она без какого-либо участия свободы. Основная особенность произведения искусства, следовательно, – бессознательная бесконечность (синтез природы и свободы). Художник как бы инстинктивно привносит в свое произведение помимо того, что выражено им с явным намерением, некую бесконечность, полностью раскрыть которую не способен ни один конечный рассудок»[142]142
Там же. С. 484, 478.
[Закрыть]. Рассудок в создании произведения искусства важен, но отнесен не к области содержания картины или поэмы, а к области техники, формы, которая служит как бы опорой и ограничением бессознательного порыва вдохновения, в противном случае не имевшего бы ни начала, ни конца. Так эстетика Шеллинга свела воедино непосредственное «бессознательное» творчество «цыганки Стеши» и «сатиру», заказанную Введенским: первую – как высшую цель искусства, вторую – как его «подножие». Такими в общих чертах и останутся эстетические воззрения Фета до конца его жизни.
Если интеллектуальное развитие Фета, хотя и стимулировавшееся университетом, шло скорее вразрез с его тогдашним духом, то его повседневная студенческая жизнь была достаточно типичной. Необходимым минимумом средств его обеспечивали Афанасий Неофитович и по-прежнему благоволивший к племяннику Петр Неофитович, поэтому нужды зарабатывать деньги уроками, как делали многие студенты, у него не было; лекции он посещал редко, к экзаменам начинал готовиться в последний момент; распорядок дня в доме Григорьевых был нестеснительным, и свободного времени у него было много.
Значительную его часть Фет проводил в популярных у молодежи заведениях, с которыми был знаком существенно лучше, чем с учебными аудиториями. Хорошо освоив меню разнообразных кофеен, трактиров и «погребков», он приобрел важное для студента умение экономить, покупая еду или питье там, где они дешевле (например, знал, что рейнвейн лучше брать «в винном погребе Гревсмиля по Ленивке до поворота на Каменный мост»). Впрочем, в то время такие заведения тоже были своеобразными учреждениями культуры, в которых можно было немало увидеть и многому научиться. Забежав в трактир Тестова «съесть свою обычную порцию мозгов с горошком», можно было встретить там знаменитого комика Живокини, проявившего недовольство тем, как пристально смотрел на него неизвестный юнец. В почти легендарном трактире «Британия», находившемся недалеко от университета, напротив Манежа, и исправно посещавшемся студентами, по воспоминаниям Фета, «кроме чаю и мозгов с горошком, привлекательным пунктом… была комната с двумя биллиардами: одним весьма правильным и скупым, другим более легким»: «Последний был поприщем моим и подобных мне третьестепенных игроков, тогда как трудный биллиард был постоянным поприщем А. Н. Островского и подобных ему корифеев, игравших в два шара или в пирамидку». В «студенческой комнате» трактира молодежь собиралась за чаем обсудить и бытовые, и эстетически-философские вопросы. Немало знаменитостей можно было увидеть и в не менее популярной кофейне Печкина (воспетой даже в пародийной поэме В. А. Проташинского «Двенадцать спящих будочников»), одно из помещений которой («небольшую комнату вправо от передней»), вспоминал поэт, «можно было по справедливости считать некоторым центром московской науки и искусства. Там стоял стол с шахматами, за которым можно было в известные часы встретить профессора Дм[итрия] Матвеев[ича] Перевощикова. <…> Заглядывал в кофейню и T. Н. Грановский. Подобно Перевощикову, завсегдатаем кофейни был М. С. Щепкин»[143]143
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 198, 161, 177, 220.
[Закрыть].
Не избежал Фет и всеобщего увлечения Малым театром и его главным корифеем – великим трагическим актером Павлом Степановичем Мочаловым. Ходить на галерку и восхищаться этим артистом в роли Гамлета было для студентов почти обязательно, и фетовское увлечение было искренним. Но и в этом случае восприятие Фетом творчества всеобщего любимца было своеобразным. Очень смело переведенная Николаем Полевым шекспировская пьеса на сцене московского Малого театра с Мочаловым в заглавной роли была неким аналогом «гегельянских» статей Герцена или Белинского: переводчик сумел интерпретировать трагедию как протест против общества, законы и принципы которого противоречат требованиям разума и гуманности, а судьба независимо мыслящей, глубоко чувствующей личности неизбежно трагична. Монологи Гамлета в исполнении Мочалова звучали для многих молодых зрителей по-настоящему революционно. Фет всего этого как будто не увидел. Для него Мочалов был не замечательный интерпретатор, сумевший донести до зрителей глубокое содержание шекспировской пьесы, но гений самовыражения, творивший «бессознательно» и сумевший (подобно цыганке Стеше) переплавить собственные страсти в своеобразную гармонию: «Я решаюсь утверждать, что Мочалов совершенно не понимал Гамлета, игрой которого так прославился. Мочалов был по природе страстный, чуждый всякой рефлексии человек. <…> Поэтому он не играл роли необузданного человека: он был таким и гордился этим в кругу своих приверженцев. Он не играл роли героя, влюбленного в Офелию или в Веронику Орлову; он действительно был в нее безумно влюблен»[144]144
Там же. С. 158.
[Закрыть]. Впечатление от игры актера было настолько сильным, что, по признанию Фета, сделанному в его воспоминаниях, предопределило «отчаянный пессимизм и трагизм» его первых стихотворений[145]145
См.: Там же. С. 143.
[Закрыть]. Пессимизм и трагизм быстро прошли, а стихи были забракованы автором и не попали в печать (во всяком случае до нас ничего подобного из раннего творчества Фета не дошло), но мнение о Мочалове как артисте, воплощавшем эстетический идеал, к которому стремился сам поэт, сохранилось у него надолго.
После поступления Фета в университет радикально изменилось его ближайшее окружение – и не только в том смысле, что его однокашниками теперь были не «тупицы», а яркие представители русской молодежи, многие из которых впоследствии составили славу и гордость российской литературы (как Яков Петрович Полонский, к творчеству которого Фет еще со студенческой скамьи относился с большой симпатией) и науки (как Сергей Михайлович Соловьев и Константин Дмитриевич Кавелин, к гегельянству которых у поэта было более прохладное отношение). После того как Фет покинул пансион Погодина, его общение с Введенским, несомненно, стало менее интенсивным. В 1840 году нигилист переехал в Петербург, где после нескольких месяцев беспутной жизни поступил в университет и стал активным сотрудником «толстого» журнала «Библиотека для чтения», издаваемого О. Ю. Сенковским, в результате чего их с Фетом отношения свелись к нерегулярной переписке. (Впрочем, еще некоторое время Афанасий видел в Иринархе близкого человека, готового много для него сделать, – в чем, как выяснилось, ошибался.)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?