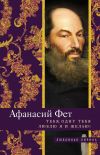Текст книги "Афанасий Фет"
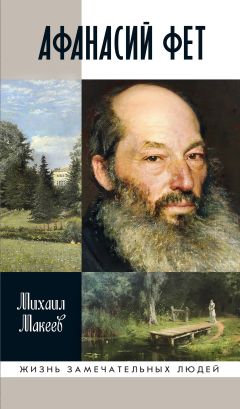
Автор книги: Михаил Макеев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Место ближайшего друга Фета занял сын хозяев дома, будущий известный поэт и замечательный критик Аполлон Александрович Григорьев. Отношения между ними имели характер странный, какой нередко принимает дружба молодых людей, представляющая тоже своего рода «университет», в котором происходит процесс «воспитания чувств». Аполлон был домашним юношей, чувствительным, прекраснодушным и наивным – полной противоположностью видавшему виды Введенскому. Чувства, которые он испытывал к Фету, были близки к поклонению. «Я любил его с безотчетною, нежною, покорною преданностию женщины – и теперь даже это один человек в целом свете, с которым мне не стыдно было бы предаваться ребяческим, женским ласкам…»[146]146
Григорьев А. А. Воспоминания. Л., 1980. С. 153.
[Закрыть] – писал Григорьев по горячим следам в одном из своих ранних беллетристических произведений, имеющем автобиографическую основу. Фет не отвечал взаимностью.
Григорьев, зачисленный вольнослушателем на юридический факультет, был прилежным студентом – аккуратно посещал университет, тщательно записывал лекции, готовился к занятиям, чем раздражал своего соседа: «После обеда старики отправлялись вздремнуть, а мы наверх – предаваться своим обычным занятиям, состоявшим главным образом для Аполлона или в зубрении лекций, или в чтении, а для меня отчасти тоже в чтении, прерываемом постоянно возникающим побуждением помешать Аполлону и увлечь его из автоматической жизни памяти хотя бы в самую нелепую жизнь всякого рода причуд»[147]147
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 150.
[Закрыть]. Фет, закаленный пансионом Крюммера, был сильнее маменькиного сынка, проведшего детство и юность с гувернерами под родительским крылом, и тот легко становился добычей своего кумира: «Григорьев… дорожил каждой свободною минутой для занятий; а между тем я всеми силами старался мешать ему, прибегая иногда к пытке, выстраданной еще в Верро и состоящей в том, чтобы, поймав с обеих сторон кисти рук своей жертвы и подсунув в них снизу под ладони большие пальцы, вдруг вывернуть обе свои кисти, не выпуская рук противника, из середины ладонями кверху; при этом не ожидавший такого мучительного и беспомощного положения рук противник лишается всякой возможности защиты»[148]148
Там же. С. 151.
[Закрыть]. Григорьевский идеализм, увлеченность Шиллером и Гегелем не только не вызывали сочувствия у его соседа, но превращали юношу в объект его жестоких «демонических» выходок. Их общий университетский приятель Полонский на склоне лет напоминал Фету: «Какой он (Григорьев. – М. М.) был Шиллер в то время, как он боялся папиньки и маменьки. <…> Помнишь, как ты нашел Григорьева в церкви у всенощной, и, когда тот, став на колени, простерся ниц, ты тоже простерся рядом с ним и стал говорить ему с полу… что-то такое мефистофельское, что у того и сердце сжалось, и в голове замутилось…»[149]149
ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 670.
[Закрыть] «Он смеялся цинически над моею жаждой веры, убеждая меня, что я слишком умен, чтобы верить во что-нибудь»[150]150
Григорьев А. А. Указ. соч. С. 153.
[Закрыть], – утверждал герой автобиографической художественной прозы Григорьева. И всё-таки сила обаяния Фета была настолько велика, что его жертва была готова прощать причиняемую ей физическую и душевную боль: «За минуту участия женственного этой мужески-благородной, этой гордой души, за несколько редких вечеров, когда мы оба бывали настроены одинаково, я благодарю Провидение больше, в тысячу раз больше, чем за всю мою жизнь»[151]151
Там же. С. 93.
[Закрыть].
Фет не шел навстречу готовности приятеля изливать душу, оставаясь в общении с ним закрытым в неменьшей степени, чем с другими сверстниками, – не поведал ему правду о своем происхождении (впоследствии Григорьев будет писать о Фете как о «полунемце»). Это только еще больше притягивало Аполлона, заставляло гадать, что скрывается за напускным, как ему казалось, цинизмом друга: «Вольдемар (под этим именем Фет фигурирует в ранней прозе Григорьева. – М. М.) не верил в возможность лучшего, другого чего-нибудь, кроме того, что им было уже прожито, а всем прожитым был он пресыщен, всё прожитое было ему гадко. <…> Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг. Этот человек должен был или убить себя, или сделаться таким, каким он сделался. <…> Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства»[152]152
Там же. С. 153.
[Закрыть]. Трудно сказать, чего здесь больше – собственного романтизма Григорьева, стилизующего друга под шиллеровского благородного разбойника Карла Моора и героев байронических поэм, или интуитивно («любящим сердцем») почувствованной правды. Что это были за страдания, автор рассказа не проясняет; несомненно, никакими страданиями «Вольдемар» с ним не делился.
Это не мешало Григорьеву, самому сочинявшему стихи и ставшему горячим почитателем творчества друга («У меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон», – констатировал Фет), выводить из этих «страданий» и страсть к стихотворству. Пользуясь правом, даваемым литературой вымысла, Григорьев даже вопреки фактам приписывает себе (или своему литературному двойнику) пробуждение этой страсти в «Вольдемаре» и тем самым – роль его спасителя: «Может быть, я сделал его тем, чем он стал теперь, ибо как за якорь спасения схватился я за художественное влечение его природы»[153]153
Там же.
[Закрыть]. В «Листках из рукописи скитающегося софиста» он выражается даже более категорично: «Я спас его для жизни и искусства». Результат, по Григорьеву, был неожиданный – лекарство оказалось слишком сильным, превратив «Вольдемара» в холодного эстета, жертвующего всем для своего искусства: «С способностию творения в нем росло равнодушие. Равнодушие ко всему, кроме способности творить, – к Божьему миру, как скоро предметы оного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником»[154]154
Там же. С. 93, 152.
[Закрыть]. Очевидно, что здесь нужно сделать скидку на склонность автора к экзальтации и преувеличениям; но именно в этом случае Григорьев через призму своего идеализма кое-что верно рассмотрел в своем приятеле.
Для такого героя, которого Григорьев вывел в своем «Вольдемаре», жизнь является всего лишь средством, стимулом для искусства. Но повседневность, рутина, в которую погружен человек, представлялась слишком скучной, эмоционально бедной и непригодной для поэзии. Выходом могло быть торжество мечты, фантазии, переносящей поэта в иные, намного более красочные миры. Другой выход – преобразование самой этой жизни с помощью каких-то эксцентричных, дерзких поступков, совершая которые, человек создает экстраординарные ситуации, вызывающие соответствующие эмоции у окружающих, заставляющие заурядную жизнь играть яркими красками. Зачитывавшийся, по его собственному признанию, лермонтовским «Героем нашего времени», в котором эта игра в жизнь и с жизнью ведется чрезвычайно обаятельным Печориным, юный Фет был готов экспериментировать, чтобы сделать жизнь ярче и острее, открыть в себе чувства, по-настоящему достойные поэзии.
Испытательным полигоном стала любовь. В период учебы в университете Фет пережил несколько любовных историй (он обладал весьма привлекательной внешностью и наверняка был готов надевать маску модного демонизма не только перед Аполлоном Григорьевым). Нам доподлинно известно только о двух. Одна, начавшаяся еще на первом курсе, имела, если можно так выразиться, традиционный характер (о ней будет подробнее рассказано ниже). Вторая, случившаяся скорее всего уже на третьем курсе, выглядит очень необычно и напоминает печоринские «эксперименты». В своих воспоминаниях Фет об этом эпизоде не упоминал, но посвятил ему небольшую поэму «Студент», впервые опубликованную в 1884 году. В прозе эта история составила центральную сюжетную линию григорьевской повести «Офелия», в которой автор не преминул подчеркнуть постоянно ужасавшую его рассудочность намерений Вольдемара: «Он говорил, что хотел бы влюбиться, что ему это нужно для его поэзии, что влюбиться не трудно, стоит только захотеть»[155]155
Там же. С. 164.
[Закрыть].
О девушке, ставшей объектом этого чувства (или этого эксперимента), практически ничего не известно. Фактически единственными источниками сведений о ней остаются автобиографичная проза Григорьева и поэма Фета. Связано это, конечно, с заурядностью судьбы героини. Звали ее Елизавета, она была крестница матери Аполлона и вместе с сестрой по воскресеньям бывала у Григорьевых, где, обладая хорошим голосом, пела под аккомпанемент Аполлона («На фортепьянах игрывал мой друг, / Певала Лиза – и подчас недурно – / И уходила под вечер…»). Прозаик не жалеет красок для описания ее внешности: «Чудно легли пышные белокурые локоны на нежный прозрачный лик ее, и жажда любви пробилась на бледные ланиты ярким заревом румянца, и резкий, несносный, детский голос заменился тихою речью, и быстрые голубые глаза подернулись влагою»[156]156
Там же. С. 158.
[Закрыть]. Судя по всему, семья Лизы была бедна, и потому открывшаяся возможность выгодно выдать дочь замуж была принята с радостью. Ее жениха оба тогдашних приятеля называют неровней по интеллекту и развитию. По Григорьеву, это был «маленький человечек, с обиженной наружностию и со всеми манерами пехотинца»[157]157
Там же. С. 160.
[Закрыть]. В изображении Фета:
Не вышел ростом, не красив лицом,
Но мог бы быть товарищам примером:
Весь раздушен, хохол торчит вихром,
Торчат усы изысканным манером,
И воротник как жар, и белый кант,
И сахара белее аксельбант.
Судя по всему, именно то, что Лиза была просватана за недостойного ее человека, пробудило чувство к ней в обоих приятелях. Можно предположить, что причинами вдруг вспыхнувшей страсти были недосягаемость ее объекта (для Григорьева) и, наоборот, сочетание отсутствия ответственности – поскольку о браке речи быть не могло – и опасности, запретности происходящего, позволяющей ощутить опьянение от переступания границ, дерзкого вызова общественным принципам и ценностям (в случае Фета). Аполлон не решился признаться в своем чувстве. С Фетом было иначе: уже на свадьбе, на которой он выступал шафером, Лиза во время мазурки призналась ему в любви.
«Тут маменька, виновница всех бед,
Распорядиться ей хотелось мною.
Я поддалась, – всю жизнь свою сгубя.
Я влюблена давно!» – «В кого?» – «В тебя!»
Ответное признание не заставило себя ждать:
«И я тебя люблю! – едва дыша,
Я повторял. – Что нам людская злоба!
Взгляни в глаза мне: твой, – я твой до гроба!»
Роман, протекавший в первые месяцы замужества Лизы, имел вполне неплатонический характер:
И я ворвался в этот мир цветов,
Волшебный мир живых благоуханий,
Горячих слез и уст, речей без слов,
Мир счастия и пылких упований,
Где как во сне таинственный покров
От нас скрывает всю юдоль терзаний.
Он тянулся до тех пор, пока муж не узнал о поведении супруги. Молодая женщина простодушно радовалась:
«…всё проведал этот зверь.
С тобою он стреляться верно станет;
И если ты убьешь его теперь, —
Тогда, тогда и счастие настанет».
Незадачливому любовнику пришлось прибегнуть к помощи декана факультета (здесь, впрочем, рассказ Фета несколько путан; возможно, его спасителем стал принимавший в нем участие профессор Шевырев), который, стремясь избежать скандала и дуэли, обещал посадить незадачливого повесу в карцер, чтобы не дать возможность оскорбленному супругу добраться до него. Через короткое время молодожены уехали в деревню, и скандал сошел на нет, не породив никаких последствий для любовника. Лиза вскоре овдовела и, по сведениям Фета, то ли снова вышла замуж, то ли вступила в связь с каким-то генералом. Судя по всему, радость благополучного окончания опасного приключения была намного сильнее, чем горечь от потери возлюбленной. Эта любовная история (а возможно, и какие-то другие, оставшиеся нам неизвестными) оставила в жизни Фета незначительный след; возможно, она опосредованно отразилась в лирическом цикле «К Офелии», скрестившись с впечатлениями от «Гамлета», увиденного им в Малом театре. Это, по большому счету, была только шалость; подлинная жизнь, подлинные чувства были связаны с другим.
Только после поступления в университет Фет, наконец, приехал домой в Новоселки. Это, несомненно, была его собственная инициатива – Афанасий Неофитович никакого желания его видеть не выражал. Немалые деньги, требовавшиеся на дорогу, – 50 рублей – пришлось занять у погодинской кормилицы. Тем не менее на первые же рождественские каникулы он отправился в путь на «сдаточном ямщике», уложив в узелок с бельем единственный мундирный сюртук. Ехать в 25-градусный мороз в позаимствованном у Введенского «нанковом халате на тонкой подкладке из ваты», надетой поверх него «легко подбитой ватой студенческой шинели с меховым воротником» и летней форменной фуражке было нелегко, но встреча с родственниками была радостной. С тех пор каждые каникулы, рождественские и летние, студент проводил в кругу родных. С братьями и сестрами пришлось практически знакомиться заново – оставлял он их малолетними, а теперь они подрастали, кто-то отправлялся в пансион, кто-то уже возвращался.
Многое осталось неизменным: дядя Петр Неофитович был по-прежнему добр – пребывание у него в имении и совместные охоты относятся к наиболее приятным воспоминаниям Фета о гощении в родных местах. Афанасий Неофитович, получивший в наследство еще одно имение, Грайворонку, был, как обычно, суров и замкнут, вечно занят, постоянно находился в разъездах. Каких-либо разговоров с ним по поводу происхождения Афанасия, скорее всего, не было.
Вряд ли и от матери Фет требовал объяснений, ее душевная болезнь за годы разлуки прогрессировала: «Отсутствие непосредственных забот о детях, развезенных по разным заведениях, как и постоянные разъезды отца наводили мечтательную мать нашу на меланхолию, развиваемую в ней, с другой стороны, возрастающими жгучими ощущениями в груди… То и дело, обращаясь к своему болезненному состоянию, она со слезами в голосе прижимала руку к левой груди и говорила: “рак”. От этой мысли не могли ее отклонить ни мои уверения, ни слова навещавшего ее орловского доктора В. И. Лоренца, утверждавшего, что это не рак. В другую минуту мать предавалась мечте побывать в родном Дармштадте, где осталась старшая сестра Лина». Состояние Елизаветы Петровны ухудшалось: во время очередного визита Фет «застал мать окончательно поселившеюся в так называемом новом флигеле, где она лежала в постели, с окнами, закрытыми ставнями, и кроме двух сменявшихся горничных, никого к себе не допускала, разве на самое короткое время в случае неизбежных объяснений». Наконец пребывание в доме Шеншина стало для Елизаветы Петровны невозможно, и она «вынуждена была переехать в Орел, чтобы находиться под ежедневным надзором своего доктора Вас[илия] Ив[ановича] Лоренца. В те времена еще не было в Орле порядочных гостиниц, и мать занимала два номера на постоялом дворе Кабанкова»[158]158
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 194, 244, 228.
[Закрыть]. Тем не менее до исполнения своего желания увидеть старшую дочь Елизавета Петровна дожила.
Во время учебы Фета в университете русская и немецкая ветви его семьи воссоединились. В середине мая 1841 года дармштадтский дядя Афанасия Эрнст Беккер приехал в Москву в качестве флигель-адъютанта принца Александра Гессенского, сопровождавшего свою сестру Максимилиану Вильгельмину Августу Софию Марию, выходившую замуж за наследника российского престола Александра Николаевича – будущего царя Александра II. Во время шумных свадебных торжеств дядя разыскал племянника в доме Григорьевых. «Когда я подошел к нему, он со слезами бросился обнимать меня как сына горячо любимой сестры», – престарелый поэт, вспоминая этот эпизод, не жалел эмоциональных характеристик. Узнав от хорошо говорившего по-немецки Аполлона Григорьева, что его племянник пишет стихи, дядя тут же предложил Афанасию сочинить приветственное стихотворение августейшей особе. На другой же день стихотворение было изготовлено и передано по назначению (правда, никаких милостей его автор не получил). Дядя Эрнст оказал и более практическую помощь, пусть и по-немецки скромную, не в пример щедрым дарам русского дяди Петра, но для бедного студента оказавшуюся весьма кстати: «Так как родные перестали баловать меня значительными денежными подарками, то подаренный мне дядею столбик в пятьдесят серебряных рублей показался мне великою щедротой»[159]159
Там же. С. 197.
[Закрыть].
Одновременно с Эрнстом Беккером, но отдельно от него в Россию приехала Лина Фёт. Дядя тут же повел племянника к ней. «В номере гостиницы мы застали замечательно красивую и милую девушку, которая, нежно встретившись со мною, сказала, что не понимает переполоха дяди, что она свой поступок считает весьма естественным. Ей хотелось увидать хоть раз в жизни свою мать и родных по матери, что она доехала до Москвы с знакомой ей дамой и надеется и на возвратном пути найти спутницу»[160]160
Там же. С. 198.
[Закрыть], – пишет Фет в мемуарах. О жизни Каролины в доме отца под присмотром опекунов мы практически ничего не знаем, однако по ее немногим сохранившимся письмам, а также воспоминаниям Фета можем составить о ней представление как о девушке развитой и культурной. Влияние воспитателей не привело ее к неприязненному отношению к матери. Лина с дядей Эрнстом отправилась в Новоселки, где долго гостила, благодаря веселому и доброму характеру пользуясь общей любовью.
Познакомившись с братом и новой семьей матери, Лина, к тому времени достигшая совершеннолетия и получившая возможность самостоятельно вести дела, прекратила инициированный ее опекунами судебный процесс против Шеншина, отказавшись от всяких материальных претензий к нему. Вести тяжбу со страдающей душевной болезнью матерью и ее мужем, который, как она убедилась, честно выполнял обязательства и оказывал ей материальную помощь, она не хотела. «Велика была бы несправедливость с благодетеля всей их фамилии деньги требовать, которые он не брал и не занимал и даже присылкою оных чрез родных ее ей помогал»[161]161
Цит. по: Кузьмина И. А. Материалы к биографии А. А. Фета. С. 138.
[Закрыть], – писала Лина в официальном прошении о прекращении процесса. Что говорили, о чем рассказывали друг другу никогда не видевшиеся прежде брат и сестра, родные не только по крови, но и по несчастью, две жертвы судьбы и легкомыслия матери, мы не знаем. Возникшая между ними с первой встречи приязнь переросла в долгую дружбу. Дармштадтские родственники, погостив в Новоселках, вернулись в Германию: Лина – совсем ненадолго, дядя Эрнст – навсегда.
Поэт
Поэзия занимала Фета в студенческие годы, была, кажется, его подлинной страстью. Сочинял он, по собственным утверждениям, едва ли не по стихотворению каждый день. Стихи записывал в «желтую тетрадку», которая всё время «увеличивалась в объеме» (она, конечно, была утрачена, в печать попало только очень малое число записанных в нее произведений). Первыми читателями были немногочисленные соседи по пансиону: компетентный Введенский и чуждый поэзии, но «добрый» Медюков, «неподдельным участием» «разжигавший» соседа, восторженно (эта манера декламации останется у Фета надолго) читавшего ему свои и чужие стихи[162]162
См.: Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 140, 141.
[Закрыть]. Начинающий поэт добился (во всяком случае, по его утверждениям) и существенно более ценного признания:
«Однажды я решился отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению.
– Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, – сказал Погодин, – он в этом случае лучший судья.
Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: “Гоголь сказал, это несомненное дарование”»[163]163
Там же. C. 141.
[Закрыть].
Нет оснований подвергать сомнению сам факт этого символичного эпизода, но, к сожалению, не удается установить, когда он мог произойти, поскольку в те дни, которые указывает Фет, Гоголя в Москве не было.
Неизменный поклонник Аполлон Григорьев поддерживал в начинающем поэте веру в себя. «Вскорости после моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона»[164]164
Там же. С. 152.
[Закрыть], – вспоминал престарелый Фет. Григорьев же стал и своеобразным пропагандистом поэзии друга – стихи Афанасия начали ходить по рукам и пользовались у студентов определенным успехом. Следующим естественным шагом была их публикация.
В конце 1839-го или начале 1840 года Фет послал несколько стихотворений в «Отечественные записки». Что это были за стихи и почему был выбран именно журнал, в котором ведущее положение только что занял Белинский, неизвестно. Скорее всего, просто в силу свойственных дебютанту амбиций он отправил свои опусы в то издание, которое казалось ему самым лучшим и потому единственно достойным их опубликовать. Полученный отказ не только огорчил его, но и вызвал болезненное чувство унижения. (Возможно, письмо лично издателю Краевскому, которым дебютант сопроводил стихи, было написано слишком самоуничижительно или, наоборот, самоуверенно; во всяком случае, Фет еще некоторое время боялся, что кто-то из членов редакции «Отечественных записок» предаст его огласке.) Однако от попыток напечататься в журнале он не отказался и, демонстрируя полное равнодушие к характеру и литературной позиции изданий, примерно в октябре 1840 года послал во враждебные «Отечественным запискам» и пользовавшиеся противоречивой репутацией «Сын Отечества» и «Библиотеку для чтения» «стихов столько, что их хватит на два журнала»[165]165
Цит. по: Блок Г. П. Рождение поэта. С. 60.
[Закрыть]. О том, что произошло с текстами начинающего поэта в первом журнале, редактировавшемся Николаем Полевым, сведений нет. Во втором он рассчитывал на помощь начавшего сотрудничать в нем Введенского. Однако протекция приятеля (если он пытался ее составить) не помогла – стихотворения канули в небытие без какого-либо ответа от заведовавшего поэтическим отделом «Библиотеки для чтения» Эдуарда Губера.
В результате первым выступлением Фета в печати стал сборник стихотворений, изданный за свой счет. Сам поэт на склоне лет приписывал такое решение наивности и преувеличенному самомнению: «Между прочим я был уверен, что имей я возможность напечатать первый свой стихотворный сборник, который обозвал Лирическим Пантеоном, то немедля приобрету громкую славу, и деньги, затраченные на издание, тотчас же вернутся сторицей»[166]166
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 169.
[Закрыть]. Тем не менее такой способ войти в литературу для того времени не был необычен – во второй половине 1830-х годов выходило немало поэтических сборников, и некоторые из них приносили своим авторам популярность, а возможно, и доход: еще помнился сенсационный первый сборник (1835) В. Г. Бенедиктова, доставивший настоящую славу до того никому не известному поэту. Само же намерение Фета обратить свой талант в деньги и получить известность было вызвано не только вполне естественным честолюбием и материальными расчетами. По его утверждению, подлинным стимулом для издания книги была любовь.
Мы столь же мало знаем о девушке, ставшей объектом страсти поэта, как и о ее «преемнице» Лизе. Звали ее Елена Григорьевна (в своих мемуарах Фет чаще называет ее «M-lle Б.»). Социальное положение ее было скромным. Фет вспоминал: «Еще зимой (видимо, 1839 года. – М. М.) я познакомился с восьмнадцатилетнею гувернанткой моих сестренок, Анюты и Нади. У нее были прекрасные голубые глаза и хорошие темнорусые волосы, но профиль свежего лица был совершенно неправилен, тем не менее она своею молодостью могла нравиться мужчинам». В отличие от более позднего приключения с «Офелией» чувство к M-lle Б. воспринималось Фетом серьезно и заставило думать о браке. Перспективы же для совместной жизни были крайне мрачны, вызывая ощущение безнадежности: «Какой смысл могло представлять наше взаимное с М-lle Б. увлечение, если подумать, что я был 19-летний, от себя не зависящий и плохо учащийся студент второго курса, а между тем дело дошло до взаимного обещания принадлежать друг другу, подразумевая законный брак. Мы даже обменялись кольцами, так как я носил подаренное мне матерью кольцо, а у нее тоже было обручальное кольцо ее покойного отца. Что такое обещание было не шуткой, явно из того, что однажды, думая покончить эту неразрешимую задачу, я вышел из флигеля на опушку леса… с заряженною двустволкой и некоторое время, взведя курки, обдумывал, как ловчее направить в себя смертельный удар. Слезы изменили окончательную мою решимость, и я ушел домой». Возможным способом решения материальных затруднений показалось издание книги: «Разделяя такое убеждение, Б. при отъезде моем в Москву вручила мне из скудных сбережений своих 300 рублей ассигнациями… на издание, долженствовавшее, по нашему мнению, упрочить нашу независимую будущность»[167]167
Там же. С. 163, 169.
[Закрыть]. Таким образом, от судьбы книжки, казалось, зависела не только литературная карьера Фета, но и его будущее семейное счастье.
Вернувшись с каникул в Москву в сентябре 1840 года, Фет начал энергично действовать: отдал рукопись в цензуру (цензор Снегирев не нашел в ней ничего крамольного) и вступил в отношения с книгопродавцем Селивановским, которому и заплатил какую-то часть требуемой суммы (всего издание обошлось в 400 рублей – к деньгам Елены Григорьевны пришлось где-то добыть еще сотню). Впрочем, отношения с «M-lle Б.» прекратились еще до выхода книжки: «Пламенная переписка между Еленой Григорьевной и мною продолжалась до начала октября; но вдруг совершенно неожиданно явился Илья Афанасьевич с известием, что “папаша прибыли в Москву и остановились с сестрицами Анной и Надеждой Афанасьевнами у Харитония в Огородниках, в доме П. П. Новосильцева, и просили пожаловать к ним”… отец, оставшись со мною наедине, неожиданно вдруг сказал: “беспутную Елену Григорьевну я расчел, а девочек везу в институт. Матку-правду сказать, некрасивую глупость ты там затеял. Хорошо, что я вовремя узнал обо всем случайно; но прежде всего il faut partir du point où on est[168]168
Надо отправляться от той точки, в которой мы находимся (букв. фр.), что, вероятно, означает: надо разрешить сложившуюся ситуацию. (прим. редакции)
[Закрыть]”»[169]169
Там же. С. 172–173.
[Закрыть]. (История завершилась не так трагично, как можно было ожидать; по свидетельству Фета, Елена была принята гувернанткой в другой дом и впоследствии достаточно удачно вышла замуж.)
Тем не менее Фет довел свое предприятие до конца. Между 18 и 28 ноября книга, получившая название «Лирический Пантеон» и подписанная «А. Ф.» (что заставило начинающего автора скрыть от публики свое полное имя, неясно), вышла в свет. Сам поэт в это время страдал от оставшейся неназванной болезнью. «За Лирический Пантеон деньги я нынче отдал, понеже нахожусь дома, а завтра ложусь в Градскую больницу… я говорю, деньги отданы и экземпляры надевают у переплетчика сорочки, на следующей неделе я непременно пришлю к тебе экземпляр. Каков-то будет успех??! и проч.», – писал он Введенскому. Сам факт выхода книги вызывал у Фета эмоциональный подъем, позволивший легче перенести достаточно суровые условия, в которых ему как недворянину пришлось находиться в больнице, и даже породил мысли профессионально заняться литературой. «Цена моей книги самая умеренная 1 р. серебром. Благодаря Бога, теперь мечты о литературной деятельности проникли и заняли всё мое существо, иначе бы мне пришло худо. Душа в разладе; потому что обстоятельства грязны до омерзения»[170]170
Цит. по: Блок Г. П. Рождение поэта. С. 61.
[Закрыть], – сообщал Фет тому же корреспонденту между 17 и 24 ноября 1840 года.
Состав «Лирического Пантеона», с которым начинающий поэт связывал столь большие надежды, совершенно соответствует названию. В книге всего 40 лирических стихотворений, три баллады и 11 переводов также из лирики: Ламартина, Гёте, Шиллера и Горация. В отборе текстов и их компоновке активное участие принял Аполлон Григорьев (Фет позднее утверждал, что композиция сборника, делящегося на три раздела: «Баллады», «Лирические стихотворения» и «Переводы», – полностью составлена его другом).
С одной стороны, это отчетливо ранний сборник, вполне естественно для дебютанта состоящий преимущественно из стихов подражательных. С другой стороны, в художественном отношении между стихотворениями «Лирического Пантеона» и зрелыми произведениями Фета нет большого разрыва: он выбирал объекты для подражания в соответствии с раз и навсегда принятым представлением о сущности и смысле литературы. Неизбежно находясь под влиянием окружающих, Фет смело корректировал его своими вкусами, отсекая в творчестве тех авторов, которым подражал, тенденции, которые ощущал как чуждые, – фактически всё, что выходило за пределы «чистой» интимной лирики. Например, он рассказывает в своих воспоминаниях, как поддавался и одновременно боролся с влиянием Григорьева, увлеченного французскими романтиками: «Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженным в Notre Dame de Paris и драмы Виктора Гюго. Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам перевел “Озеро” Ламартина, я стал фактически, чтением вслух убеждать Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина…» То же произошло с активно пропагандировавшейся его другом поэзией Байрона: «Но, поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гёте»[171]171
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 153.
[Закрыть]. У Байрона Фету нравился не бунтарь против современного общества Чайльд Гарольд, но более абстрактный Каин.

Титульный лист сборника «Лирический Пантеон»
В результате влияние названных самим автором «Лирического Пантеона» поэтов «первого ряда» в книге не так просто распознать – их мотивы трансформированы до неузнаваемости. Так, Гёте отразился почти исключительно в переводах и, возможно, в названии всей книги, которое могло быть навеяно характеристикой, данной творчеству великого немецкого поэта Шевыревым: «Поэты всего мира, всех веков и стран участвовали через Германию в воспитании Гёте, – и потому галерея его произведений, вмещающих славу и гордость его отечества, представляет Пантеон всемирной поэзии…»[172]172
Шевырев С. П. Теория поэзии у древних и новых народов в историческом развитии. 2-е изд. СПб., 1887. С. 203.
[Закрыть]
У Лермонтова, со стихотворениями которого его познакомил Шевырев, Фет совершенно не принял протест против власти и медитации о потерянном поколении. Намного более отчетливо видны следы его увлечения «властителем дум» тридцатых годов Бенедиктовым. Фет на склоне лет не скрывал того впечатления, которое на них с Григорьевым произвели его звучные стихи:
«Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив[ан] Ив[анович] Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой?!
– Что стоит Бенедиктов? – спросил я приказчика.
– Пять рублей – да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.
Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении»[173]173
Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 153.
[Закрыть].
Но именно там, где Фет подражает Бенедиктову, появляется стилистическая какофония, как, например, в стихотворении «Откровенность»:
Не мне просить у прелестей твоих
Очаровательной неволи.
Не привлекай и глазки не взводи:
Я сердце жен изведал слишком рано;
Не разожжешь в измученной груди
Давно потухшего волкана.
Здесь очень по-бенедиктовски сочетаются романтическая «измученная грудь», «потухший волкан» с игривыми «прелестями» и «глазками». При этом вторые как будто снижают трагизм первых, придавая образу «волкана» пошловато-эротическое значение. В некоторых случаях Фет выглядит даже пародией на Бенедиктова:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?