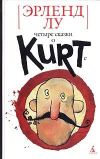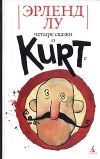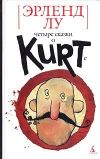Текст книги "Пастырь добрый"

Автор книги: Надежда Попова
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Глава 23
Дождь лил до утра, укрывая улицы слякотью, напитывая землю, не знающую воды почти целый век, – словно смывая неведомое проклятье вечной жизни, лежащее на мертвой деревне. Войдя в ближайший к окраине пустой дом, под крышей коего намеревался ожидать прибытия вызванной подмоги, Курт ощутил запах гнили, источник которого обнаружился в подполе и на маленькой, как кладовка, кухне; оставленное здесь многие десятилетия назад съестное, до этой минуты сохранившееся почти в неприкосновенности или же просто высохшее, теперь осело влажным серо-коричневым прахом. Стены крошились буквально на глазах – каменная кладка трещала, по временам осыпаясь на пол песком, оконные рамы, скрипнув, треснули спустя час, и, жалобно застонав, провисла на петлях ощелившаяся дверь. Бернхард сидел на полу у дальней стены, связанный по всем правилам, предусмотренным на случай поимки подобной личности, во избежание неприятностей с заткнутым ртом, отчего утратил возможность извергать выдержки из Писаний, и косился по сторонам со все более осмысленным испугом и тоской, что вселяло некоторую надежду на то, что его помешательство было все же явлением временным. Сила, пребывающая в нем, тем не менее, его покинула без остатка, и покровительство существа, слившегося некогда с чародеем, ушло, посему Курт оставил его наедине с подопечным с относительно спокойной душой, вновь выйдя под дождь, чтобы привести оставленных у пределов деревни коней. Теперь курьерские пошли смирно, лишь недовольно фыркая, когда вода попадала в ноздри, и косясь на своего поводыря с укоризной.
Вечером, когда на пустую деревню начала уже нисходить мгла, снаружи донесся тяжелый шлепок, заглушенный треском, и земля под ногами дрогнула Обгорелый столб, стоящий всего в трех шагах от дома, рухнул поперек дороги, чудом миновав крышу внезапно обветшавшего жилища. Грохот и плеск длинных бревен о грязь, а то и о кровли близстоящих домов продолжались почти всю ночь, заставляя связанного чародея вздрагивать в одолевшем его забытьи.
Разведя огонь, Бруно еще минуту сидел подле очага, глядя в пламя, а потом протянул к нему руку, осторожно коснувшись пальцами рвущихся вверх языков, и неловко усмехнулся.
– Подумал – вдруг и я тоже? – пояснил он в ответ на хмурый взгляд. – Это было б до крайности несподручно.
Курт молча отсел подальше и отвернулся от ярких горячих лоскутов к покосившейся провисшей двери.
Подопечный уснул тотчас же, лишь улегшись на просевшую узкую скамью подле очага, а он еще долго сидел поодаль, глядя сквозь дверную щель на льющуюся с желоба воду и слушая, как рушатся гниющие деревянные столбы. Ожидать чьего бы то ни было нападения не приходилось, никакие силы, судя по вершащемуся вокруг, в этом месте более не обитали, однако сон все не шел. Несколько раз Курт приближался к тесному очагу, пытаясь принудить себя встать рядом, вплотную, как два часа назад – Бруно, как когда-то – он сам, протянув руки к огню. Произошедшее сегодня должно было наглядно показать, сколько времени требуется для того, чтобы опасность стала действительной, страх – не напрасным, но воспоминания о случившемся не пробуждали к жизни доводы разума, а, напротив, убивали их, стискивая сердце холодом. Наконец, устав бороться с самим собою, он прошагал к двери и вышел, остановившись на пороге под узким навесом, надеясь на то, что ровный плеск воды и холодный воздух навеют сон.
Подопечный проснулся за полночь – было слышно, как изменилось его дыхание, хотя со скамьи тот не поднялся и ничего не сказал. Выждав минуту, Курт, не оборачиваясь, выговорил:
– Не смотри в спину. Не люблю.
– Не спится? – вздохнул помощник сочувственно, приблизившись, и он тяжело усмехнулся, по-прежнему глядя на темную улицу:
– Нет, я просто хожу во сне. И разговариваю.
Бруно на его шпильку не ответил, остановясь рядом и глядя туда же, куда и он – на невидимую во мраке колокольню церкви напротив двух крестов у колодца. В молчании протекла минута, и Курт, наконец, решившись, спросил чуть слышно:
– Что было сегодня? По-твоему – что?
– Чудо, – откликнулся Бруно, не замедлив с ответом ни на миг, и майстер инквизитор обернулся, глядя в серьезное лицо подопечного, пытаясь отыскать в нем тень насмешки и не видя таковой. – А что, по-твоему? – пожал плечами подопечный, перехватив его взгляд. – Сегодня здесь случилось то, что не укладывается в рамки фактов, данных и логических выводов. Логически рассуждая, сегодня здесь должно было стать на троих кадавров больше, а вон тот говнюк – на три доли счастливее. Факты говорили о том, что мы, как два кутенка, должны были утопнуть в этом дерьме, даже булькнуть не успев. Все данные сходились на том, что и мы, и святой отец с нами вместе должны были отправиться в мир иной… очень иной. Но случилось чудо. Мы живы. Оно… уж не знаю, что это было… ушло; сбежало с поля боя, поджав хвост или что там у него вместо хвоста – щупальца?.. И, позволь заметить, сомневаюсь, что дождь, разразившийся прямо над нами, именно в тот момент, так вовремя – случайность, а уж тем паче, дождь в этом месте, где ни капли воды не падало больше восьмидесяти лет. Посмотри вокруг; это место встречает свой конец. Если ты и сегодня скажешь, что все это – совпадение…
– А ты, как я вижу, ничему не удивился? – отозвался Курт тихо. – Или чудеса в твоей жизни попадаются на каждом шагу, что ты столь спокойно их принимаешь?
– А ты уж больно удивлен само́й возможностью этого чуда – слишком удивлен для инквизитора.
– Именно как инквизитору – известно слишком много ситуаций в жизни, когда чудо было более необходимо, чем сегодня, и спасти оно могло, быть может, жизни более нужные, чем наши.
– Откуда тебе знать? – возразил Бруно уверенно. – Может, сегодня здесь решалась судьба мира, или же твоя или моя жизнь по какой-то причине стоит сотен других? А может, мы тут и вовсе никто, и все произошло ради прославления нового святого?
– Это какого же? – уточнил Курт напряженно, и подопечный улыбнулся – почти снисходительно:
– Того самого, которого ты обозвал старым дураком и которому прочил келью в доме призрения; в одном с тобой соглашусь – со святыми разговаривать ты не обучен. А по-твоему, кто вытащил нас из этого? Не твои же молитвы. И не мои, – уточнил Бруно с усмешкой, – я не молился. Я клял все на свете и поминал не того, кого надо…
– Предлагаешь мне так и написать в отчете – «Deus redemit nos de hostibus nostris huius secundum magnitudinem misericordiae eius et per orationes ministrum Christi[215]215
Бог избавил нас от врагов наших по великой милости Его и чрез молитвы служителя Христова (лат.).
[Закрыть]»?
– Ты еретик, Курт, знаешь об этом? – вздохнул тот в ответ. – Ты безоговорочно признаешь за темными силами возможность и способность действовать в нашем мире, в людских душах – да где угодно, но лишаешь этой привилегии силы светлые. Накатать бы на тебя доносец, вот только Керн, сдается мне, на тебя уже махнул рукой.
– Никакие они не светлые, – отозвался Курт серьезно. – И докричаться до них – в самом деле чудо. Тех, кого ты назвал темными, – много, как грабителей по дорогам, а Тот, Кто вот так услышит и поможет – Он один. Как ненароком повстречавшийся на все той же дороге солдат с неправдоподобно развитым чувством долга. Который, по секрету тебе скажу, вовсе не знает о том, что и где происходит в каждый миг жизни этого мира, а посему надо быть уж очень необычным человеком, чтобы суметь сообщить Ему о каком-либо нарушении порядка, требующем Его личного вмешательства. Причины же, по которым Он, услышав или узнав о нарушении самостоятельно, избирает ту или иную линию поведения, решает, вмешаться или нет – и вовсе непостижимы.
– Неисповедимы пути Господни, – наставительно подытожил Бруно. – Для тебя это новость?
– Я уже привык к тому, что земля эта дана нам вместе со всей грязью, что на ней, чтобы мы барахтались в этой грязи, как сами умеем. Без помощи, в крайнем случае – с советами, в которых еще поди разберись, дельные они или это полнейшая ересь и абсурд. И когда кто-то там, – Курт неопределенно кивнул вверх, откуда падали стремительные хлесткие струи воды, – вмешивается, я чувствую себя довольно неуютно.
– Вот оно что, – протянул Бруно. – Закономерностей не видишь. Система нарушается, и у Курта Гессе бессонница. Адепт вечных устоев. Поборник порядка. А не все в этой жизни можно распланировать и предусмотреть. Homo proponit, знаешь ли, sed Deus disponit[216]216
Человек предполагает, // а Бог располагает (лат.).
[Закрыть].
– Это и раздражает.
– Господи, Ты слышал? – с усмешкой обратясь к темным небесам, вопросил подопечный. – Ты его раздражаешь… Ты чем недоволен, в конце концов? Тебе жизнь спасли и душу, заметь, что гораздо важнее, а ты брюзжишь, что перед этим Господь не ниспослал тебе голубя с уведомлением. Дают – бери. Скажи «спасибо» и ложись спать. Deo autem gratias qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum[217]217
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом (лат.).
[Закрыть]; сегодня это будет неплохой вечерней молитвой.
Курт не ответил, оставшись стоять на пороге, когда Бруно вновь улегся, лишь позавидовав тому, как мгновенно тот погрузился в сон.
Легкая дремота сморила его лишь под утро, изводя видениями, которых не бывало уже давно, и он привычно просыпался от несуществующего жара и жгучей боли в руках, успокаиваясь, засыпая снова и вновь пробуждаясь. Отчего-то образы яркого света, замершего перед алтарем священника и спасительного дождя его не посещали, и утро Курт встретил разбитым и усталым едва ли не более, чем минувшим вечером. Голова трещала, точно после хорошей попойки, а начавшая его одолевать еще в Хамельне простуда продолжилась болью в горле и постепенно, но неуклонно разгорающимся жаром.
* * *
То, что должно было быть подкреплением, явилось ближе к полудню. Вопреки ожиданиям, это оказался не пяток арбалетчиков Друденхауса, приумноженных магистратскими вояками, а хорошо вооруженный особый отряд. Шарфюрер[218]218
Scharführer – командир группы (нем.).
[Закрыть], уже знакомый по прошлому делу, бросил на майстера инквизитора взгляд удивленный и снисходительный, обронив насмешливо: «Гляди-ка, жив и с добычей». Курт покривился, предпочтя оставить без внимания хроническое презрение подобных личностей к действующим следователям, однако не удержался заметить, что дознавателям приходится делать еще и не такое, когда вызванная на подмогу зондергруппа является спустя сутки после того, как отпала в оной подмоге необходимость. Шарфюрер молча усмехнулся, не став заострять внимания на конфликте и не упомянув о том, что их появление здесь сегодня – и вовсе чудо, мстительно дождавшись, когда Курт сам задаст вопрос о том, какими судьбами особая группа Конгрегации вообще оказалась в Кёльне, куда было направлено его донесение.
– Отец Бенедикт, – пояснил тот, наконец. – Получив запрос еще на эксперта, он призадумался, а когда пришло требование выслать экзорсиста – сказал, что отправлять следует и нас.
– С чего б это?.. – даже не пытаясь скрывать растерянность, проронил Курт, и шарфюрер приосанился, изображая ректора академии святого Макария:
– «Это же Гессе», – тяжело вздохнул он легко узнаваемым полушепотом. – Отец Бенедикт предположил, что, коли уж ты так засуетился, стало быть, близится завершение расследования, в которое ты ввязался, что, в свою очередь, «означает много крови и необходимость в содействии». Ошибся он, я так погляжу, во всем – крови маловато, да и управился ты безо всякой поддержки… Третий ваш – в Хамельне?
– Да, – отозвался Курт жестко, мысленно скрипя зубами от развязной снисходительности шарфюрера и понимая, что бессилен повлиять на ситуацию. – В Хамельне. Хотя, возможно, он уже на пути в Кёльн – в повозке, крытой полотном. Мы справились без поддержки, это верно.
Вояка помрачнел, и Курт, развернувшись, отошел в сторону, подавив желание унять угрызения добросовестного, как ни крути, служителя, сказав, что произошло это задолго до отсылки запроса и гибель следователя – не его вина. Пренебрежительное отношение всевозможных отделов и подотделов Конгрегации к oper’ам могло забавлять, пока реальность отстояла где-то вдалеке от вежливых перебранок и колкостей исподволь, но сегодня это высокомерно-панибратское похлопывание по плечу со стороны того, кто, строго говоря, прибыл в его распоряжение, раздражало, как никогда.
– Собачья работа, – вздохнул Курту вслед шарфюрер и, когда он резко развернулся, осекся, неловко пожав плечами. – Я пытался выразить соболезнование. Без задней мысли. Вышло скверно, признаю.
– Дайте лекаря к арестованному, – не ответив, распорядился Курт и, помедлив, договорил: – В церкви тело. Пообходительней с ним.
– С трупом? – уточнил тот, и он нахмурился:
– Что-то неясно?
– Как скажете, – невзначай сменив тон на неопределенно вежливый, кивнул шарфюрер. – Будем любезны и учтивы. Как вы сами? Может, сперва к вам лекаря?
– Обойдемся, – отрезал Курт и, перехватив его сумрачный взгляд, примирительно добавил: – Спасибо. Займитесь арестованным; возможно, у него треснуло ребро-другое или есть небольшое сотрясение.
– Споткнулся, бедняга? – вздохнул шарфюрер, и Курт мельком улыбнулся:
– Грязь, скользко… Бывает.
Тот понимающе ухмыльнулся в ответ и, развернувшись, зашагал к ожидающим распоряжений всадникам.
Опасения оказались напрасными – ничего, кроме крайней степени подавленности и некоторой нервозности, у плененного чародея обнаружено не было. Связь его рассудка с реальностью, однако, восстанавливалась медленно и натужно, хотя, как выразился осмотревший его эскулап, «положительная динамика имеется и прогрессирует», посему ко времени грядущего допроса в Друденхаусе Кёльна Бернхард «должен быть уже в состоянии изъясниться относительно связно».
В сопровождение до Хамельна, куда, разминувшись с группой, направились представители собственно Друденхауса, Курт выпросил одного из бойцов; шарфюрер, помявшись, выделил двоих и, предваряя искреннюю попытку выразить благодарность, довольно язвительно заметил, что действует в собственных интересах, не желая, случись какая напасть, вставать перед судом за то, что не уберег ценного служителя. Поняв, что краткое перемирие нарушилось, Курт лишь вздохнул и промолчал, не желая затевать распрю снова.
Временным штабом Конгрегации спонтанно и само собою стало обиталище отца Юргена; во дворе топтались люди и кони, натыкаясь тут и там на нерасторопных служек, в комнатах гробовая тишина перемежалась внезапной суматохой, кажущейся в этом доме сегодня неприлично громкой. Единственным, кто сохранял некоторое подобие если не хладнокровия, то хоть какого-то достоинства, был тот самый не по возрасту сообразительный паренек, раздающий указания и встречающий направленные на него взгляды приезжих служителей Конгрегации с предупредительным спокойствием. Завидев Курта, он встал поодаль, совершенно явно ожидая, пока господин дознаватель освободится, сдав на руки друденхаусским стражам упакованного чародея, и майстер инквизитор, подумав, махнул рукой, подзывая его к себе.
– Я вижу, у тебя ко мне дело, – без обиняков заметил Курт; служка кивнул.
– Да, майстер инквизитор, – согласился он и, покосившись на стоящего подле них Бруно, уточнил: – К вам одному. Это не моя затея, я исполняю повеление отца Юргена. Как я понимаю из того, что вы явились одни, душа его ныне с Господом, а на этот счет я имею некоторые указания, касающиеся вас.
– Да… – не зная, на какие из услышанных слов отвечает, проронил Курт. – А ты и не удивлен, я вижу.
– Отец Юрген, оставляя нас, сказал, что возвращения его ожидать не следует, – с плохо скрываемой печалью в голосе отозвался служка. – Что Господь ведет его по последней стезе. Уходя, он оставил некоторые распоряжения касательно всевозможных дел, а также одно нарочитое – относящееся к вам лично, майстер инквизитор. Если вы имеете свободную минуту, я попросил бы вас проследовать за мною; надолго я вас не задержу.
– Веди, – коротко приказал Курт, когда служка, умолкнув, уставился на него с почтительным ожиданием, и тот, коротко склонив голову, указал на дверь столь шумного сегодня дома, пойдя впереди гостя.
Курта паренек усадил у стола, введя в одну из комнат, попросив подождать и выйдя прочь. Комнатушка была та самая, – тесная, но уютная, хотя и плохо протопленная, – где два дня назад он возражал тихому провинциальному священнику, убежденно заявлявшему о непременной полезности его в предстоящем деле, сам говоря не менее уверенно, что не молитва будет их основным союзником…
Служка возвратился спустя минуту; приблизясь, осторожно и медленно, словно боясь разбить, протянул гостю короткие деревянные четки.
– Отец Юрген хотел, чтобы я, когда вы возвратитесь, передал вам это с его благословением, – произнес он тихо. – А кроме того, кое-что на словах. Он просил сказать вам так: «быть может, вы просто не пробовали?». Наверняка вы знаете, о чем речь.
Несмотря на явно прозвучавший в последних словах вопрос, Курт остался сидеть молча, глядя на темные бусины с невнятным чувством, отчего-то не осмеливаясь протянуть руку и принять. Выждав полминуты тишины, служка бережно положил четки на стол и, отступив, вышел, оставив его наедине со смятенными мыслями.
Над завещанной ему реликвией Курт просидел долго, прежде чем решиться взять; отчего-то казалось, что, лишь он коснется отполированного пальцами дерева – и оно рассыплется или исчезнет или же произойдет нечто, чего и вовсе невозможно предположить и предугадать, нечто столь же невероятное, как и все, что вершилось в эти дни. На шумный двор он вышел, спрятав нежданный дар и еще не решив, говорить ли о нем подопечному, пребывающему в неестественно приподнятом расположении духа после того, как обнаружил, что с рук вместе с грязью мертвой деревни смылись и следы ожогов, оставленные призрачными щупальцами…
Бруно обнаружился за оградой, у ворот, оберегаемых хмурым стражем, косящимся недовольно на его собеседницу, в которой Курт признал сестру подопечного. На сей раз ее пухлое лицо не выражало прежней радости или хоть тени приязни – она говорила сжато, отрывисто, недобро глядя на брата из-под плотно сведенных бровей; Бруно слушал молча, смотря поверх ее головы в сторону. Барбара толкнула его в грудь, топнув ногой, тот ответил – коротко и негромко, и она, помрачнев еще более, выговорила что-то через силу. Мгновение тот смотрел себе под ноги, не отвечая, и, наконец, кивнув, развернулся и двинулся прочь от нее, во двор священнического жилища. «Бруно!» – остерегающе прикрикнула та, сделав шаг вперед, и страж у ворот шагнул тоже, преграждая ей путь.
– Я верно понял? – уточнил Курт, когда подопечный приблизился; тот вздохнул, пожав плечами:
– А чего ты ждал? Меня поименовали двуличным мерзавцем, тебя – фанатиком-кровопийцей, изувером и зверем из моря…
– Такое слышу впервые, – отметил Курт с усмешкой, Бруно невесело улыбнулся в ответ.
– В конце концов, – договорил помощник, – мне было сказано, чтобы, пока я имею хоть какое-то отношение к Инквизиции, я не смел вновь являться «в этот дом». Сегодня Карл – бедняжка и безвинно претерпевший, а я – зарвавшийся и одуревший от власти сукин сын.
– «Одуревший от власти»… – повторил Курт, зябко передернув плечами. – Бр-р! Даже самому́ страшно, как представлю тебя одуревшим от власти… Ты разъяснил ей, как на самом деле выглядит ситуация?
– К чему, – отмахнулся Бруно. – Лишь напрасно потрачу слова, время и нервы, а к прочему, не вижу, за что я должен оправдываться?.. Не дождусь, когда вернемся в Кёльн; что-то это болото начинает меня топить.
– Что же так о родных пенатах, – укорил Курт, косясь на солнце и просчитывая, насколько велика вероятность того, что в путь возможно будет тронуться уже сегодня.
* * *
Повозку с телом Ланца они нагнали следующим вечером, за час пути до Кёльна, и оставшийся путь проделали вместе.
Стражи на воротах были как следует устрашены Знаком и высказанным всерьез посулом повырывать языки, если тем вздумается распространяться о подробностях увиденного. По темным, уже предутренним улицам крытую полотном телегу и коня с прикрученным к седлу Бернхардом вели как можно тише, запугав попутно также два магистратских патруля, которые, невзирая на состоявшуюся казнь мясника, обвиненного в убийствах, продолжали блюсти следование комендантскому часу.
Керн, чем нимало не удивил своего подчиненного, обнаружился в Друденхаусе и даже бодрствующим; в темный двор позади двух башен он спустился сам, не дожидаясь, пока Курт поднимется к нему, и остановился в стороне от укрытой повозки, не приближаясь к бесформенному тюку, лежащему в ней. Во мраке ночи, освещенной лишь двумя факелами в руках стражей, лицо обер-инквизитора различалось скверно, и нельзя было сказать, какие чувства отображаются на нем, да и отобразилось ли хоть одно вообще.
– Я не написал об этом в донесении, – через силу складывая слова, произнес Курт, не решаясь приблизиться. – На ситуацию с требуемой подмогой это не влияло, а само по себе… Я подумал – новость слишком существенная, чтобы – через голубя…
– Как? – тихо и коротко спросил Керн, не обернувшись к нему; Курт вздохнул:
– Это… это сложно, Вальтер, вот так, двумя словами… Если вы готовы выслушать, я готов отчитаться.
– Хорошо. – Керн отступил на шаг назад, устало опустив голову, и лишь тогда стало видно в случайном отсвете факела, как заострились скулы и плотно стиснулись сухие губы. – Отчитаешься. Сперва лишь один вопрос, Гессе: дознание – закончено?
– Да, – кивнул он, неловко махнув рукой в сторону связанного чародея, которого сгружали с седла друденхаусские стражи, и начальник шумно вздохнул:
– А это главное, верно?.. Ну, что ж, за мной. Оба.
По темным лестницам Курт шагал тяжело, и виной тому была не только все более одолевающая его болезнь, обложившая хрипящее горло и кружащая голову. В шагах подопечного позади него слышалась неуверенность; в прямую спину перед собою он смотрел напряженно, заранее пытаясь подобрать слова, которые сейчас надо будет произнести, и не находя нужных, правильных, так и застыв в молчании, когда Керн, усевшись за стол, кивком велел начинать.
– Я помогу, – вздохнул обер-инквизитор, когда Курт, переступив с ноги на ногу, отвел взгляд, так и не выговорив ни слова, и он поморщился, ощутив себя допрашиваемым, чье молчание пытается пробить докучливый инквизитор. – Начнем с главного вопроса. Как и при каких обстоятельствах был убит Дитрих?
– Застрелен, – тихо выговорил Курт, по-прежнему не поднимая взгляда; тут Керн кивнул:
– Застрелен… Кем?
Курт прикрыл на миг усталые глаза, собираясь с духом, понимая, что сейчас и здесь то, что надо сказать, прозвучит дико, нелепо, и отозвался – еще тише, так, что едва расслышал себя самого:
– Мной.
В тишине прошло всего мгновение, в полной, ненарушимой, могильной тишине, которая разбилась, когда Керн, поднявшись, скрипнул по каменному полу ножками стула, рывком отодвинув его прочь и едва не опрокинув.
– Повтори, – потребовал он мерзлым, как зимний пруд, голосом, и Курт, решившись, вскинул голову, глядя начальнику в глаза, похожие сейчас на два стальных острия, замерших в готовности пронзить на месте…
Керн слушал его все так же стоя, не двигаясь и не отводя взгляда, долгие, вытянувшиеся, как медовая нить, минуты, не перебивая, не задавая больше вопросов и не подстегивая, когда он замолкал, собирая нужные слова; лишь когда Курт умолк, тот медленно перевел взгляд на безгласного подопечного и коротко бросил:
– Хоффмайер все время был рядом?
– Да, – откликнулся Бруно настороженно, и Керн кивнул:
– Хорошо. Стало быть, свидетель есть…
– Если вам угодно, – уже почти спокойно, почти хладнокровно проговорил Курт, – то запрос в попечительское отделение о проведении расследования касательно моих действий я могу написать сам.
– Почти утро уже, – не ответив, произнес обер-инквизитор, обернувшись на миг в окно, и кивнул на дверь: – Ты, смотрю, болен; у тебя есть пара часов на отдых. После чего навестишь Марту и сообщишь ей о смерти Дитриха.
– Почему я? – выдавил Курт, едва не растеряв с таким трудом обретенную уверенность, понимая вместе с тем, что услышал ожидаемое, услышал то, чего не услышать не мог.
– Потому что именно ты знаешь, что она должна знать, – отрезал Керн, и он вновь уронил взгляд в пол. – Потому что ты был рядом. После зайдешь к бюргермайстеру и скажешь ему, что виновник смерти его сына арестован; это тоже твое обязательство. Пускай следит за своими солдафонами и не допускает ненужных слухов, пока мы не закончим допрос и не определим дату казни, если она будет. К тому времени, как возвратишься, я подыму Густава, и начнем работать. Ясна моя мысль, Гессе?
– Да, Вальтер, – откликнулся он тихо, и тот кивнул на дверь:
– Исполняй. Хоффмайер? – окликнул Керн, когда оба развернулись, уходя, и указал подопечному в пол напротив своего стола. – Задержись.
Курт замер на мгновение, стиснув ручку двери в ладони, чувствуя, что Бруно смотрит ему в спину, ожидая то ли дозволения, то ли поддержки, слова или взгляда; не обернувшись, он тяжело толкнул створку и вышел в коридор, прикрыв дверь за собою осторожно и тихо. Все верно, подумал он с неестественным спокойствием, уходя от рабочей комнаты начальства прочь. Керн должен, обязан и желает допросить единственного, кто может подтвердить его слова; вряд ли рассказу подопечного будет больше доверия, но, как верно было замечено, Бруно – его свидетель. Свидетель его защиты. Единственный свидетель…
Несмотря на уже настоящую горячку, почти валящую с ног, уснуть Курт не сумел; эти дырявые, урывками, передышки, что выпадали на его долю в последние дни, отдохновения не приносили, лишь обостряя копящуюся усталость в мышцах, нервах и рассудке, посему время до рассвета он провел в часовне Друденхауса, сидя на скамье в первом ряду, где, бывало, Ланц перетряхивал его душу во времена сомнений и смятения. Четки отца Юргена лежали в ладони удобно, словно хорошо подогнанное под руку оружие, но ни слова в разуме и памяти не рождалось, и он впустую перебирал деревянные бусины, пытаясь понять, вообразить, увидеть, что творилось в голове этого невзрачного старичка, чтобы достало силы совершить то, что было им совершено…
На исполнение своей миссии гонца Курт выбрался верхом, чтобы, во-первых, не переставлять и без того гудящие ноги, а во-вторых – поменьше встречаться взглядами с редкими прохожими просыпавшегося к трудам города, попадающимися ему на пути. Кроме того, так он лишал их возможности заговорить с ним; судя по отсутствию каких-либо следов разрушений и тишине, встретившей его в Кёльне, казнь мясника свое дело сделала, и горожане успокоились, однако мимо них не мог пройти незамеченным тот факт, что трое служителей Друденхауса покинули город в спешке, ночью и на несколько дней.
У домика Ланца он остановился неохотно, отвернувшись от какой-то проходящей мимо торговки или, может, напротив – хозяйки, выбравшейся за более дешевыми закупками пораньше, чувствуя, что та остановилась и смотрит на него, возможно, решая, стоит ли подойти к майстеру инквизитору и разузнать, что творится в городе, Друденхаусе, а заодно – и в нем самом. Наконец, за спиной зазвучали шуршащие быстрые шаги, стихнув за поворотом улицы, и Курт не в первый раз уже возблагодарил собственную репутацию, саму собой сложившуюся среди обитателей Кёльна – бесцеремонный и нетерпимый молодой выскочка, чье внимание лучше не привлекать по доброй воле…
Марта открыла на его стук тотчас же – судя по выражению ее осторожно-радостного лица, в этот раз позабыв посмотреть в окно. Увидя Курта на пороге, она нерешительно улыбнулась, всматриваясь в него пристально, взыскательно, пытаясь понять, какие слова сейчас услышит, готовясь к любым и желая тех, что ждала все эти несколько дней…
– Здравствуй, Марта, – выговорил он поспешно, торопясь заговорить первым, не позволить ей задать вопрос здесь, на пороге, на глазах у улицы, пусть сейчас и безлюдной. – Я могу войти?
– Конечно, – спохватилась хозяйка, спешно собирая еще не уложенные волосы, отступив и пропустив его внутрь, и, затворив дверь, указала на все тот же табурет, где обыкновенно он сидел в этом доме. – Присядь; вы ведь только с дороги, верно? Господи, да ты горишь весь…
– Нет, я… мы вернулись ночью, – покривившись от ее слов, выговорил Курт с усилием, не трогаясь с места и не глядя Марте в глаза, но видя, как ее лицо теряет приветливость, обретая выражение еще неявного напряжения и неуверенности. – Знаешь… Лучше присядь ты.
Та побелела, вдохнув со стоном, и, закрыв глаза, вжалась спиной в створку двери, не сразу сумев разлепить стиснутые губы.
– Он… – донеслось из этих губ чуть слышно. – Да?
Курт отвел глаза.
– Да, – ответил он так же тихо, не глядя в ее сторону, и та тихо охнула, закрыв лицо ладонями. – Марта…
– Не бойся, я не буду плакать, – глухо донеслось из-под дрожащих пальцев, и она, медленно опустив руки, прошла к столу – прямая, как мачта, и смертельно бледная, осторожно, словно боясь сломаться пополам, опустившись на табурет. – Не при тебе. Это мерзкое зрелище – рыдающая вдова.
Курт поморщился, словно от удара под колени, не зная, что сказать на это; не ответив, так же медлительно, опасливо приблизился, выложив на стол снятое с пальца сослуживца кольцо, и, стараясь ненароком не звякнуть и не привлечь к нему внимания, установил в отдалении, на самом краю, кошелек Ланца.
– Вот… – неловко проговорил он, отступив; Марта протянула руку, коснувшись кольца, и отвернулась, глядя в стену напротив.
– Как это случилось? – спросила она ровно.
– В перестрелке, – отозвался Курт не сразу. – Он… Он отвлекал арбалетчика на себя, чтобы дать мне возможность подобраться к главному… Прости, – выдохнул он, чувствуя, что на грани того, чтобы выложить все как есть. – Моя вина.
– Нет, это хорошая смерть, – возразила она уверенно, на миг подняв сухие, как камень, глаза. – Он бы другой не желал. А тот, кто сделал это? Он… сумел уйти?
– Нет, уйти он не сумел, – ответил Курт, выдержав этот взгляд почти спокойно. – Поверь мне, тому, кто это сделал, было плохо. Очень плохо.
– Это хорошо, – холодно улыбнулась Марта, лишь сейчас опустив голову, и лишь теперь в ее голосе прошла крохотная трещина. – Спасибо, что пришел сам, Курт, а не прислал курьера. Тебе, я вижу, не слишком приятно сейчас находиться здесь, а я… Я тоже предпочла бы, чтобы подле меня никого не было. То, что сейчас начнется, не для сторонних глаз; как я уже говорила – скверное это зрелище, голосящая вдова… Иди. Спасибо еще раз.
– За что? – возразил он тоскливо и, отступив к двери, повторил: – Прости…
Марта не ответила, не повернула к нему головы, только улыбнулась вскользь, и от этой улыбки стало зябко, словно на открытой дороге посреди заснеженного поля; ничего более не говоря, Курт толкнул дверь спиной и тихо выскользнул за порог.
* * *
Разговор с бюргермайстером прошел легче – в беседе с ним не приходилось мяться, пряча глаза; на ненужные темы можно было, ничего не опасаясь, попросту не говорить, изредка оправдываясь тем, что упомянутая информация является тайной следствия, либо же отсылать Хальтера с вопросами к Керну. Главное обстоятельство, упрощающее все, заключалось в том, что игнорировать чувства этого человека и его отношение к происходящему Курту было проще в гораздо большей степени, и когда ситуация вновь опасно близко подходила к сетованиям, можно было подпустить в голос суровости, в слова – жесткости, что на корню пресекало любые попытки выплакаться на майстере инквизиторе. Бюргермайстер, и без того не ожидавший от него ни сострадания, ни сочувствия, подобное поведение воспринимал как должное; как и весь город, Хальтер полагал, что поступить, как поступил майстер Гессе, завершая свое прошлое дознание, мог лишь бессердечный сухарь, а посему надеяться на его понимание в подобных делах не следует. Столь скоро и прочно укоренившийся миф о себе Курт предпочитал не развенчивать – детали и тонкости его истинного отношения к миру, себе самому и окружающим этих самых окружающих не касались, а жить так, как сложилось на сей день, было проще всем.