Текст книги "Демоническая женщина"
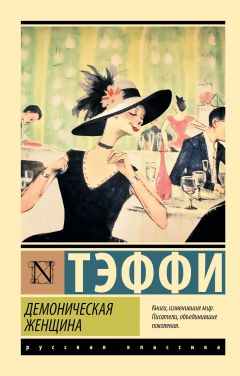
Автор книги: Надежда Тэффи
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Тонкая психология
Вере Томилиной
До отхода поезда оставалось еще восемь минут.
Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно.
Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию донжуан чистейшей воды. Развозя по всем городам Российской империи образцы оптических стекол, он, в сущности, заботился только об одном – как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды или удовольствия.
В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два-три, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы и взглянет.
И как взглянет! Это трудно объяснить, но… словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол, он глядел совершенно иначе.
С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников.
А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил тоже.
«Ну эта уже не забудет! – думал он. – И эта имеет себе тоже! Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума».
При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности. Результаты получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был раз двенадцать бит в разных городах и различными предметами.
В Лодзи машинкой для снимания сапог, в Киеве палкой, в Житомире копченой колбасой, в Конотопе (от поезда до поезда) самоварной трубой, в Чернигове сапогом, в Минске палкой из-под копченого сига, в Вильне футляром для скрипки, в Варшаве бутылкой, в Калише суповой ложкой и, наконец, в Могилеве запросто кулаком.
Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя, следуя природным инстинктам, должен был бы делать как раз противоположное.
Едва выглянул пан Гуслинский в окошко, как мимо по платформе быстрым шагом прошла молодая дама очень привлекательной наружности, но прошла она так скоро, что даже не заметила томного взора и не успела погибнуть.
Пан Гуслинский высунул голову.
«Эге! Да она преспокойно торопится на поезд! Поедем, следовательно, вместе. Ну что ж – пусть себе!»
Судьба дамы была решена. Когда поезд двинулся, пан Гуслинский осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошелся по вагонам.
Хорошенькая дама ехала тоже во втором классе с толстощеким двенадцатилетним кадетиком. На Гуслинского она не обратила ни малейшего внимания, несмотря на то, что он расшаркался и сказал «пардон» с чисто парижским шиком.
На станциях пан Гуслинский выходил на платформу и становился в профиль против окна, у которого сидела дама. Но дама не показывалась. Смотрел на Гуслинского один толстый кадет и жевал яблоки. Томные взгляды донжуана гасли на круглых кадетских щеках.
Пан призадумался:
«Здесь придется немножко заняться тонкой психологией. Иначе ничего не добьешься! Я лично не люблю материнства в женщине. Это очень животная черта. Но раз женщина так обожает своего ребенка, что все время кормит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это дает мне ключ к ее сердцу. Нужно завладеть любовью ребенка, и мать будет поймана».
И он стал завладевать.
Купил на полустанке пару яблок и подал в окно кадету:
– Вы любите плоды, молодой человек? Я уж это себе заметил, хе-хе! Пожалуйста, покушайте, хе-хе! Очень приятно быть полезным молодому путешественнику!
– Мерси! – мрачно сказал кадет и, вытерев яблоко обшлагом, выкусил добрую половину.
Поезд двинулся, и Гуслинский еле успел вскочить.
«Я действую, между прочим, как осел. Что толку, что мальчишка слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Преспокойно пересяду».
– Пардон! У меня там такая теснота! Можете себе представить – я пошел на станцию покушать, возвращаюсь, а мое место преспокойно занято. Может быть, разрешите? Я здесь устроюсь рядом с молодым человеком, хе-хе!
Дама пожала плечом:
– Пожалуйста! Мне-то что!
И, вынув книжку, стала читать.
– Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружимся. Вы далеко едете?
– В Петраков, – буркнул кадет. Гуслинский так и подпрыгнул.
– Боже ж мой! Да это прямо знаменитое совпадение. Я тоже преспокойно еду в Петраков! Значит, всю ночь мы проведем вместе и еще почти весь день! Нет, видали вы что подобное!
Кадет отнесся к «знаменитому совпадению» очень сухо и угрюмо молчал.
– Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю! Со мной всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами?
Кадет молчал. Дама читала. Гуслинский задумался.
«Зачем она его родила? Только мешает! При нем ей преспокойно неловко смотреть на меня. Но погоди! Сердце матери отпирается при помощи сына!»
Он откашлялся и вдохновенно зафантазировал:
– Так вот, был со мной такой случай. В Лодзи влюбляется в меня одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж ее врывается ко мне с револьвером и преспокойно кричит, что убьет меня из ревности. Ну-с, молодой человек, как вам нравится такое положение? А? Тем более что я был уже почти обручен с девицею из высшей аристократии. Она даже имеет свой магазин. Ну, я, как рыцарь, не мог никого компроментовать, в ужасе подбежал к окну и преспокойно бросаюсь с первого этажа. А тот убийца смотрит на меня сверху! Понимаете, ужас! Лежу на тротуаре, а сверху преспокойно убийца. Выбора никакого! Я убежал и позвал городового.
Дама подняла голову:
– Что вы за вздор рассказываете мальчику! – И опять углубилась в чтение.
Пан Гуслинский ликовал.
«Эге! Начинается! Уже заговорила!»
– Я есть хочу! – сказал кадет. – Скоро ли станция?
– Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая остановка, и я сбегаю вам за бутербродами. Вот и отлично! Вы любите вашу мамашу? Мамашу надо любить!
Кадет мрачно съел восемь бутербродов. Потом Гуслинский бегал для него за водой, а на большой станции повел ужинать и все уговаривал любить мамашу.
– Ваша мамаша – это нечто замечательное! Если она захочет, то может каждого скокетничать! Уверяю вас!
Кадет глядел удивленно бараньими глазами и ел за четверых.
– Будем торопиться, молодой человек, а то мамаша, наверное, уже беспокоится, – томился донжуан.
Когда вернулись в вагон, оказалось, что мамаша уже улеглась спать, закрывшись с головой пледом.
«Эге! Ну да все равно, завтра еще целый день. Отдала сына в надежные руки, чтоб он себе лопнул, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарность. Хотя вот уже этот жирный парень объел меня на три рубля шестьдесят копеек. Ложитесь, молодой человек! Кладите ноги прямо на меня! Ничего, ничего, мне не тяжело. Штаны я потом очищу бензином. Вот так! Молодцом!»
Кадет спал крепко и только изредка сквозь сон лягал пана Гуслинского под ложечку. Но тот шел на все и задремал только к утру.
Проснувшись на рассвете, вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то пропала. Встревоженный Гуслинский высвободился из-под кадетовых ног и высунулся в окно. Что такое? Она стоит на платформе и около нее чемодан… Что такое? Бьет третий звонок.
– Сударыня! Что вы делаете? Сейчас поезд тронется! Третий звонок! Вы преспокойно останетесь!
Кондуктор свистнул, стукнули буфера.
– Да мы уже трогаемся! – надрывался Гуслинский, забыв всякую томность глаз.
Поезд двинулся. Гуслинский вдруг вспомнил о кадете:
– Сына забыли! Сына! Сына!
Дама досадливо махнула рукой и отвернулась. Гуслинский схватил кадета за плечо:
– Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что же это такое! – вопил он.
Кадет захныкал.
– Чего вы меня трясете! Какая мамаша! Моя мамаша в Петракове.
Гуслинский даже сел.
– А как же… а эта дама? Мы же ее называли мамашей, или я преспокойно сошел с ума! А?
– Гм… – хныкал кадет. – Я не называл! Я ее не знаю! Это вы называли. Я думал, что она ваша мамаша, что вы ее так называете… Я не виноват… И не надо мне ваших яблок, не на-а-да…
Пан Гуслинский вытер лоб платком, встал, взял свой чемодан.
– Паскудный обжора! Вы! Выйдет из вас шулер, когда подрастете. Преспокойно. Св-винья!
И, хлопнув дверью, вышел на площадку.
Кулич
В конторе купца Рыликова работа кипела ключом. Бухгалтер читал газету и изредка посматривал в дверь на мелких служащих.
Те тоже старались: Михельсон чистил резинкой свои манжеты; Рябунов вздыхал и грыз ногти; конторская Мессалина – переписчица Ольга Игнатьевна – деловито стучала машинкой, но оживленный румянец на пухло трусящихся щеках выдавал, что настукивает она приватное письмо, и к тому же любовного содержания.
Молодой Викентий Кулич, три недели тому назад поступивший к Рыликову, задумчиво чертил в счетной книге все одну и ту же фразу: «Сонечка, что же это?»
Потом украшал буквы завитушками и чертил снова.
Собственно говоря, если бы не порча деловой книги, то это занятие молодого Кулича нельзя бы было осудить, потому что Сонечка, о которой он думал, уже два месяца была его женой.
Но именно это-то обстоятельство и смущало его больше всего: он должен был, поступая на службу, выдать себя за холостого, потому что женатых Рыликов к себе не брал.
– Женатый норовит как бы раньше срока домой подрать, с женой апельсинничать, – пояснял он. – Сверх срока он тебе и пером не скребнет. И чего толку жениться-то? Женятся, а через месяц полихамию разведут либо к бракоразводному адвокату побегут. Нет! Женатых я не беру.
И Кулич, спрятав обручальное кольцо в жилетный карман, служил на холостом основании.
Жена его была молода, ревнива и подозрительна, и потому телефонировала ему на службу по пять раз в день, справляясь о его верности.
– Если уличу, – грозила она, – повешусь и перееду к тетке в Устюжну!
И весь день на службе томился Кулич, терзаемый телефоном, и писал с завитушками на всех деловых бумагах: «Сонечка, опять!», «Сонечка, что же это?»
– Опять вас вызывают! – говорил Рябунов таким тоном, точно его оторвали от спешной и интересной работы.
Он сидел к телефону ближе всех и благословлял судьбу, отвлекавшую его хоть этим развлечением от монотонной грызни ногтей.
– Опять вас, Кулич!
Кулич краснеет, спотыкаясь, идет к телефону и говорит вполголоса мимо трубки первое попавшееся имя: «А! Это вы, Дарья Сидоровна!» – затем продолжает разговор во весь голос.
Мессалина свистит громким шепотом:
– Дарья Сидоровна? Это, верно, какая-нибудь прачка.
– Зачем ты звонишь, – блеет в трубку смущенный Кулич. – Что? Верен?.. Боже мой, котик, да с кем же?.. Ведь я здесь на службе… Что? Посмотри на комоде. И я тоже… безумно. Ровно в половине восьмого!
Он вешает трубку и идет на место, стараясь ни на кого не смотреть, и в ужасе ждет нового звонка.
– Опять вас! О господи! – вздыхает Рябунов.
– А, Антонина Сидоровна! – грустно радуется Кулич мимо трубки.
– Сидоровна? – свистит Мессалина. – Видно, сестра той, хи-хи!
– Нет, пока еще не догадались, – говорит Кулич. – Но будь осторожна, котик, милый! Не звони так часто!.. Одну тебя! Одну!
Через час звонит Амалия Богдановна.
– Наверное, акушерка, – догадывается Мессалина.
– Не звони ко мне больше! – умоляет через час Кулич какую-то Ольгу Карповну. – Бога ради! Ты знаешь, что одну тебя… но я занят… не звони, котик, умоляю! Ты выдаешь себя!
Анне Карловне, позвонившей часа через полтора, он коротко сказал:
– Люблю!
И повесил трубку.
И каждый день повторялась та же история, развлекавшая, занимавшая и возмущавшая всю контору.
– Какая-нибудь несчастная попадется ему в жены! – возмущалась Мессалина.
– Это уже не донжуан, а сатир, – кричал Рябунов, остро завидовавший куличовским успехам.
– Это язва на общественной совести, – вставлял любящий чистоту манжет Михельсон. – Это ждет себе возмездия. Ей-богу! Я вам говорю.
– И кто откроет глаза несчастным жертвам! – ахала Мессалина.
– Этих глаз слишком много, чтобы можно было их открывать, не затрачивая времени! Я вам говорю! – усердствовал Михельсон.
Рыликов тоже сердился.
– Отчего к вам никогда не дозвонишься? – кричал он. – Какой у вас там черт на проволоке повис?
После одного исключительного по телефонным излияниям дня, когда Кулич обещал восьми женщинам, что поцелует их ровно в половине десятого, вся контора решила пожаловаться начальству.
– До бога высоко, что там, – говорил Михельсон. – Рыликов все равно с нами рассуждать не станет. Пойдемте к Арнольду Иванычу.
Пошли к бухгалтеру, рассказали всю правду.
– Он нам мешает работать. Все звонки и звонки, никак не сосредоточишься, – говорил Рябунов, избранный депутатом. – Мы хотим работать, каждый человек любит работать, а они отрывают. Но мы бы не обижались, если бы тут серьезные дела. Нет! Но нас, главным образом, возмущает безнравственное поведение вышеизложенного субъекта.
Красноречие докладчика широкою волной захлестнуло слушателей.
Бухгалтер засопел носом, Михельсон молодцевато подбоченился («Я вам говорю!»), Мессалина разгорелась и подумала: «Рябунов, ты будешь моим!»
– Этот нижеподписавшийся человек, ниже которого, по-моему, и подписаться нельзя, – продолжал Рябунов, – меняет акушерку на прачку и двух прачек между собой. Мы не можем больше молчать и выслушивать его гнусные нежности, которые он сыплет в трубку, как горох. Мы не желаем играть роль какого-то общества покровительства животным страстям…
– Ей-богу! – воскликнул Михельсон. – Я вам говорю!
– И он их всех зовет «котиками», – вспыхнула Мессалина.
– О? – удивился бухгалтер.
Он сопел, чесал в бороде карандашом и наконец сказал:
– О-о-о! Если действительно мешал акушерка с два прачка, то я завтра с ним поговорю. Пфуй! Я поговорю… котика!
Кулич весь задрожал, когда на другой день утром бухгалтер поманил его к себе и запер двери.
«Чего волноваться? – успокаивал он себя. – Верно, просто жалованья прибавит…»
– Милостивый господин! – торжественно начал бухгалтер. – Я любопытен знать, с кем вы ежечасно говорите по телефону?
Кулич застыл.
– Ради бога! Арнольд Иваныч! Не подумайте что-нибудь… как говорится… жена. Клянусь вам! Это все самые различные персонажи своей надобности!..
Бухгалтер посмотрел строго:
– Милостивый господин! Вы знаете, как называется ваше поведение? Оно называется: притон безнравственности. Вот как!
Он полюбовался смущением Кулича и продолжал:
– Вы мешаете акушерку с две прачки. Я, знаете, ничего подобного никогда не видел! Ни в людей, ни в животном царстве. Этого потерпеть нельзя! С сегодняшнего дня вы уже не служащий в конторе, а сатир без должности!
– Меня оклеветали! – стонал Кулич. – Я мог бы доказать… если бы судьба не заткнула рот!..
– Электричество лгать не может! – загремел бухгалтер. – Вся контора слышала! Пфуй! Вот ваше жалованье… Руки вам не подаю… Прощайте! Идите к тем, кого вы определяли котиками, господин развратный сатир!
Кулич бомбой вылетел на улицу, и едва захлопнулась за ним дверь, как в конторе зазвонил телефон.
– Вам Кулича? – ликовал Рябунов в трубку. – Кулича нет. Фью! Уволен за разврат. Виноват, сударыня, должен вам открыть глаза. Не сетуйте на меня. Каждый джентльмен, если только он порядочный человек, сделал бы на моем месте то же самое. Я чувствую, что говорю с одной из жертв развратного Кулича… Да, да! Целые дни он проводил в беседе с дамами прекрасного пола. Что? По телефону. Нежничал до бесстыдства… Называл котиками всех… и акушерку тоже… Вас, верно, тоже?.. Да… Вы только не волнуйтесь… На глазах у всех… вернее, на ушах, потому что слышали… назначал свидания… Что?.. Что-о?..
– Господа, – сказал он, обернувшись к товарищам. – Эта мегера, кажется, плюнула прямо в трубку… Ужасно неприятно в ухе…
– Наша миссия выполнена! – торжествовал Михельсон. – Ей-богу! Теперь они уже разорвут его на части. Я вам говорю.
Антей
Сколько ни хлопотал Иван Петрович, отпуск ему дали только в начале июля.
Семья давно уже была в деревне, и Иван Петрович рвался туда всей душой.
Сидя в вагоне, он набрасывал в записной книжке:
«Я жажду коснуться земли. Припасть к ней всей грудью. Впитать в себя ее соки и, как Антей, набравшись от этого общения новых сил, кинуться снова в битву».
«Битвой» Иван Петрович называл хлопоты о переводе на другое место с высшим окладом.
Так размышляя, подъехал он к последней станции. Было уже часов одиннадцать вечера.
На платформе ждал его высланный навстречу кучер.
– А барыня? А барышня? Захворали, что ли? Отчего не встретили?
– Оне уж спать полягали! – ответил кучер равнодушно.
– Как странно! Так рано! Встают, верно, в шесть… – Сел в коляску. Всю дорогу строил планы новой жизни.
– Вставать, конечно, не позже шести. Хорошо иногда и встретить солнце с женой и свояченицей… Прямо с постели – в воду. Вода в речке холодная… бррр… На весь день юн и свеж. Затем стакан молока с черным хлебом и верховая прогулка. Если дождь, надел плащ и – марш. Затем легкий завтрак. Потом работать, работать, работать! Перед обедом игра с детьми в крокет. После легкого обеда прогулка совместная с детьми. Организуем пикники… Потом легкий ужин, чтение и на боковую. Роскошь! Сколько за это время прочтешь, как поправишь организм!
До усадьбы не больше шести верст. Приехали быстро.
– Не беспокойте барыню. Пусть спит.
Устроился в кабинете. Выпил чаю. Заснул.
Утром вскочил, взглянул на часы. Половина двенадцатого. Ну, да ведь не начинать же с первого дня. Пусть пройдет дорожная усталость.
Оделся, пошел в столовую.
Вся семья за столом.
Пьют чай, едят ветчину.
– Это что же? Легкий завтрак?
– Нет. Чай пьем. Только что встали.
– Что же это с вами?
– Да так.
– Отчего вчера не встретили?
– Это после ужина-то да шесть верст трястись! Съешь кусочек ветчины. До обеда еще полтора часа.
– Так рано обедаете?
– Нельзя позже. Не дотерпеть.
Иван Петрович посмотрел пристально на жену, на свояченицу, на детей. И больше ничего не спрашивал.
Лица у всех были круглые, глаза припухшие, рот в масле. Жевали бутерброды, а глазами намечали себе новые куски на блюде.
– А вы запаслись каким-нибудь чтением?
Жена сконфузилась.
– Есть «Нива». От покойной тетушки.
– «Нива»?
– Ну да. Чего же тут особенного? Вот Лиза «Сергея Горбатова» читает.
– Гм… Может быть, пойдем пройтись?
– Теперь не стоит. Сейчас накрывать будут. Лучше после обеда.
– После обеда жарко, – сказала свояченица.
– Ну, вечером. Торопиться некуда.
– Ну, ладно. Я после обеда с детками в крокет поиграю. Необходимо хоть маленькое физическое движение.
Дети посмотрели на него припухшими глазами недоверчиво.
Потом сели обедать. Ели серьезно и долго. Говорили о какой-то курице, которую где-то ели с какими-то грибами. В разговоре приняли участие и дети, и нянька. Потом горничная, служившая еще покойной тетушке, очень живо и ярко рассказала, как тетушка фаршировала индюка.
Иван Петрович злился. Изредка пытался заводить разговор о театре, литературе, городских новостях. Ему отвечали вскользь и снова возвращались к знакомой курице и тетушкиному индюку.
Сразу после обеда он ушел в свою комнату разбирать вещи. Стал просматривать книги, в глазах зарябило так странно и приятно. Затем пришла откуда-то очень симпатичная курица, села на диван и закурила папиросу.
Разбудил его голос жены, предлагавшей ему раков.
– Каких раков? Почему вдруг раков?
– Очень просто. Сейчас принес мужик, и я велела сварить. Лиза любит.
Иван Петрович, еще плохо соображая, пошел в столовую. Там сидела свояченица и ела раков.
– Ну, как это можно? – возмутился Иван Петрович. – Ведь только что обедали!
Но сел за стол и загляделся. Свояченица ела раков артистически. Надломит клешню, обсосет, очистит шейку, поперчит, оботрет корочкой скорлупку…
Три минуты смотрел он, на четвертой не выдержал. С тихим стоном протянул руку и выбрал рака покрупнее…
В пять часов пили чай, ели простоквашу, ягоды и варенец. Отдыхали на балконе, ужинали поплотнее и отправились спать.
– Завтра, после верховой езды, поиграю с детками в крокет, – сказал Иван Петрович, зевая.
Вечером занес в книжечку:
«У меня мало общего с женой. Из хрупкого существа, полного интеллигентных порывов, она обратилась в жвачное животное. Я чувствую себя, как связанный орел, у которого висят на крыльях жена, дети и своячени…»
Он заснул.
* * *
Конец июля.
– Чего вы тянете с обедом? – ворчит Иван Петрович. – Уже без четверти час! Ни о чем не подумают.
– Ты бы успел еще выкупаться, – говорит жена. – Сам же кричал, что хочешь купаться.
– Покорно благодарю. По этой жарище в гору переть! Купайся сама. Что же, обед скоро? Прикажи пока хоть яичницу сделать, что ли. Не могу я голодать. Мне это вредно. Я поправляться приехал, а ты меня как лошадь тренируешь. Где Лиза?
– «Ниву» читает.
– Опять с книгой! Безобразие. Летом отдыхать надо, поправляться, а не над книгой сохнуть. Начитается зимой.
Хоть бы раков принесли, что ли. После обеда и закусить нечем будет. Ни о чем не подумают.
– После обеда ты, кажется, хотел пикник устроить, – говорит жена.
– Пикник? Кто ж в такую жару пикники устраивает. Для пикника нужен серенький денек. Осенью хорошо. Да мне, кроме того, еще работы много. Нужно еще вещи разобрать. До сих пор не успел, все некогда было.
– А вечером, папочка, в крокет будем играть?
– Ну, чего пристали? Видите, отцу некогда. Уж не маленькие. Пора бы понимать.
– Глаша, горничная, говорит, что у тетушки жила кухарка, которая умела печь новогородские лепешки, – рассказывает жена.
– Да что ты? Неужели? И вкусные?
– Очень. С картофелем, с морковкой.
– И с морковкой? Быть не может! И что же, с маслом или как?
Вечером Иван Петрович заносил в книжку: «…буквально ничего общего. Где ее любовь? Куда девалась ее страсть? Третий день сижу без простокваши! Не может понять, что я – труженик и должен, как Антей, коснувшись земли, набраться новых сил».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































