Текст книги "Демоническая женщина"
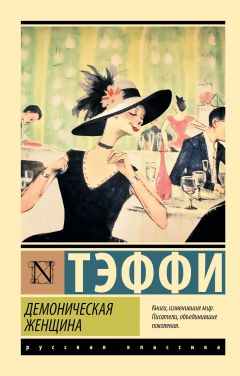
Автор книги: Надежда Тэффи
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Бестактность
Всем давно было известно, что профессору Суровину живется плохо. Но так как жил он в Чехословакии, а главные эмигрантские благотворители, как известно, живут в Париже, то особых забот о профессоре никто и не проявлял.
При случае говорили:
– Да, да, бедный! Подумать только, европейское имя, и так не суметь устроиться.
– Мировое имя, а не европейское, – поправлял собеседник. – Мировое, а в жизни балда. Смотрите, наш Парнюков: имени ровно никакого, а открыл лавочку сибирских продуктов и живет так, что дай бог всякому. И детей воспитывает, и жене изменяет…
Но, в общем, судьбой Суровина интересовались мало.
Иногда появлялись его статьи в газетах. Печатали их по «скучным» дням – в понедельник или среду. Они были тяжелы и нудны. Никто в них ничего не понимал. А бедный автор говорил жене:
– Унижаюсь. Пишу для хлеба пустенькие, забавные статейки, на вкусы широкой публики. Это унизительно.
Так и пропадал бедный Суровин. Пропадал, пока не встретился с ним заехавший случайно из Парижа шустрый журналист Зюзя. Собственно говоря, фамилия журналиста была другая, но знали его все под прозвищем, неизвестно откуда взявшимся, – Зюзя.
Зюзя делал турне по славянским странам. Читал лекции «О русской эмиграции». Тезисы: Герцен. Новейшие танцы. Моральное людоедство. Секс апил и современная техника. Духа не угашайте. Куда и почему?
С профессором Суровиным Зюзя встретился у какого-то общественного деятеля. Суровин, редко из дому выползавший, за эмигрантской жизнью не следивший, понял только, что Зюзя читает лекции, а так как от безденежья давно утратил всякую любознательность, то и не расспрашивал – какие такие лекции, а просто решил, что Зюзя профессор, и стал звать его коллегой.
Зюзе это очень понравилось. Он попросил у Суровина портрет, который и поместил в своей газете, сопроводив душераздирающей статьей о положении великого русского гения в изгнании. Газета по счастливой случайности выпустила статью с «досадными опечатками», которые произвели на читателей сильное впечатление.
«Нас встретила супруга профессора, старуха вся в репьях».
Что значило это «в репьях», потом, за утерей рукописи, даже и дознаться не могли. Но читатели ужаснулись. В их воображении мелькнул облик старого лохматого пса, бродящего по мусорной свалке. Их сердце дрогнуло.
«Тяжелая нужда гнетет и давит. Нужно помочь, пока дух еще мреет».
Слово «мреет» не было опечаткой. Зюзя пустил его для эффекта. Слово, надо правду сказать, редкое и в простом нашем обиходе ненужное. Оно тоже потрясло читателя.
– Да что же это такое! – воскликнула одна добрая дама. – Такой гениальный человек, а в газетах пишут, что уж совсем истлел.
Вот это самое «мреет» и возымело густые последствия. Решили пригласить профессора в Париж, устроить ему банкет и чествование, а собранные с банкета деньги выдать ему на руки.
Составили комитет. Председательствовала Алина Карловна Зенгилевская, статная красавица с полузакрытыми выпуклыми глазами и полуоткрытым ртом, обнажавшим длинные зубы, розовые от слинявшей на них губной краски.
Зазвонили телефоны. Забегали дамы, предлагая билеты. Спрятались поглубже жертвы, намеченные в покупатели. К банкету готовились речи и жареная утка.
Словом, все, как всегда.
Дамы, принадлежащие к интеллигентским кругам и их перифериям, спрашивали друг у друга лично и по телефону:
– Что вы наденете? С рукавами? С кофточкой?
– Черное? Голое?
– А что шьет себе Лиза?
Словом, и это все, как всегда.
Потом специальная комиссия занялась рассадкой по местам. Так, чтобы мужья и жены друг друга не видели. Чтобы ни левые, ни правые не оказались центральнее по отношению друг к другу. Враги политические и враги личные чтобы не помещались рядом. Чтобы разведенные супруги не оказались за одним столом, а флиртующие, наоборот, чтобы не очутились за разными.
Время течет, и события притекают.
Притек и день банкета.
Профессора Суровина поселили в отеле, и каждый день кто-нибудь звал его на завтрак, еще кто-нибудь на обед. Звали посидеть в кафе, возили в театр, на лекции, на заседания, на собрания, рвали на части. Бывали такие дни, что ему приходилось по два раза обедать.
– У вас был Суровин? У нас был уже два раза, сидел очень долго и еще обещал.
– Ну конечно, был! Завтра мы везем его кататься. Какой удивительный ум!
– Гений! Чего же вы хотите?
– И так просто себя держит.
– Лена влюбилась в него до слез. Шьет себе новое платье. Хочет идти в монастырь, как тургеневская Лиза.
– А Зенгилевская воображает, что он ее собственность. Требует, чтобы он каждый день у нее завтракал.
Профессор Суровин замотался вконец. Пожелтел, отек, улыбался и с тоской думал – когда все это кончится и много ли для него очистится.
Банкет удался на славу. Ораторы, ограниченные тремя минутами, говорили не четверть часа, и был даже такой момент, когда двое, – правда, на разных концах зала, так что друг друга не слышали, – говорили одновременно. Никто, впрочем, на это обстоятельство внимания не обратил, потому что все разговаривали друг с другом, перекидывали записочки, и всюду, как говорится, царило непринужденное веселье, особенно на том углу стола, где сидели поэты, строчившие на обратной стороне меню юмористические стишки насчет бедного Суровина.
Но Суровин ничего не замечал. От речей у него гудело в голове. Потом какая-то борода его целовала, а в бороде дрожал налипший кусок яичницы. И все аплодировали ему и целующейся бороде. И потом снова кто-то кричал, что он гений и все гордятся, и даже грозил пальцем, повернувшись на северо-восток.
Домой в отель отвез его какой-то восторженный юноша и кричал, хотя можно было уже говорить тихо, что завтра полгорода пойдет провожать гения на вокзал. Но гений умолял его передать всем, что он умоляет не беспокоиться, так как не знает, с каким поездом он уедет.
Ему не хотелось, чтобы его провожали, так как ехать ему придется в третьем классе и на дорогу купить булку с сыром, потому что денег на него набрали только пятьсот четыре франка, остальное ушло на утку. Эти проводы, речи, Зенгилевская в соболях у вагона третьего класса и его булка в бумажке и фибровый чемоданишко со сломанным замком. Ни к чему все это. И он умолял.
Ночью проснулся он от сильного озноба. Болела голова и тошнило. И мучил странный вопрос, – вопрос – откуда у целовавшей его бороды взялся кусок яичницы? За банкетом яичницы не было. Неужели с завтрака осталось? Так, значит, весь день и щеголял?
И тут же, сообразив всю вздорность мучившего его вопроса, понял, что он, пожалуй, не на шутку расхворался.
– Вы слышали, – сказала мадам Крон Алине Зенгилевской. – Вы слышали, что наш гениальный Суровин все еще в Париже?
– Да что вы? – спокойно удивилась Зенгилевская. – Почему же он не уезжает?
– Он, говорят, болен. Лежит уже четвертый день.
– Как это странно! – недовольно пробормотала Зенгилевская. – Кто-нибудь его навещает? Я занята, да и нельзя же всю жизнь с ним возиться.
– Нужно будет сказать Лене, если она еще не ушла в монастырь, ха-ха!
Зенгилевская молча показала розовые зубы и закрыла рот.
– Лиза? Алло! Алло! Говорят, Суровин болен и не уехал. А?
– Как глупо! Он так живо растратит все, что ему собрали. Это прямо бестактно.
– Ужасно глупо.
– А кто-нибудь его навещает?
– Не знаю. Я, во всяком случае, не пойду. Как-то неловко: все ему кричали: «Гений, гений!», а тут вдруг взял да и заболел. Ни с того ни с сего.
– А откуда же узнали?
– Массажистка, которая мадам Крон массирует, живет в том же отеле.
– По-моему, лучше всего делать вид, что мы ничего не знаем. Я думаю, ему и самому неловко, что он так…
– Ну, конечно. Такой великий и мировой, и вдруг лежит, и, пожалуй, еще у него живот болит.
– Как все это вышло глупо. Нет, действительно, надо делать вид, что мы не знаем. Такая бестактность!
Профессор Суровин, ослабевший и осунувшийся, сидел на кровати, подпертый подушками. Добродушная курносая толстуха крутила ложкой в кастрюле, варила на спиртовке кашу.
– Поешьте, поешьте моей мурцовочки, – приговаривала она. – Вам теперь силы нужны. Ишь как вас подвело. Вся мускулатура разбрякла. Я вам ужо спину помассирую. Можете мне доверить. Моя специальность.
– Скажите, – начал Суровин, запнулся и покраснел. – Скажите, вы ведь никому не проболтались, что я болен?
– Ни-ни. Зачем мне болтать? Никому не сказала.
– А то, вы понимаете, они бы все сюда нагрянули, а я такой слабый, и вообще, и даже вон рубашка рваная. А они бы нагрянули.
– Ну конечно, нагрянули бы, – пряча улыбку, поддакивала массажистка. – Уж тут бы целыми депутациями принимать бы пришлось. Весь бы банкет сюда припер и с цветами, и с венками.
– Какой ужас, какой ужас! – бормотал профессор, закрывая глаза. – Ради бога, вы никому!
– Да уж будьте покойны, батюшка. Уж за это я отвечаю.
– А… а откуда эта каша? – вдруг встревожился он. – Кто прислал кашу?
– Кашу? А это, как вам сказать… Каша от отеля полагается. Кто, значит, заболеет, тому каша.
– Спасибо. Я верю вам.
Он облегченно вздохнул и дрожащей рукой взял ложку.
Ресторанчик
– Ну, что ж, зайдем сюда, – нерешительно спросил Костя Шварц. – От добра не ищи добра.
– Что-то подозрительно дешево, – сказал Миша Товаринов. – «Русско-французская кухня, хор цыган во главе со знаменитым Петей Закатовым, веселье до утра», и за все четырнадцать франков!
– Ну, да чем мы рискуем. Будет плохо – уйдем. Все равно сегодня деваться некуда.
Пошли.
Бывает в Париже среди самых пышных и нарядных улиц со сверкающими зеркальными окнами, с широченными тротуарами, с пылающими всецветными электрическими рекламами, вдруг где-нибудь сбоку юркнет маленькая, темненькая, совсем паршивая улочка, с развороченной мостовой, с узкими, сбитыми панельками, с деревянным забором, в щели которого дует из огромного пустыря.
Вот на такой именно улочке и помещается русско-французский ресторан «Spasibo-Merci». Входит клиент через маленькое бистро, где у стойки задумчивые славянские души сосредоточенно и уныло пропускают по рюмочке и по другой.
Настроение не франко, а чисто русское.
Услуживают гостям русские женщины, натуры сплошь инфернальные. Как теперь называют, «вампы».
На них открытые платья, у них прически а-ля Марлена Дитрих, длинные, бьющие по щекам цветные серьги, прически – последний крик киномоды и голые грязные локти.
Презрительно покачивая бедрами, слегка отвернув лицо, с зажатой в зубах папироской, несет вамп тарелку борща.
– Ариадна Николаевна! – вскакивает с места заказавший блюдо клиент. – Ариадна Николаевна, ручку!
Он щелкает невидимыми шпорами и, схватив ручку, держащую тарелку, целует ее, выворачивая борщ на скатерть.
За кассой сидит русская женщина постарше, посолиднее, покурносее, натура деловитая и прозаическая. Лицо у нее без прикрас, «как мать родила», прическа, как бог послал. Она не то патронша, не то участница в деле, не то метрдотель. Глаз у нее хозяйский и окрик распорядительский.
– Дамочки, дамочки! Вон мусью у окна третий раз хлеба спрашивает. Дайте мусью черного хлеба. На кого записать огурчики? Дамочки, кто брал огурчики?
Дамочка, бравшая огурцы, не сразу откликается. Она склонилась над стойкой, она подает хрен к студню и говорит трагическому шоферу:
– Зачем? Разве вы еще верите в чувство? Вот вам хрен.
Лицо у нее надменно, улыбка горька. Он медленно поднимает на нее глаза, хочет что-то сказать, но она быстро отворачивается. Так быстро, что зеленая стеклянная серьга щелкает ее по переносице.
– Бонжур, мусью, – приветствовала дама за кассой Костю и Мишу. – Вам в ресторан? Дамочки, проводите мусьев в ресторан.
Одна из дамочек отдернула драпировку и впустила гостей в столовую. Там было холодно и пусто.
В углу, сдвинув два столика вместе, сидели люди в шалях и позументах и с большим усердием ели.
Испуганный лакей метнулся откуда-то из глубины и бурными жестами приветствовал гостей.
– Куда прикажете? В уголок? Здесь удобный столик? Или поближе, сюды-с?
– Что же это, мы одни? – сказал Костя Шварц, недовольно оглядываясь.
Лакей тоже оглянулся, точно он здесь и не был.
– Еще рано-с, – сказал он.
– Да в котором же часу у вас обедают? – спросил Миша Товаринов.
– Да знаете, кто как-с. У нас вообще а-ля карт, так что всю ночь по желанию.
– Как так а-ля карт? – обиделся Костя. – У вас же меню по четырнадцать франков?
– Это-с, знаете ли, только по воскресеньям.
– Так ведь сегодня же как раз воскресенье.
– То есть, виноват, по четвергам. Я здесь давно, так что, виноват, спутал.
– Черт знает что такое, – проворчал Костя. – Ну, все равно, раз уж зашли – что у вас там а-ля карт?
– Все, что угодно-с. Седло бекаса, яблоко розмарин, груша императриц, борщок с дьяблями, волован.
– Покажите-ка карту… Нну и цены! Что же это у вас за цены? Дешевле двенадцати франков ничего нет?
– Это… ночные цены-с.
– Да какая же теперь ночь, без четверти восемь?
– Разрешите, спрошу хозяина.
Он схватил карту и юркнул за драпировку.
– Что за ерунда? – удивлялся Миша Товаринов. – Уйдем лучше подобру-поздорову.
Лакей вернулся.
– Хозяин говорит, что ввиду сезона можно сделать скидку, на котлеты.
– В жизни ничего подобного… – проворчал Костя. – Ну, давайте котлеты.
За это время цыгане отъели, вытерли рты бумажками и уперлись глазами в гостей.
Цыган было четверо. Три дамы и один кавалер. Очевидно, этот самый «знаменитый Петя».
Петя был пожилой, обрюзгший господин. Щеки его отвисли и потянули книзу нижние веки. Веки обнажили розовую полоску под зрачком, как у сенбернарского пса. Усы у Пети были густо начерчены. В общем же, он был определенный и несомненный блондин.
Из дам две были молодые, пухлые и унылые. Третья – старуха с желтыми клавишами длинных зубов, типичная старая гувернантка.
Лакей вернулся с блюдом.
При виде котлет цыгане встрепенулись. Петя взмахнул гитарой, и гувернантка, оказавшаяся запевалой, тряхнула головой и неожиданно завела басом:
Хорош мальчик уродился,
За цыганкой волочился!..
Выговаривала, словно действительно по-гувернантски распекала какого-то мальчика.
Хор подхватил.
Лакей подал графинчик кислятины.
Петя расправил плечи и шагнул вперед.
– Не вздумайте только петь «Чарочку»! – взмолился Костя. – Не этой же бурдой…
– Прикажете шампанского? – услужливо спросил лакей.
– К черту! – мрачно ответил Костя. – Что мы, какие-нибудь идиоты или самоеды? Будем сидеть в пустом зале и пить шампанское!
– Что ты плетешь? – удивился Миша. – Когда же самоеды сидят в пустом зале, да еще пьют шампанское?
– В таком случае разрешите на минуточку к вам подсесть? – сделав любезное лицо, спросил Петя и, передав гитару одной из молодых певиц, подвинул стул и сел.
– Мне, видите ли, знакомо ваше лицо, – обратился он к Мише. – Не бывали ли вы на собраниях религиозно-философского общества?
В это время портьера, отделявшая столовую от каких-то внутренних помещений, слегка раздвинулась и обнаружила две головы: круглую, черную, на короткой шее с голубым галстуком, и продолговатую, серую, на длинной шее с черным галстуком. Головы посмотрели на Мишу, потом на Костю, потом перемигнулись и скрылись.
– В наш век упадка религиозного чувства, – продолжал Петя.
Да пусть туман колышется!
Пусть ги-итара слышится,
Не мешайте, ах, да не мешайте мне сегодня жить! —
рявкнула цыганка.
– Религиозного чувства, – невозмутимо продолжал цыган Петя. – Между прочим, – перебил он сам себя, – верите ли вы в загробную жизнь?
Он подкрутил усы и ждал ответа.
Но Миша ответить не успел, потому что подошедший к нему лакей сказал:
– Рамодан Ласипедович очень извиняются, просят вас прийти к ним.
– Кто такой? – удивился Миша.
– Рамодан Ласипедович, хозяин. Они здесь, вни-зу-с, я проведу-с.
Миша развел руками и пошел.
Лакей придержал занавеску и, указывая дорогу, стал боком спускаться по винтовой, очень скверно пахнущей лестнице куда-то вниз.
Там, в подвале, около незакрывающейся двери в уборную, между ящиками с пустыми бутылками, стоял облупленный деревянный стол. За столом, ярко освещенные висевшей на стене лампочкой без абажура – прямо ампулой на шнурке, сидели два господина, головы которых Миша уже видел в разрезе занавески: круглую черную и длинную серую.
Владелец серой головы тотчас вскочил, раскланялся и вышел. Владелец черной усмехнулся чрезвычайно любезно и, протянув руку, сказал:
– Очень, очень рад. Рамодан Ласипедович Габлук. Имел удовольствие встречать вас у покойного… забыл фамилию, память мне часто изменяет. Я и сына его хорошо знал, тоже теперь покойного. Всех этих покойных отлично… Да вы, пожалуйста, присядьте. Я сейчас прикажу шампанского.
– Простите! – пробормотал Миша. – Но меня там ждут, я с приятелем.
– Этт! Успеете еще. Тут же гораздо уютнее. Ну, на минутку.
Миша в недоумении сел.
– Вот смотрю я на вас, на молодежь, – сокрушенно-мудрым, совершенно не шедшим к нему тоном заговорил Габлук. – Смотрю и думаю: «Почему они тратят деньги на рестораны, вместо того чтобы их зарабатывать на этом же ресторане, ха?»
– Ничего не понимаю, – честно признался Миша. – Почему вдруг такое отеческое попечение?
– Ну, так я скажу проще, – тоном доброго малого продолжал Габлук. – Я скажу так: «Ресторан на полном ходу ищет компаньона». Ха? Что вы на это скажете?
– Да мне-то какое дело?
– Как какое дело?! – почти с негодованием воскликнул Габлук. – Почему вы можете тратить деньги на ерунду, а не можете положить их в дело?
В эту минуту с блаженно удивленным лицом быстро скатился по лестнице владелец серой головы.
– Клиенты, – громким шепотом просвистел он. – Пятеро! По-видимому – англичане!
– Врете! – радостно удивился Габлук. И тотчас вскочил.
Миша, опередив его, бросился к лестнице.
– Заплатил? – спросил он Костю. – Бежим скорее!
«Англичане» с недоумением озирались и что-то говорили вполголоса.
Миша ясно расслышал:
– Это черт знает что такое!
Или, может быть, это ему показалось?
Международное общество
«Международное общество» – это, не правда ли, наводит на мысль о спальных вагонах? Но речь идет совсем не о спальных вагонах, хотя нечто общее и можно было бы найти. Например, уснуть там могли бы далеко не все, а только люди привычные. Но не будем на этом останавливаться.
О международном обществе, которое я имею в виду, заговорила первая мадам Ливон. Это ее идея.
– Довольно нам вариться в своем соку! – сказала она. – Ведь все то же самое и те же самые. Пора, наконец, вспомнить, что мы живем в Париже, в международном центре. Зачем нам киснуть в этом заколдованном кругу, в этом эмигрантском гетто, когда мы можем освежить свой круг знакомства с новыми, может быть, чрезвычайно интересными, с даже полезными людьми. Так почему же нам этого не сделать? Кто нам мешает? Мне, по крайней мере, никто не мешает. Я великолепно владею французским языком, муж знает немного по-английски, овладеть испанским – это уже сущие пустяки.
Так начался международный салон мадам Ливон.
То есть это была мысль о нем, зерно, всунутое в плодородную почву и быстро давшее росток.
Почвой этой оказался двоюродный бо-фрер самого Ливона – Сенечка. Сенечка знал весь мир, и для него ровно ничего не стоило собрать желаемое общество.
Ознакомившись с идеей мадам Ливон, он немедленно потребовал карандаш и бумагу и стал набрасывать план. План отчасти по системе патриарха Ноя.
– Англичан, скажем, два. Довольно? Американцев тоже два. Французов надо подсыпать побольше. Их раздобыть легче. Шесть французов. Три самца и три самки. Испанцев… сколько испанцев? А?
Считали, записывали.
– Экзотический элемент тоже должен быть представлен. Какие-нибудь креолы, таитяне, – вставила мадам Ливон.
– Можно и таитян. Это вам не Дубоссары. Здесь кого угодно можно найти. Хотите полинезийца? Я знаю одного журналиста-полинезийца.
– Ну, что же, отлично. Нужно все-таки человек сорок. Моя квартира позволяет.
– Полинезиец, наверное, сможет притянуть массу своих. С соседних островов, Канарских, Балеарских, Замбезе-Лиамбей или как их там. Тут в Париже ими хоть пруд пруди.
– Итальянцев надо.
– Ну конечно. Только, видишь ли, европейцев надо выбирать каких-нибудь значительных, знаменитых. Либо писателей, либо артистов, а то кому они нужны. Тогда как от человека из Замбезе ничего не требуется. Он уже потому хорош, что экзотичен. Ну, а если он при этом может еще что-нибудь спеть – так тогда дальше и идти некуда. Это был бы блестящий номер. Эдакий какой-нибудь канареец прямо с острова и вдруг поет свое родное, канарское. Или с Суэцкого канала и исполнит что-нибудь канальское.
– Ну, а кого из французов? – размечталась мадам Ливон. – Хорошо бы Эррио, как политическую фигуру. Потом можно артистов. Сашу Гитри, Мистангетт, Мориса Шевалье, несколько кинематографических – Бригитту Хельм, Адольфа Манжу, если они не в Холливуде. Приглашения, во всяком случае, пошлем, а там видно будет.
– Жалко, что умер Бриан, – сказал Сенечка.
– А что?
– Как что? Такой популярный человек мог бы привлечь интересную публику.
– Ну ничего. Будем базироваться на артистах. Теперь составим текст приглашений и закажем билеты.
Наметили день, тщательно выбрав такой, когда не было бы ни приема в каком-нибудь посольстве, ни какого-нибудь особо интересного концерта, ничего такого, что могло бы отвлечь интересную публику.
– Ну конечно. А как, по-твоему, можно, чтобы Саша Гитри что-нибудь разыграл? Например, вместе с Мистангетт. Это было бы оригинально.
– Шаляпина бы залучить. Покойную Анну Павлову.
– Ах, нет, только не русских, надоело.
Дело быстро налаживалось.
Назначили день, разослали приглашения.
«Первое международное общество любви к искусству просит вас оказать честь и т. д.».
На сиреневом картоне.
Заказаны сандвич и птифуры. Приглашен лакей Михайло, хотя и русский (он ведь не гость, не все ли равно), но говорящий по-французски не хуже парижанина и вдобавок очень вежливый – таких среди французов даже и не найти. Говорит «вуй-с» и «нон-с». Это редкость.
Насчет испанского языка дело не вышло. В хлопотах не успели им овладеть. А насчет английского обнаружилось нечто загадочное. Ливон на прямой вопрос бо-фрера Сенечки слегка покраснел и ответил:
– Конечно, научного диспута я поддерживать на этом языке не берусь, но объясниться в границах светского обихода всегда могу.
Но бо-фрер Сенечка этим не удовольствовался и попросил сказать хоть несколько слов.
– Я могу сказать, – пробормотал Ливон, – я могу, например, сказать: «хоу ду ю ду».
– А потом что?
– А потом уйду. Я хозяин. Мало ли у меня дел. Поздоровался с гостями, да и пошел.
– Ну, ладно, – согласился Сенечка. – Бери на себя англичан. С островитянами я расправлюсь сам.
Настал вечер.
Скрытые от взоров лампы разливали томный свет. Тонкое благоухание сандвичей и сдобной булки наполняло воздух. Граммофон плакал гавайскими гитарами.
Хозяйка, нарядная и взволнованная, улыбалась международной светской улыбкой.
Между прочим, здесь кстати будет отметить свойства светской улыбки. Это отнюдь не обыкновенная человеческая улыбка. Эта улыбка достигается распяливанием рта со сжатыми губами и совершенно серьезными и даже строгими глазами. Улыбка эта говорит не о радости или удовольствии, как обыкновенная человеческая улыбка. Она говорит просто: «Я – человек воспитанный и знаю, какую именно рожу надо корчить перед гостями светскому человеку».
Одни только японцы не умеют распяливать рта по-светски и изображают искреннюю улыбку и даже смех, что придает им откровенно идиотский вид.
Мадам Ливон усвоила европейскую технику и встречала гостей светской улыбкой.
Первым пришел господин густо испанского типа и молча тряхнул руку хозяину и хозяйке.
– Enchantée! – сказала хозяйка.
– Хабла, хабла! – крикнул хозяин и тотчас повернулся и убежал, делая вид, что его позвали.
Испанец вошел в гостиную, потянул носом и, поймав струи сандвичей, пошел к буфету.
Вторым пришел господин английского типа.
– Хоу ду ю ду? – воскликнул хозяин и убежал, делая вид, что его позвали.
Словом, все пошло как по маслу.
Англичанин вошел, оглянулся, увидел фигуру у буфета и молча к ней присоединился.
Затем пришел бо-фрер Сенечка и привел с собой корейского журналиста с женой, бразильянца с сестрой, норвежца и итальянца. Потом пришли три англичанки, и никто не знал, кто, собственно говоря, их пригласил. Англичанки были старые, но очень веселые, бегали по всем комнатам, потом попросили у лакея Михайлы перо и сели писать открытки друзьям.
Сенечка суетился и старался внести оживление. Но гости выстроились в ряд около буфета и молча ели. Точно лошади в стойле.
Пришла подруга хозяйки, Лизочка Бровкина.
– Ну что? Как? – спросила она.
– Enchantée! – томно ответила мадам Ливон и прошипела шепотом: – Умоляю, не говорите по-русски.
– Ах! – спохватилась Лизочка. – Et moi aussi enchantée avec plaisir.
И плавно пошла в гостиную.
– Мосье! – светски улыбаясь, сказала м-м Ливон Сенечке и отвела в сторону.
– Ке фер с ними? Ради бога! Ну, пока они еще едят, а потом что? И почему не едут артисты и государственные люди?
– Подожди. Надо же их перезнакомить. Вот, смотри, кто-то еще пришел. Подойди к нему и знакомь.
Новый представился. Он – японский художник Нио-Лава. Хозяйка подвела его к столу и, не давая времени схватить сдобную булку, на которую тот было нацелился, стала его знакомить. И вдруг произошло нечто странное. Произошло то, что испанский журналист, тот самый, которому хозяин сказал «хабла», взглянув на японца, уронил вилку и громко воскликнул:
– Оська! Ты как сюда попал?
– Неужели Моня Шперумфель? – обрадовался японец. – А где же Раечка?
Хозяйка старалась нервным смехом заглушить эту неуместную беседу.
В это время громкое «Хоу ду ю ду» заставило ее обернуться. Это сам Ливон ввел новую гостью.
– Американская поэтесса, – шепнул Сенечка. – Я сам ее пригласил. Пишет во всех нью-йоркских журналах. Мадам! Enchantée!
– Enchantée! – зафинтила хозяйка. – Пермете муа…
Но гостья, толстая, красная, скверно одетая, уставилась куда-то и, казалось, ничего не слышала. Хозяева и Сенечка смущенно проследили ее взгляд и с ужасом убедились, что уставилась она на лакея Михайлу.
– Господи! Что же это?
– Мишка! – закричала американка. – Михаил Андреевич! Да ты ли это?
– Вуй-с! – завопил Михайло и брякнул об пол поднос.
– Простите, – сказала американка по-английски. – Это мой первый муж. Теперь я за американцем.
И, обратясь снова к Михайле, крикнула:
– Да иди же сюда. Садись, поболтаем.
Подхватила его под руки и потащила на диван.
– Какой кошмар! Какой кошмар! – шептала хозяйка, сохраняя на лице судорожную светскую улыбку.
И вдруг отрадный голос Сенечки возгласил:
– Мосье Джумада де Камбоджа шантра ле шансон де сон пеи.
Очень смуглый господин подошел к роялю, сел, сыграл прелюдию, тряхнул головой:
Вдо-ль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Серый селезень плывет!
– Что это – сон? – шепчет мадам Ливон.
Нет, не сон. Выговаривает так отчетливо. Это не сон, это ужас. Голова кружится… туман… А это что? Одна из старых англичанок с бразилианской сестрой замахала платочком и поплыла серой утицей русскую, русскую…
– Сенечка! – шепчет мадам Ливон. – Сенечка! Я умираю…
Но Сенечка ничего не отвечает. Он выпучил глаза и слушает, как корейский журналист, до сих пор объяснявшийся только по-французски с явно корейским акцентом, говорит ему:
– Я сразу вспомнил, что встречался с вами. Не бывали ли вы случайно в Боровичах? У Костиковых? А? Сам-то я костромич. А? В Боровичах не бывали? У нас было лесное дело. А? В Боровичах?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































