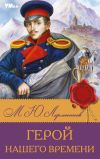Текст книги "Дух Времени"

Автор книги: Народное творчество
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
Тобольцев обедал у Засецкой, когда вернулась с почтамта швейцарка, бонна её детей. Мятлев посылал телеграмму дочери в Крым.
Софи продрогла. Она два часа стояла на улице, в хвосте, ожидая очереди. «Завтра забастуют и почта, л телеграф», – сказала она. Мятлев, бледнея, сорвал салфетку.
– Что же это такое, Андрей Кириллыч?
– Это революция, Сергей Иваныч… Что вас так удивляет?
Мятлев пробежался по комнате, держась рукой за сердце.
– Выпей капель! – мягко сказала ему Засецкая.
– Андрей Кириллыч… Я человек лояльный… Заподозрить меня в сочувствии всем этим забастовкам трудно… Но… как хотите… Надо ж этому положить конец!.. Ведь действительно, как я слышал, положение этих… pauvres diables[236]236
Чертовых бедняков (фр.).
[Закрыть] заставляет желать многого… Там будут колебаться, а мы будем банкротиться? Вы можете понять, чем грозит нам эта стачка?
– Барыня!.. Барыня!.. – вопила Марья, вбегая в спальню Катерины Федоровны. – Воду запирают… Водой запасайтесь…
– Господи Боже мой!.. Что это будет? Нянька!.. Где она?.. Соня, полей цветы!
– Да что вы, барыня? Какие цветы? – закричала нянька, вбегая с улицы, где она собирала сведения. – Пропади они пропадом!.. На самовары да на ванну Лизаньке надо накопить. Пеленок навалили цельное корыто. Где я возьму воды?
– Как? Даже на ванну Лизе не хватит?
– Да запирают же, говорят вам! У соседей ни крошки не нацедили… Давай ведерку, что ли, Марья!.. Аль оглохла?..
В доме поднялась суета. Наверху, у соседей, так же топотали, хлопали дверями. Озлобленные голоса женщин звучали на улице и на дворе…
– Черти проклятые!.. Они бунтуют, а мы тут без воды сиди… – У меня белья цельное корыто навалено… – А у нас дитё, у господ, в скарлатине. Ванны горячие делали… – Дармоеды!.. На кабак себе бунтуют… Знаем мы их!.. – Бают, ни дров не будет, ни мяса… – Да, нну!?
В четыре часа нянька примчалась из клуба-мясной.
– Что делается! Разносят лавку… Берите скорее мяса!.. Запасайте пуд… Завтра будете тридцать копеек за фунт платить…
– Да ты бредишь?
– Чего там?.. Сами сообразите… Дороги стали, подвоза нет… Бают, на всю Москву завтра на площадку сто быков выставят…
– Соня… Соня… Где она?.. Няня, найдите ее!..
– Да муки берите пуда два… Все булочные забастуют…
– Соня, ради Бога, бери извозчика, поезжай в лавки!.. Вот я тебе запишу… Боже мой!.. Где карандаш? Голова идет кругом… Ах, проклятые, проклятые!.. Дети без ванны… Лиза без пеленок… Бери, Соня, бумажку… я буду диктовать…
– Свечей-то, барыня, не забудьте, – напомнила нянька, просовывая голову в дверь и тщетно стараясь унять перепуганную криком проснувшуюся девочку. – Завтра, сказывают, вся Москва во тьме будет… Керосину пуда три захватите скорей!..
На улицах стояли взволнованные кучки обывателей. Лавки, осажденные толпой, бойко торговали. Керосиновые лампы и подсвечники раскупались, как никогда. По всем направлениям мчались извозчики, нахлестывая лошадей, развозя хозяек с кульками, спешивших домой до наступления сумерек. Эта тревога придавала городу необычайный вид.
Вечером явился Капитон.
– Электричество есть на улицах? – спросила его кумушка.
– Есть пока… Возвращаться буду, может, впотьмах…
– Господи! До чего мы дожили с вами?
– Да-да-с… Дела, сестрица, не хвали…
– У меня, представьте, воды нет Лизаньке на ванну!..
– Чего там вода!.. Головы бы нам свои уберечь!.. Слухи такие идут… Вы Андрею скажите, чтоб поменьше шлялся… Говорят, интеллигенцию избивать собираются…
Катерина Федоровна пошатнулась и села.
– Кто?!
– Я нарочно приехал предупредить… И детей на улицу не выпускайте… Я Серафиме пригрозил, что на замок её запру, коли побежит к портнихе…
– Да кто же это?.. Кто собирается?..
– Чёрная сотня…
Катерина Федоровна задрожала. Эти слова были ей не совсем понятны, и оттого ещё страшнее.
– Вы, сестрица, понаблюдайте за Андреем-то… Чтоб он сдуру в дружинники не записался… От него всё станется!..
– Какие дружинники?
Капитон объяснил.
– У нас молодежь-приказчики все записались… Разве их удержишь?
– Как это!.. Он будет рисковать собой! Уходить из дома, охранять других? А своих бросить на произвол судьбы?!
– То-то и оно-то… Палка о двух концах. И маменька за него страх как боится! Здесь надо каждому теперь дома сидеть да семейство свое оберегать… Я и Николая приструнил, чтоб он никуда эту неделю не таскался… – Уезжая, он показал ей заряженный револьвер. – Без него теперь никуда ни шагу!.. Потому – всюду оборванцы… Нахальные стали… Уж не просят, а требуют… Вчера один кулак мне показал… А вы, няня, на запоре живите… день и ночь… И на цепочке… Эх, крюк у вас какой плохой!.. Я вчера купил новый…
Катерина Федоровна не спала всю ночь. Муж вернулся в два. Она отперла ему сама.
– Да побойся ты Бога, Андрей! Где ты пропадаешь в такие дни?
– Я с револьвером, Катя, не бойся!..
Она разрыдалась. Он должен был ей поклясться, что не запишется в дружинники.
На другой день, в первом часу, Тобольцев внезапно, в пальто и с шапкой в руках, вошел в комнату матери.
– Что такое? Почему ты не в банке?
Он был бледен. Глаза его точно больше стали, и блеск их поразил ее.
– Маменька! Все учреждения закрыты.
– Да почему? Что такое?
– Это революция, маменька! Это – общая забастовка[237]237
Это – общая забастовка… – 7 октября в Москве началась политическая стачка на Московско-Казанской железной дороге, далее в мастерских Московско-Казанской, Московско-Курской И Московско-Ярославской железных дорог. Этим было положено начало Всероссийской октябрьской политической стачке, знаменовавшей начало нового этапа революции.
[Закрыть]… Эти дни отметит история. Обыватель поднялся, обыватель бастует… Мелкий чиновник, затравленный нуждою отец семейства, всю жизнь молчавший, всю жизнь глотавший унижения и таивший на Дне души обиду, – это он сейчас встал во весь рост и крикнул: «Довольно!» Маменька, это бунтуют не революционеры, а «униженные и оскорбленные». Пойдёмте на улицу! Не бойтесь! Никто нас не тронет. Посмотрите, что делается на бульварах! Какие лица, маменька! Пойдемте! Такие дни не повторяются… Вы пожалеете, если утратите этот миг!
Как околдованная, подчинялась Анна Порфирьевна. Под руку с сыном она вышла на улицу. Все внутри у неё дрожало, и даже голова тряслась… Они взяли извозчика и поехали в центр города. У бульвара они увидали необычайную картину. Гимназисты и реалисты старших классов шли стройной толпой с торжественными, серьезными лицами. На фуражках не было значков. Барышни кричали им что-то и махали платками. Разносчики с лотками, разинув рты, глядели им вслед. Одна торговка, повязанная большой шалью, спросила городового. Тот безнадежно махнул рукой и отвернулся.
– Что это, Андрюша? Куда это они?
– Товарищей снимать… Бастуют.
– Боже мой! Их изобьют… Дети-то зачем путаются? Их ли это дело? Ай-ай-ай! Как всё это… дико!
– Согласен, маменька… Революция – дело взрослых… А попробуйте-ка их удержать!.. Это – психическая зараза. А молодежь впечатлительна…
Все бульвары и улицы были запружены возбужденной и разношерстной толпой. На панелях не хватало места. Шли прямо по мостовой, пели песни. Рабочие, студенты, гимназисты, барышни – все переговаривались громко, трепетными голосами. В воздухе звенел молодой, жизнерадостный смех. Особенно много было женщин. Кидались в глаза какие-то фигуры юношей в куртках, высоких сапогах и огромных папахах на голове.
– Дружинники, маменька, – объяснил Тобольцев на её удивленный возглас. – Против чёрной сотни организуются…
Тобольцев отвез мать домой, а сам опять пошел бродить по городу, толкаясь в толпе, вбирая с ненасытной жадностью в себя все впечатления, чувствуя себя пьяным.
Вечером он с Соней был в Частной опере[238]238
Стр. 576 Частная опера – Театр Солодовникова на Большой Дмитровке.
[Закрыть]. И там настроение было – повышенное. Публика требовала без конца «Марсельезу» и подпевала оркестру.
В этот день Мятлев получив последнюю телеграмму от дочери из Севастополя. Всю почту везли на лошадях.
Мятлев приехал на другой день к Тобольцевым. Туда же, не сговариваясь, явились Капитон и Конкины. Катерина Федоровна давно заметила это тяготение к их дому и была этому рада. На людях не так было жутко.
– Спешим до ночи повидаться, – говорил Мятлев. – На миру и смерть красна… Электричества уже нет.
– Но газ ещё будет держаться…
– Долго ли? Помилуйте!
– Господа, что в университете делается! – С этим возгласом Засецкая вошла в гостиную.
– А тебя носит! Непременно нужно туда таскаться! – бросил ей Мятлев.
– Ах, Боже мой! Да ведь живой же я человек! Еду мимо… Что такое? Оказывается, там грандиозный митинг. Не хотят уходить, заперли ворота и строят баррикады…
– Час от часу не легче!..
«Там Таня, Марья Егоровна, Вера Ивановна, Наташа…»
Тобольцев взволнованно бегал по комнате.
Капитон говорил: «Хоть бы собака забежала в магазин! Всех словно ветром вымело!.. Это в разгар-то сезона!»
– А вы слышали о крахе фирмы Z? А читали, что разрывом сердца в Харькове умер Литвинский? – Тот самый? – Ну да… Да погодите! То ли ещё будет, если забастовка продлится ещё неделю!
– А почему бы ей не продлиться? – подхватила Засецкая.
– Господа! А что нынче в газетах пишут? Чего на завтра ждут? Неужели это правда?! – крикнул Конкин.
– Ты бы, Андрей, мать-то успокоил… Не бегал бы по ночам.
– Ах, оставь, пожалуйста! Не могу же я дома засесть!
– Вот, вы слышите?.. Что я могу с ним поделать?! – с отчаянием крикнула Катерина Федоровна.
А Мятлев, весь багровея, говорил Тобольцеву.
– Черт возьми! Такое положение вещёй не может же тянуться! Ведь это приостановка всех жизненных функций в стране!.. Попробуйте задержать дыхание, вам грозит паралич сердца… Коли нужны реформы, надо их дать!..
– И очень просто! – сочувственно подхватил Капитон. – Мы, купцы, теряем каждый день, теряем больше других… А за что? Разве мы бунтовали? Это ценить надо…
Засецкая с очаровательной улыбкой говорила Конкину.
– Cher monsieur Paul! Ваш брат Nicolas дал мне двести рублей в пользу стачечников… Пожертвуйте и вы… Мы кормим их жен и детей… Если вы не сочувствуете этому движению…
– О, как можно в этом сомневаться! – Конкин, покраснев, схватился за бумажник и положил радужную на розовую ладонь, пахнувшую цветом яблони.
– Ах, я знаю!.. Многие их осуждают, потому что забастовка бьет всех по карману…
– Да… Но дети-то и жены ничем не виноваты! – подхватила Катерина Федоровна и пристально поглядела на Капитона. Тот закряхтел и, густо покраснев, вынул четвертную. Засецкая рассмеялась, продолжая держать вверх обе ладони.
– Мало, господа!.. Кладите больше… У нас иссякли уже все ресурсы… Сергей Иванович, не дашь ли и ты?
– Благодарю покорно! Давно ли дал тысячу?
– Мы сидим без сладкого уже неделю… Это желание детей… От их имени я внесла эту сумму в стачечный комитет… Прибавьте, господа… Отказывать стыдно!..
Конкин вынул ещё радужную. Засецкая послала ему поцелуй. «А вы?» – обратилась она к Капитону.
– Н-ну и дама! – вздохнул он и прибавил ещё четвертную. – Вы и так уж с Андреем маменьку ограбили…
– То маменька!.. Не твой карман…
– А ты помолчи! – Глаза Капитона сверкнули. – Оболванил старуху-мать, а теперь за нас принимаешься! Статочное ли дело маменьке в столовой торчать да забастовщикам щи разливать?
– Отчего же? – мягко вмешалась Засецкая. – Она это делает в моем доме.
– Жалуюсь вам на Андрея Кириллыча, милая барынька, – примирительно засмеялся Мятлев. – Хозяин в моем доме de facto он! Не успел я третьего дня проснуться, как они уж с Ольгой весь зал под столовую заняли… У всех знакомых посуду и столы обобрали… Орудуют… Детей этих, баб, рабочих нагнали… Запах!.. Вы не можете себе представить!? Самый демократический… Ха!.. Ха!..
– Ах, как ты лжешь!.. За клевету дай мне сто рублей!.. Слышишь?.. Сейчас же!..
Действительно, Тобольцев был у матери и сказал: «Маменька! Мы теперь кормим детишек безработных… Если б Лиза была жива, я сделал бы её своею правой рукой… В память её вы не должны мне отказывать… Вы и нянюшка поедете сейчас к Засецкой…»
Анна Порфирьевна растерянно твердила, что ничего не сумеет. Но Тобольцев знал, что делать… Вовлечь Анну Порфирьевну в этот кипящий поток будет лучшим средством излечить её от тоски по Лизе.
Вечером Тобольцев пошел на квартиру Майской, сделавшуюся как-то незаметно главным сборным пунктом. Густой мрак царил всюду, где вчера ещё горело электричество. Бульвары издали казались лесом. Привычные линии улиц и контуры домов колебались как бы в этой жуткой мгле, изменчиво двигались словно… Исчезали там, где их привыкли видеть; вырастали там, где их не ждали, как это бывает во сне или в бреду. Высоко вверху горел красный огонек, и его было видно издали. Это был свет лампады у образа Страстного монастыря. На углу площади отблески гаснувшего костра не могли осилить отовсюду надвигавшейся безмолвной и зловещей тьмы… «Москва восемнадцатого века…» – думал Тобольцев.
Потапов был у Майской. Там же сидели Бессоновы, Кувшиновы, Зейдеман с женой… Взволнованно обсуждали события… Все шло с такой головокружительной быстротой, волна общественного возбуждения дала такой огромный всплеск, что все были выбиты из колеи. Руководить событиями было вне власти партий… В этом приходилось сознаться.
– Но ведь в этой-то стихийности – вся ценность данного момента! – крикнул Тобольцев… Майская слушала молча, не сводя больших наивных глаз с лица Потапова. Её трогательная любовь к нему ни для кого уже не была тайной. Сам Потапов не называл ещё настоящим именем это беззаветное чувство к нему. Но её нежность и обволакивающую заботу он принимал, как умирающий от удушья предлагаемый ему кислород… Майская сумела создать вокруг него культ Лизы: собрала её записочки и письма у знакомых и не уставала говорить о ней. Её портрет в масляных красках, копию с карточки, в художественной раме повесила в комнате Потапова и с ним вместе часами молча глядела на нее… К Майской он прибежал инстинктивно после той ужасной ночи, когда в гробу увидал, вместо Лизы, чужую и страшную красавицу с зеленоватым лицом. Здесь и остался… Майская и сейчас помнит эту ночь… Как дрогнул звонок… Как она подумала: обыск – и, накинув блузу, пошла отворять сама. Помнит она его лицо, его глаза, глядевшие и не видевшие ее. Пустые и белые. Тогда все стало ей понятно… «Николай Федорыч!.. Голубчик!» – крикнула она и, забыв обычную робость перед этим человеком, обняла его, как ребенка мать… и просидела с ним всю ночь на диване, слушая его бред, его безумные крики… гладя его голову, бившуюся на её плече. Он заснул одетый, заснул, как камень, на этом диване, и у неё же слег больным… И лежал две недели в глубочайшем маразме… Его лечили и навещали. Но если б не нежность Майской, бросившей свое дело, чтоб отдаться уходу за Потаповым, он покончил бы с собой. Только ласка любящей женщины спасла его. Теперь все это знали.
Тобольцев с особым чувством глядел сейчас в это милое личико Майской. Она сохранила эту ценную индивидуальность для всех… И если вчера голос Стёпушки снова затрепетал силой и дерзостью воскресшего борца – этим он всецело обязан ей одной… «Какая сила любовь!.. Какая великая творческая сила! – думал он. – Стёпушка принимает ее, как дань… Все они здесь уже мысленно соединили их… Они судят по себе – они, не понимающие души Лоэнгрина… Нет, я знаю, что эта красивая еврейка никогда не изведает счастия, которого стоит… и что Стёпушка не изменит памяти Лизы… И мне не жаль их обоих… Это так стильно!.. Так тонко и красиво!»
На другой день город принял ещё более странный вид. Мясные и булочные торговали только ранним утром. Почти все магазины были закрыты. В центре города окна заколачивали деревянными щитами. От кого? Никто не мог сказать, но чего-то боялись. Капитон и Николай рано вернулись домой. Тобольцев в банк не пошел. Все учреждения были закрыты. Он двинулся было к университету, но встретил Зейдемана. Тот был бледен.
– Не ходите, Андрей Кириллыч!.. Университет осажден. Казаки избивают на улицах публику… Я сам еле спасся.
– Я волнуюсь за Таню… Ведь она там…
– Да!.. Ужасная неосторожность!.. Моя жена случайно уцелела… У неё заболела мать… Поэтому она запоздала на митинг… Подумайте!.. Беременной идти в толпу? И слышать ничего не хочет… Беда с этими женщинами!.. Они куда горячее нас… Вот хоть бы Маня Майская… сестра моей жены… Как воск в руках Николая Федоровича! Берет на себя самые рискованные поручения… и готова пыль от сапог его целовать… Какие они все истерички в любви и ненависти!
Тобольцев, радостно смеясь, хлопнул его по плечу.
– Да здравствуют женщины, Зейдеман! Если погаснет в небе солнце, женщина зажжет нам его вновь на земле!
Фимочка потихоньку от мужа побежала к портнихе, в Леонтьевский. Она заметила, что вывеска исчезла. «Я хоть не еврейка, а замужем за немцем, – сказала ей портниха, интеллигентная женщина.
– Но кто же тут разбираться станет?.. Идут слухи, что всех иностранцев бить будут…
Пока они меряли юбку, вбежала девочка-мастерица, которую послали с готовым платьем. Она принесла обратно картон.
– Простите, Юлия Ивановна, забоялась… Толпа на Тверской валом валит…
– Да что такое ещё, Гос-поди!
– Кухарки забастовали… Так толпой и идут… Прямо по улице… Рожи красные, руками машут… Кричат: «Всех снимать будем… Чтоб господа без прислуг сидели!..» Меня затерли совсем… Еле вырвалась…
Девчонка вся дрожала. Бледная хозяйка опустилась на стул. Из приотворенной двери на них глянули испуганные лица мастериц… Все побросали работу.
– Ещё изобьют, пожалуй, на улице, – сказала Фимочка.
– Если ещё так протянется немного, придется закрывать заведение. Вы не поверите, за месяц всего два платья заказано. Да я и не осуждаю… До нарядов ли теперь? Но и нам кормить зря такую ораву мастериц трудно. Каждый день мастерские банкротятся… И дерзки все стали! Ведь и у них тоже митинг был. Как же! Мои две бегали… Это лучшие закройщицы-то! Но я молчу перед ними. Что будешь делать?
Марья плакала на кухне и вся тряслась от страха.
– Ну, чего ревешь, глупая? – успокаивала её Катерина Федоровна. – Кто тебя силой смеет снять с места?
– А вот спросите, кто? – И Марья озлобленно ткнула пальцем в дипломатично молчавшую няньку. – Она вам скажет кто… Просилась вчера у вас к дочери, а заместо того на митинок помчалась…
– Куда?..
– На митинок… знамо… куда прислугу скликали…
– Няня… Зачем же вы меня обманули?..
Нянька молчала, опустив хитрые глаза.
Катерина Федоровна совсем расстроилась.
– Нет, отчего же? Мне это нравится! Это прекрасно! – возражал ей муж. – Не понимаю, что тут для тебя обидного?
– А для тебя что здесь прекрасного, я ещё меньше понимаю! – крикнула она. – Кончится тем, что нянька сбежит, а я останусь с двумя ребятами на руках!
– Никуда она не сбежит. А только прибавки потребует. Она умная баба… Это только такая деревня, как Марья, своих интересов не понимает…
– Ну да! ещё бы!.. У тебя всегда чужие правы!
Когда же она узнала, что у Засецкой после митинга сбежала горничная и что обворожительная Ольга Григорьевна, сама никогда не обувавшая чулок, вытирает теперь самолично пыль со статуэток саксонского фарфора в своем будуаре, она совсем пала духом. А Тобольцев хохотал.
Нянька, конечно, потребовала прибавки и отказалась от стирки. Марья же боялась ходить в мясную… «Потому, бают, забастовщицы стерегут нашу сестру. Кто не с ними, того бьют…» И она заливалась слезами… В деревне ей делать нечего: ни надела, ни избы. Она вдова, у неё девчонка на руках. «Нянька на улице своими глазами видела, как забастовщицы отняли провизию у одной кухарки. А в соседнем доме пришли прямо к плите и стали горшки со щами бить… Дворник их избил… Они его…» Соне пришлось самой ходить в мясную.
В субботу колокола звонили ко всенощной, и в этом звоне, под гипнозом темных и зловещих слухов, всем чудилось что-то жуткое… Слова «черная сотня» кошмаром нависли над жизнью мирного обывателя, произносились шепотом и с оглядкой. Страх чего-то неопределенного рос с каждой минутой, психической заразой охватывал все души.
У Тобольцева и Засецкой были новые заботы. Средства столовых иссякли, и вся щедрость Анны Порфирьевны была бессильна предотвратить голодовку… «Неужели сдадутся?..» – волновались на квартире у Майской.
Печальными предчувствиями был встречен праздник. Но уже к полудню по городу разнеслась зловещая новость… Бьют студентов… Словно пожар, бежал этот слух, разгораясь по пути в чудовищную легенду. Тобольцев обедал у матери, и Анна Порфирьевна вцепилась в его рукав, когда он уходил… Никогда не видал он её в таком отчаянии. «Андрюша, коль себя не жалеешь, Катю… меня пожалей, меня!.. Если тебя убьют, я умру!..» – Она молила его не ходить к университету, не ходить вообще пешком, особенно ночью. Она должен был дать ей клятву.
От неё он отправился прямо к университету. Но все переулки были заперты для публики. Тогда он взял извозчика и поехал к Засецкой.
– Ольга! Брось твои затеи!.. – говорил Мятлев. – Видишь, чем это пахнет? Как бы не подожгли теперь дом из-за твоей столовой дурацкой… Поедем в деревню… Я найму лошадей…
– Возьми детей и уезжай!.. Я здесь нужна…
– Какому дьяволу ты нужна? Я все терплю, гляжу сквозь пальцы на все ваши затеи!.. Но когда дело о жизни идет, тут уж извини, пожалуйста!
– Я остаюсь!..
– Зачем?.. Ну зачем?.. Глупая баба!..
Он бегал вне себя по комнате, а она сидела перед ним нарядная, с надменным лицом, с очаровательным фартучком в кружевах и прошивках, который она теперь носила с двенадцати до шести, пока действовала столовая.
– Сама знаешь, что кормить уже нечем… Доедаете последнее.
– У меня кредит большой… Я уж третий день беру по лавкам на свое имя… Не беспокойся! У тебя не попрошу… Не хватит кредита – у меня Конкина сапфиры купит…
– Держи карман! До сапфиров ли теперь, когда крахи всюду и на вулкане живем?.. Как ни глуп Павел Конкин, это-то он сообразит…
– Сергей Иваныч, я не люблю многословия. В чем дело?.. Если столовая тебя стесняет, я завтра найду другую квартиру…
– Ну, вот-вот!.. Я так и знал!.. Этот Тобольцев – черт бы его взял! – вертит тобой, как пешкой…
Она встала и выпрямилась.
– Довольно! Мы не уступим. Столовая будет открыта, чем бы это ни кончилось для меня!..
В это время раздался звонок Тобольцева. Засецкая, как девочка, вспорхнула и кинулась отпирать сама. Мятлев, отдышавшись в мягком кресле и выпив прием ландышевых капель, которые он всегда носил в кармане, сошел вниз и двумя руками любезно пожал руку Тобольцеву.
– Так ваша maman не приедет?
– Извините ее… Она очень, волнуется. Я сейчас вам Соню и нянюшку привезу…
– Что делается, Андрей Кириллыч!.. Я сейчас был на Тверской. – Мятлев третий раз с утра рассказал то, чему он был свидетелем. Он испуганно спрашивал, не грозит ли им месть чёрной сотни за эту столовую.
– Что значит, что водопровод действует? – с тревогой спрашивала Засецкая.
– А что вы имеете против этого? – засмеялся Тобольцев.
– Ах, нет! Конечно, мы рады… Ха!.. Ха!.. Но что это значит?.. Неужели сдаются?!
В квартире Тобольцевых, на Арбате, страшно обрадовались первой воде. Нацедили ванну для Лизаньки и Ади, корыто и ведра для стирки. А Соня все стояла с лейкой у раковины и твердила: «Бедные цветочки… Дайте их полить!..» Кухарка, враждебно растопырив локти, не подпускала её к крану. «Не до цветов тут… Ступайте в ванную…»
– Вы тут не пускаете, а там нянька шипит и гонит…
У Катерины Федоровны был ещё новый источник волнений. Подвоз молока кончился. Насилу достали кувшин Аде на кашку. Булочные не работали. Дома пекли белый вкусный хлеб. Но прислуга ворчала, зачем нет черного. «Проклятые бунтовщики!.. Студенты несчастные! – злобно говорила Марья. – Как это, чтоб людей без хлебушка оставить!»
– Нам-то что! – подхватывала хозяйка. – Бедным каково!..
Не успел Тобольцев увезти Соню к Засецкой от пирога, несмотря на протесты жены, как прозвонился Чернов. Он жил в «Петергофе», пристроился к народному театру и получал семьдесят пять рублей в месяц. Соня тоже понемногу возвращала себе частные уроки, но помириться с мужем она упорно отказывалась, поэтому Чернов был теперь тише воды, ниже травы. Он очень огорчился, узнав, что она уехала по делу. Поставив цилиндр на стул и сняв желтые перчатки, он тягуче и уныло рассказывал Катерине Федоровне, что театры бастуют, потому что нет электричества; публика боится выходить ночью, даже если бы завтра электричество зажгли опять… Избивают на улицах даже днем.
– Я сам-м насилу утек сейчас… Вообразите… за мной гнался оборванец… В три сажени ростом… и кулачище… вот-т!..
– Ужасно! – подхватила Катерина Федоровна и радушно подвинула к нему блюдо с пирогом.
– Антрепренеры головы потеряли. Товарищество *** уже разъезжается…
– Неужели? Вот что значит революция!.. Артистам, художникам это гибель…
– Д-да, гибель!.. Но… что будешь делать! Есть эпохи… в жизни людей… когда жертвы неизбежны для общего блага!
– Что такое? Никак и вы на их стороне?
– А почему бы нет-т?.. Разве я не живой чело-эк?..
Ее глаза сверкнули.
– Вы мало голодали, должно быть… Подождите, прищучит вас, забудете об общем благе…
Катерина Федоровна в глубине души была рада этим визитам Чернова. Она сама никогда, конечно, не простила бы измены и такого гаденького обмана. Все же судьба сестры её тревожила… Соня такая тряпка! Они могут помириться… Ведь любила же она его раньше… Все-таки муж… Какой ни на есть… И любит её искренно… Теперь Катерина Федоровна в этом не сомневалась… Она с огорчением глядела, как он «хлопал» рюмку за рюмкой. Наконец она отставила графин и стала его бранить. Чернов расплакался. Целуя руки belle-soeur[239]239
Свояченице (фр.).
[Закрыть] он умолял её помирить Соню с ним. Тогда он бросит пить, он будет образцовым мужем. Иначе он покончит с собой… Больше всего Катерина Федоровна боялась влияния Тобольцева и Шебуева на Соню. Долго ли такую тряпку с пути свернуть?.. Пошлют куда-нибудь… Дадут что-нибудь спрятать… Мало ли народу так погибло зря, из-за одной доброты и глупости? На днях ещё Шебуев забежал к ним, без Андрея, и принес какой-то сверток. Соня хохотала с ним в кабинете целый час и говорила «жирным», особенным голосом. Когда он ушел, Катерина Федоровна «напустилась» на сестру: «Вот… вот!.. Нашла поклонника… Нынче на диване, завтра на виселице… Глупая баба, тебе бы только смешки!»
– Да я, Катя, ничего… Разве я что-нибудь?..
– Ещё бы ты с ним целоваться стала!.. «Ничего»… Это замужняя-то женщина!..
– Об этом пора забыть! – как-то странно бросила Соня.
Сердце сестры ёкнуло.
– О чем забыть?..
– Об этой «ошибке молодости»…
– Скажите пожалуйста!.. Ошибке!.. Да уж не воображаешь ли ты всерьез роман затеять с этим… тьфу!.. Даже не знаю, как назвать его… Не помнящим родства…
– Он очень интересный, Катя! – задумчиво сказала Соня.
Катерина Федоровна сжала губы, промолчала, но в душе твердо решила помирить Соню с Черновым. Пусть он – лодырь!.. Но в тюрьму через него она не попадет… И в этот раз она дала ему торжественную клятву помирить их.
Тобольцев и Соня вернулись с волнующим известием: университет сдался. Всех выпускают[240]240
…университет сдался. Всех выпускают… – 15 октября собравшиеся на митинг студенты и рабочие не дали себя разогнать, забаррикадировались в университете, создали ЦК по охране университета и не допускали нападения черносотенцев. После сдачи вышли из университета с оружием.
[Закрыть]…
Действительно, Таня примчалась к девяти вечера. Она рассказывала сказки, как они «сидели», как голодали, как им доставляли провиант и свечи, как они решали свою судьбу…
– Вот дурачье! – в лицо говорила ей хозяйка. – Чем вы рисковали-то!
– Ах, это было так интересно!.. Так необыкновенно… Это были лучшие дни моей жизни!..
– Ну хорошо… Вы хоть одинокая… А эта-то дура, Вера Ивановна? С тремя ребятами на шее… То в тюрьме сидела, то в университет забралась… Достукается, что её вышлют, и очутится она на мостовой… Мать-то у неё уж умерла с горя!
– Ах! Она ничуть о детях не беспокоилась. Во-первых, она в Гиршах живет, как и я… Мало там добрых людей разве?.. А потом, что такое дети в такие дни?
– Мало вас там продержали… То-то вы и хорохоритесь!
Тщетно Катерина Федоровна оставляла Таню ночевать.
– Ведь убьют вас!.. Ну куда, на ночь глядя, мчитесь? Авось без вас Россию спасут… Ложитесь спать на диване тут!.. Ведь одиннадцать часов…
– Нет! Нет… У меня дел по горло!.. И кто меня тронет? Что с меня возьмешь?.. Ну, душечка, Катерина Федоровна, прощайте!.. Позвольте вас расцеловать… Спасибо вам за ласку!.. Я нынче такая счастливая, и рассказать вам не могу!..
– С чего бы это, Господи!..
– До свиданья!.. Хороший вы человек, Катерина Федоровна!.. Ужасно жалко, что мозги у вас засорены с детства!..
С хохотом Катерина Федоровна и Тобольцев заперли за ней дверь. Андрей Кириллыч в душе был страшно польщен тем, что Таня, в конце концов, оценила его жену, а в эту минуту он чувствовал к ней прямо нежность. «Ну, не очаровательное ли она создание?» – сказал он жене растроганно.
В эту ночь на улицах Москвы было необычайно шумно. Было много оборванцев и пьяных, которые «задирали» прохожих… Катерина Федоровна и Соня вздрагивали, когда внезапно в переулке раздавалась пьяная песнь или ругань, и долго лежали потом с открытыми глазами. «Ты слышишь, Соня?» – шептала Катерина Федоровна. – «Да… Только шаги удаляются… Не волнуйся, Катя!» – «Боже мой!.. Боже мой!.. Что мы переживаем!..»
Таня, по словам Катерины Федоровны, как угорелая бегавшая по городу, на Арбате наткнулась на кучу пьяных хулиганов. «Курсистка?.. Стриженая… Народ мутишь? – сказал один, хватая её за рукав и глядя мутными мелками в её лицо. – Бей ее!.. Чего глядеть?» «Ну, чего там? Брось! – сказал другой, помоложе. – Охота о бабу руки марать!..» Таня вдруг распахнула кофточку и с поразительным самообладанием сказала: «Бейте! Вот прямо в сердце!.. Вас много, а я одна… Я и защищаться не стану!.. Бейте!» Храбрость её так подействовала на хулиганов, что они её отпустили, дав ей только тумака, от которого она упала на тротуар. С хохотом рассказала она это у Тобольцевых.
– Добегались? – крикнула Катерина Федоровна, бледнея.
– Э, пустяки!.. Двух смертей не бывать, одной не миновать!
– Эге, Таня!.. Да вы, оказывается, героическая натура, – смеялся Тобольцев.
Казалось, вся страна замерла в напряженном ожидании. Железные дороги, почта, телеграф – все бездействовало. Трамваи не ходили. Извозчики были только днем. После заката солнца, боясь беззвучного и зловещего мрака, опускавшегося над городом, они мчались на свои дворы, отчаянно нахлестывая лошадей, заражая прохожих своим ужасом. Арбат был погружен во тьму, и люди двигались бесшумно, как призраки, напрягая зрение, пугаясь друг друга. Только в переулках падавший из окон квартир на улицу слабый свет боролся с жутким мраком. Но огонь гасили рано. Боясь чего-то, все переходили в комнаты, выходившие во двор… Магазины были заперты. Театры стояли пустые. Жизненные припасы вздорожали. Внизу, в доме, где жили Тобольцевы, мясную закрыли.
– Андрей… Да что же это?.. За кружку молока нянька сейчас четвертак заплатила… Насилу нашла, а завтра, сказали, не приходить!.. Что же Адя будет кушать? Чем больные, невинные малютки виноваты?.. – Она заплакала…
Тобольцев, кусая губы, бегал по комнате. Ему было жаль ребенка и жену. Катя уже не воевала, не проклинала, она сдалась. Страх за мужа и детей обессилил эту гордую душу…
– Катя, если тебя может утешить то, что я тебе скажу… слушай: теперь тысячи таких, как Адя, сидят не только без молока, но и без куска хлеба… Обыватель устал давать, устал жертвовать… Забастовка всех бьет по карману и озлобляет… Рабочие в отчаянии… Вчера некоторые заводы совещались, как быть дальше, потому что нет сил глядеть на голодных ребят… ещё день-два, и придется сдаться… Подумай, как это ужасно после таких жертв!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.