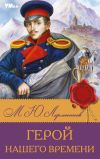Текст книги "Дух Времени"

Автор книги: Народное творчество
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 45 страниц)
– Пожалуйте в столовую… Сюда никто не войдет!..
В четыре часа резко дрогнул звонок. Катерина Федоровна ахнула и выглянула в переднюю.
– Таня!.. Да вы с ума сошли, так звонить!..
– Ах, пустяки!.. Да… Что я?.. Здравствуйте… Ну что там звонок! Если б вы знали, что делается!.. Николай Федорович здесь? – Она скрылась в кабинете. Из-за двери Тобольцев расслышал ее басистый голос. – Это невозможно, господа!.. Там стреляют по своим… – Какие солдаты?.. – Из Манчжурии… Они просят поезд вернуться на родину… – Им надо дать… – Как это нелепо, что об этом не подумали!
Через десять минут Таня вылетела, как бомба.
– Ну уж ваша Засецкая! – зашипела она на Тобольцева. – К ней пришли просить квартиру на завтра. А этот, ее старикашка, как выскочит, как затрясется! "Мы уезжаем… Оставьте нас в покое!.." А она: "Сергей Иваныч… Ах, Сергей Иваныч!.." Сама струсила, видно… А еще все хочется роль играть. Противная каботинка!.. Ну, прощайте, друг… Пожелайте мне успеха…
– Таня, постойте… Почему "прощайте"? Фу, как это все глупо! Почему не "до свиданья" все-таки?
– Ах, а я как сказала?.. Ну, до свиданья…
Она пошла к двери и вдруг вернулась, стихшая внезапно, с каким-то новым, странным лицом. "Поцелуйте меня", – сказала она грустно. Тобольцев схватил ее голову и поцеловал ее лоб, ее наивные и ясные глаза. Что-то оборвалось вдруг в его груди… Она кивнула головой и вышла… Звук ее быстрых шагов долетел с лестницы. Внизу хлопнула дверь… Тобольцев, бледный, проводя рукой по глазам, глядел ей вслед.
– Таня ушла? – спросила Соня, входя в переднюю.
– Да… И я чувствую, что никогда ее больше не увижу…
Соня вздрогнула. Все значение этих дней вдруг встало перед нею." Многие ли из тех, кто сидят там, за этими дверями, встретят Новый год?.. Нет! Даже завтрашний день?
Сумерки падали. Тобольцев внес лампу в кабинет и задернул шторы. Зажег висячую лампу в столовой. Там тоже стоял гул голосов и плавал сизый дым.
– Обед скоро аль нет? – спрашивала нянька, входя в переднюю. – Марья говорит, на плите все уже сгорело…
Тобольцев взял ее за плечи и выставил за дверь.
Пробило пять часов. Катерина Федоровна подошла к мужу, тяжело ступая на всю пятку, "Андрей, скоро ли они уйдут? Меня трясет лихорадка". У нее было больное лицо.
– Я не могу их выгнать!.. – Он поцеловал ее руку.
В шестом часу Софья Львовна вышла первая из столовой. За ней гурьбой все высыпали в переднюю. "Николай Федорыч тут?" – спросила она хозяина и постучалась в кабинет. Через минуту она вышла вместе с ним. Потапов был в какой-то куртке верблюжьего цвета.
– Весь день по морозу бегал, – объяснил он. – Ну, до свиданья, Андрей!.. И горячее тебе спасибо! Коли понадобится, не откажи дать ночлег…
– Ну, еще бы!.. Я так буду рад! Заходи!..
Постепенно стали выходить и из кабинета. Соня спешно простилась и пошла в лечебницу.
Когда Тобольцев запер за последним гостем, он вошел в кабинет. Катерина Федоровна у письменного стола разбирала какие-то обрывки бумаги. У лампы, скомканная в пепельнице, лежала записка, оторванная от блокнота. Она развернула ее.
– Что ты делаешь, Катя?
– Кто здесь был? Что это за буквы вместо подписи?
– Где? – Он вырвал записки… "Разрешите сигнализовать поездам… Стреляют в своих…", "Разрешите рабочим завода…сить друж…", "и выжидать дальнейших дир…" Край был оторван. Затем подпись: "И. К." Угла не было.
– Дай все бумажки сюда!.. Ищи в корзине… Вон на ковре, у кушетки, еще что-то белеется…
– Записка… и та же подпись… Андрей! Что это значит?
Тобольцев молча жег их на свече.
– Поищи хорошенько, Катя, в пепельницах… под стаканами, вон там…
Она бродила, бледная, заглядывая под кресла, одергивая скатерти на столиках… Не было ничего…
Вдруг она выпрямилась, подошла к столу и стояла перед мужем, суровая и бледная.
– А если б по их следам, сейчас же, вошла полиция, когда они были тут?
– Тогда бы мы пропали, Катя! И мы… И они…
– Да? – Ее глаза сверкнули. – Ты это сознаешь?
– Я в этом ни минуты не сомневался!..
Она вдруг смолкла и закрыла глаза. Она стояла, держась за виски руками… Казалось, земля вдруг дрогнула и поплыла под нею… Раскрылась какая-то бездна и глядела ей в лицо жадными, немыми очами… "Конец!" – поняла она вдруг так ясно, как будто кто-то сказал громко в ее душе это слово.
Она села в кресло и молчала, неподвижно глядя на ковер… Сколько молчала?.. Не помнит… Он тоже замер у стола. И когда она подняла наконец с трудом глаза, – с таким трудом, как будто чья-то железная рука легла на ее затылок и пригнула к груди ее когда-то гордую голову, – она увидала, что он бледен и что даже губы у него белы…
– Ну? – скорее вздохнула, чем произнесла она, и смолкла опять, словно ожидая чего-то… последнего удара, который оборвет ее жизнь…
Он молчал. Только взмахнули его ресницы, и глаза его, сверкающие и большие, устремились на нее с непередаваемым выражением упорства и в то же время мольбы…
Она тихо ахнула, закрыла опять лицо, и плечи ее затрепетали. Это были беспомощные и горькие рыдания женщины, обманутой, раненной в сердце, утратившей самые заветные иллюзии.
– Катя! – беззвучно прошептали его белые губы…
"Это она так плачет?.. Она умеет так плакать?"
Он медленно перешел комнату и тихонько опустился перед нею на колени… Роковое значение этого момента почувствовал он только сейчас, и задрожало не только его тело, но и его душа… Он глядел на белую дорожку пробора между бандо пышных черных волос, на этот лоб и бархатные брови, властные, чудные брови, пленившие его своим индивидуальным изломом, так горестно сжатые сейчас в незнакомом ему выражении. Он глядел на эти тонкие, длинные пальцы, закрывавшие ее лицо, искривленные сейчас страданием; на эти руки артистки, которые он обожал… которые так часто вводили его, покорного и очарованного, в волшебные чертоги поэзии!.. Его руки тихонько, робко обвили ее стан, как будто перед ним была чужая и недоступная ему женщина, а не это знакомое до мелочей и жадно любимое тело, в котором он обожал все: и его смуглый тон, и его пряный, индивидуальный запах, и все его изгибы и линии, даже его недостатки… И как бы нарочно, чтоб углубить его страдание, память чувств в этот роковой миг развернула перед ним мгновенно все, что дала ему эта женщина, ее тело, ее душа, ее темперамент, покоривший, захвативший надолго его капризную фантазию, утолявший его требовательную чувственность, даривший ему минуты божественного экстаза… Он ее любил… Ее одну любил, и никогда не разлюбит! Он это знал… Никогда не забудет, он это знал!.. Какие бездны ни бросила бы между ними жизнь, какие бы женщины ни стали на мгновение между ним и памятью его сердца и нервов, он ее не забудет… Он это знал!.. И все-таки… все-таки он молчал в это мгновение, когда решалась их судьба, когда рушилось их счастье, когда одного слова было довольно, чтоб высохли эти слезы и она вновь улыбнулась ему той властной, чудной улыбкой, которую он любил…
Но этого слова сказать он не мог… Нет!.. Не было силы в мире, которая заставила бы его солгать ей в эту минуту, бросить ей кроху утешения, искру надежды, которых бессознательно ждала ее кричавшая от отчаяния, истекающая кровью душа… Нет!.. В его собственном сердце не было ни смятения, ни колебаний… Кто-то решил за него… Кто-то сказал свое слово… И оно было бесповоротно, как смертный приговор… В эту минуту он глядел на нее, как утопающий, схватившийся за верхушку мачты, перед тем как погрузиться в море, глядит в последний раз на обширный океан, на небо, на краски заката, на все, чем он владел, что он любил и что он теряет, уходя… Он измерил глубину своей утраты… Но ничего изменить, ничего отвратить он уже не мог…
Она рыдала, склоняясь все ниже когда-то гордой головой. Так плачет внезапно ослепший, у которого судьба украла радость. Что заменит ему потухший блеск солнца? Краски неба? Цветы? Улыбку милого лица?.. Так плачет путник, которого ночь застигла в пустыне… Что может его утешить в его трагическом одиночестве? Тобольцев знал, что нет на человеческом языке слов утешения в такие минуты! И он их не искал… Его душа была пуста, как будто вихрь ворвался в нее в эту ночь и унес с собой все, чем он жил еще вчера!
Он встал тихонько и вышел из комнаты, из дома…
Черная ночь обняла его холодными руками… Он оглянулся на освещенные окна кабинета… "Прости, Катя!" – прошептал он… Глаза его были сухи… Душа была пуста…
Катерина Федоровна не ложилась. Осунувшаяся и согнувшаяся, как будто горе сидело на ее плечах, она бродила по комнатам, равнодушная к плачу Лизаньки, машинально кормя ее, когда нянька подносила к ней девочку, и без поцелуя укладывая ее вновь в постельку.
В полночь раздался робкий, еле слышный звонок. Она кинулась в переднюю. Зубы ее стучали. "Кто тут?" – хрипло спросила она, потом наложила цепочку. Из темноты на свет лампы, горевшей в передней, глянуло чужое, женское испуганное лицо.
– Кто вы? Что вам нужно?
– Впустите меня, ради Бога, на минутку!..
Катерина Федоровна сняла цепь. Барышня, с милым бледным личиком и полными ужаса темными глазами, вся дрожала.
– Это квартира Тобольцева? Вы его жена?
– Да… Что случилось?
– Я вас хотела спросить… Где они? Куда они все делись?
– Ах да… Вы про них? Ушли.
– Когда? – Яркой радостью вспыхнули глазки.
– Давно… В шестом часу…
– Ах, слава Богу!.. И все целы?.. Никого не арестовали?
– Никого… Я сама видела, как ушли последние…
– Ах, спасибо, спасибо! Камень с плеч! Понимаете, они должны были в десять быть в другом месте… И до сих пор их нет… Значит, все целы? До свидания!..
Катерина Федоровна заснула только в три. Но сквозь сон она узнала звук отпираемого замка. "Слава Богу!.." – подумала она и в первый раз за этот день вздохнула полной грудью.
XIVУтром, за кофе, они поздоровались просто, как будто ничего не случилось накануне. Но каждый из них знал, что судьба их решена и что говорить им уже не о чем. Непроходимая грань легла между прошедшим и этим утром. Бездна, которая разверзлась вчера у ее ног, унесла ее веру, ее радость, ее иллюзии, даже ее любовь… Да… Та бледная тень чувства, которая пережила эту ночь в ее душе, – что имела она общего с той яркой, трепетной, всеобъемлющей страстью, которую она чувствовала два года назад к этому человеку? Эту радость он убил вчера нежданно и предательски… Чего ждала она еще? На что надеялась бессознательно? Она не могла бы ответить… Он вздрогнул, разглядев ее глаза.
Бесконечно чужие и далекие, они сели рядом за стол. Между ними Адя, на своем высоком стульчике… Он что-то весело лопотал на своем собственном, милом и загадочном языке, который понимала одна мать. Он очень любил отца, которого так редко видел, и теперь в чем-то убеждал его… "Тррр…" – восклицал он горячо и делал в воздухе жест пухлой ручонкой. "Ах ты, иностранец!" – засмеялся Тобольцев и потрепал его по румяной щечке.
– Он просит прокатить его на санках, – объяснила мать каким-то сухим, беззвучным голосом. – Нет, детка, нельзя! Нынче нельзя кататься… Холодно, – сказала она, гладя мальчика по голове, но и тут звук голоса у нее был деревянный.
С грустью Тобольцев коснулся золотых волос ребенка. "Конец? – спросил он себя вдруг. – Никогда не увижу?.." Он сам удивился боли, которую почувствовал в сердце, как будто ему всадили туда длинную булавку.
Нянька ходила взад и вперед по столовой с дремлющей Лизанькой. Черная головка – мать в миниатюре, поэтому нежно любимая отцом, – доверчиво лежала на плече няньки. Тобольцев при каждом повороте видел знакомый размах черных бровей и гордые маленькие губки… "Эта так же будет несчастна, как и мать", – вдруг понял он, и опять как будто булавка вошла в его сердце.
Нянька пела: "Приди, котик, ночевать, мою Лизаньку качать… Как у котика-кота колыбелька хороша…" Тобольцеву казалось, как вчера, когда плакала жена, что только сейчас он измерил всю ценность того, что он теряет. И прелесть этой мирной картины осталась в его душе навсегда…
Пришел Бессонов, бледный, с вялыми движениями, в расстегнутом пальто. Из глаз его глядела бесконечная усталость. "Вы не знаете, где моя жена, Андрей Кириллыч?" Он вздохнул и сел на сундук.
– Павел Петрович!.. Пожалуйста, снимите пальто, хотите стакан кофе?
– Да… Пожалуй… Я, кажется, со вчерашнего дня ничего не ел… – Он вошел, взглянул на детей, на кипящий самовар, на чисто и красиво убранный стол в этой светлой и уютной комнате… "Счастливые!.." – подумал он невольно… Ему вспомнилась собственная холодная квартира, лишенная того отпечатка домовитости и любви к своему углу, которая здесь сказывалась в каждой мелочи. Вспомнились белоголовые болезненные детишки, брошенные на глупую няньку… все эти дни звавшие свою маму… Вспомнилось, как она уходила… Когда это было?.. Неужели только три дня назад?.. Ее лицо… Голос… "Я не могу иначе… не могу!.. Кто-нибудь из нас должен идти!.. Пусти меня!.. Не удерживай, ради Бога!.. Если меня убьют, дети не пропадут с тобой… Ты их прокормишь… Ты им нужней…" Она плакала тогда… О, эта ночь! О, эти ночи, полные ожидания и отчаяния, одиночества и тоски!..
Катерина Федоровна встала ему навстречу из-за самовара. Он видел ее всего раз в жизни, год назад, – счастливой, гордой, цветущей… Он не узнал бы ее теперь, встретив на улице. "И здесь, значит, драма?" – подумал он, взглянув в ее угасшие глаза… И ему как будто стало легче…
Он жадно отпил несколько глотков горячего кофе, ломая хлеб тонкими красивыми пальцами. На его одухотворенном лице опять заиграл нежный румянец хрупкого слабогрудого существа. Холодные глаза как будто согрелись: "Видите ли, я три дня не имею о ней известий… Постойте… Да, да… ровно три дня… А вы знаете, что было вчера вечером? Дом X*** разгромлен…"
Катерина Федоровна встрепенулась: "Разгромлен? Черной сотней?"
– Пушками… Не знаю, насколько тут правды, насколько легенды… Люди склонны преувеличивать… Но… это несомненно начало конца…
– Как? – сорвалось у Тобольцева.
– Что можно сделать против пушек, Андрей Кириллыч? Наше дело проиграно. Впрочем… я это предсказывал и раньше. У меня ни секунды не было ослепления…
Настала тягостная тишина. Бессонов словно очнулся из задумчивости.
– Моей жены там не было, я знаю, но она могла быть накануне на митинге в "Олимпии"…[267]267
…вы были вчера в «Олимпии»? – 8 февраля митинг в зале «Олимпия» был разогнан войсками. 37 участников были арестованы.
[Закрыть] Там тоже масса арестованных… Это была формальная осада… Вы это знаете? Говорят, есть раненые и убитые…
– Боже мой! Начинается расплата. Дождались!
Бессонов бросил хозяйке усталый взгляд. Тобольцев уронил салфетку и наклонился, чтоб поднять ее. "Ее там не было!" – тихо и быстро сказал он.
Глаза Бессонова сверкнули. "А!.." – сорвалось у него. Он тотчас прикусил губы и опустил глаза под острым взглядом Катерины Федоровны. Потом взял стакан и разом допил кофе. Краска покрыла его бледное лицо.
– Там было больше десяти тысяч, как я слышал, – небрежно говорил Тобольцев.
– Та-ак… – Бессонов вздохнул полной грудью. Пальцы его нервно теребили бахрому скатерти. – Вчера был роковой день, Андрей Кириллыч… Многие из наших арестованы ночью…
– Потапов? – трепетно крикнул Тобольцев.
– Нет, его не было. Васильев и Шебуев ушли раньше случайно. Остальные семь из бюро взяты… Я сейчас видел жену Васильева… Там все сведения. Взяты Невзоров, Ильин… И очень многие из партии… Их проследили… Это – полный разгром…
"Ах! Вот что…" Ей вспомнилась испуганная барышня. "Где же они были арестованы?" – быстро спросила она.
– На одной частной квартире.
Глаза Тобольцева встретили сверкнувший взгляд жены. Он угадал ее мысли. Он понял, почему мрачной энергией зажглось ее угасшее лицо. "Ага!.. Так лучше! Легче!" – подумал он.
Бессонов поднялся. Чувствовалось, что ему тяжело встать и идти, что неизмеримая нравственная усталость сковала его члены. "Несчастный! Как я понимаю тебя!" – подумала Катерина Федоровна, крепко пожимая ему руку. "Она бросила тебя и детей… Бедные крошки! Зачем такие женщины выходят замуж? Зачем такие люди, как Андрей, женятся?"
В ее горячем пожатии Бессонов почувствовал участие. И тонкие ноздри его дрогнули… Она не была его единомышленницей, эта женщина. Но с первой минуты он почувствовал в ней личность. И отказать ей в своем уважении не мог, да и не хотел… "С своей точки зрения она права… Она – мать прежде всего… И разве мы смеем требовать геройства от обывателя?.."
Надевая пальто, он зашептал: "Андрей Кириллыч… Неужели? Как же вам удалось уйти?"
– Через забор, Павел Петрович… В соседний сад забрались, да и махнули… Ха!.. Ха!.. Одни брюки пострадали, уверяю вас… И не я один… Многие из нас предпочли такой уход… Подробностей не знаю… Но, смею вас уверить, что ни Тани, ни Надежды Николаевны там не было… Выйдем вместе!..
– А я пройду к Пашковым. Может быть, она там ночевала… До свиданья!.. Боюсь, что она уже арестована… Вы к Майской? Не ходите бульваром… Мне сейчас извозчик оттуда сказал, что обстреливают бульвары и Тверскую…
Катерина Федоровна видела, как он уходил. Куда? Она не знала… Когда вернется?.. Она уже не спрашивала. Было слишком страшно заговорить. Как будто молчанье между ними было последней преградой идущего наводнения, последней дверью, за которой ждал ее всепоглощающий, неумолимый мрак… Эту дверь надо открыть, она это знала… В тот вечер, когда она рыдала над обломками рухнувшего счастья, а Андрей ушел, не бросив ей ни тени надежды, – погасло солнце в ее собственной жизни… Она бредет уже в сумерках, безрадостных, жутких сумерках, с трудом ища дорогу… Но вот эта дверь перед нею… Ее надо открыть, чтоб идти дальше – одной и в полном мраке!.. Это надо, чтоб спасти детей… Разве это не все, что у нее осталось?.. Но сердце ее падало, когда она думала об этой долгой и трудной дороге, о своем трагическом одиночестве…
День шел, а с ним рос зловещий страх. Нянька прибежала из булочной, где собирала сведения. Все лавки запираются. Завтра откроются только на полчаса… "А у Страстного убитые так и валяются, как мухи. На полках, слыхать, провезли тучу… Палят из ружей сразу во все четыре стороны…"
Катерина Федоровна начала дрожать… Тяжело ступая на пятку, она ходила по комнатам, не замечая времени, тихо ломая руки… Прибежала Соня в слезах. Пройти в лечебницу невозможно. На площади сейчас убили старуху и мальчика-газетчика… Шрапнелью оторвало голову… Она видела, как его везли… "Боже мой!" – тихо, в ужасе, сказала Катерина Федоровна. – "Катя, подумай, как я перевезу теперь Егорушку на квартиру?.. А без меня он умрет с тоски!.." – "Нет, Соня, нет!.. Не ходи…" – И она все дрожала сильней и сильней…
Марья пришла сказать, что молочник с фермы просит расчета. Больше не будет торговать. Нынче, когда он подъезжал к заставе, народ валом валил из Москвы: извозчики, рабочие, ремесленники, с женами, с детьми, с котомками… "Куда едешь? – кричали ему. – Аль жизни не жалко?.."
Тобольцев прежде всего попал к Шебуеву.
– Мы с Васильевым спаслись случайно, – сказал ему Шебуев. – Ушли на полчаса раньше… Остальных взяли. – Он же рассказал Тобольцеву подробности рокового вчерашнего вечера. Вера Ивановна, Марья Егоровна, тяжело раненные, захвачены. Иванцов тоже. Соколова успела спастись… Она пряталась всю ночь на дровяном складу, и от нее Шебуев узнал все. – Андрей Кириллыч, куда нам деть ребят Веры Ивановны?
– Давайте их мне! В каком они номере?
– Голубчик, вот спасибо!.. А ваша жена что скажет на это?
– Видите ли что, Шебуев. Моя жена – золотое сердце. И детей чужих она сумела бы пригреть. И случись это неделю назад, я без колебаний взвалил бы ей на плечи эту заботу… Но… сейчас я не имею на это права… Простите… Я не могу еще говорить об этом спокойно… Жена сейчас переживает такие минуты… Вы меня понимаете, Шебуев?
– О да!.. Да… Дайте вашу руку, Андрей Кириллыч!..
– Я свезу детей к матери. Для нее это будет хорошо!
Он так и сделал. В Замоскворечье еще стояла тишина на улицах, и мирная жизнь как бы шла своим чередом. Но зловещие слухи уже проникли в дома и всех лишили покоя. Капитон с выпученными глазами встретил брата: "Наконец-то! Вспомнил старуху-мать! Можно ли в этакие дни пропадать? Как Бога ты не боишься, Андрей!" А Николай сказал ему вслед: "Достукались? Вот подожди! Попотчуют вас теперь!.. Заго-во-орщики!" – И он озлобленно плюнул.
Анна Порфирьевна с криком радости кинулась на грудь сыну. Он вкратце рассказал ей, в чем дело. "Это, маменька, вашу собственную жизнь скрасит. Была бы Лиза жива, ей посадил бы сирот на шею… А теперь вы уж потрудитесь сами "для души"… Помните, что вы это делаете для меня…"
Когда он уехал за детьми, братья и Фимочка собрались на семейный совет. Братья трусили и ругали Андрея. "Еще влетишь через них!" – "В такие-то дни!" – "Это дети!" – строго напомнила мать. – "Мало ли что? Яблочко от яблони недалеко катится"… – "Не было печали, черти накачали, – злобно огрызнулся Николай. – Он теперь начнет по улицам подбирать каторжное отродье… Приют у нас устроит…"
Анна Порфирьевна молча слушала, а глаза ее блестели.
– А я за то, чтобы взять, – неожиданно и хладнокровно сказала Фимочка, разглаживая на коленях складки своей новой юбки. – Они нас не объедят. Верх весь пустой. А что же им, как щенятам, на улице оставаться? Будь Лиза жива, она бы этого не допустила… Ну, а мы чем хуже? "Дура!.." – крикнул Николай. "А ты не ругайся!.. Не твоя жена… По какому праву?.. – остановил его Капитон и солидно заметил: – А вы думаете, маменька, полиция вас по голове погладит за это? Откуда, мол, явились? С улицы, что ли? Как же?" "Довольно… – властно сказала она, встала, выпрямилась и ударила рукой по столу. – Детей я беру… Кто боится со мной оставаться, я не держу силком… Скатертью дорожка!" И она ушла к себе. "Вот и отлично! – рассмеялась Фимочка. – Тоже вас, дураков, слушать, остается в погреб залезть!"
Через час дети Веры Ивановны, с заплаканными личиками, сидели в бывшей комнате Федосеюшки, где нянюшка кормила их обедом. Фрейлейн заботливо оправляла им постельки и прибивала вешалки.
Тобольцев вернулся домой к обеду. Невыразимое облегчение почувствовала Катерина Федоровна, садясь за стол. Муж, дети, Соня – все, кто были ей дороги, – сидели тут, рядом… Голова ее и руки почти перестали дрожать.
Они ели жаркое, когда позвонился Зейдеман. В пальто, с шапкой в руках, он вошел в столовую и, как раздавленный, упал на стул у входа. "Что случилось?" – тревожно крикнул Тобольцев. При первом слове участия или от контраста этой мирной картины с его собственными настроением, нервы Зейдемана не выдержали. Он вдруг закрыл лицо руками и глухо зарыдал. Все вскочили и засуетились. Соня подала ему воды, Катерина Федоровна – валерианки. Голова ее тряслась опять, и она расплескала рюмку. Адя тихонько захныкал на своем высоком стульчике.
– Таня… у…уби…та…
– Таня? – страшно крикнул Тобольцев и чуть не упал. Опершись о стену рукой, он глядел большими, пустыми глазами на курчавые волосы Зейдемана, на его затылок, трепетавшие плечи, изорванное пальто. Он как-то вдруг перестал понимать сущность слышанного. Он различал громкий плач ребенка, испуганного его криком, и сосчитал пуговицы на пальто Зейдемана. "Две осталось… все сорваны…" Потом прислонился к стене и стал тереть лоб.
– Ужасно… Ужасно! – рыдал Зейдеман, стуча зубами по стакану и громко сморкаясь. – И какая страшная смерть!.. Ее разорвала толпа…
Соня ахнула. Тобольцев взглянул на нее, на жену… "Как у нее странно дрожит голова!.." "Я это знал", – вдруг сказал он громко и спокойно.
Зейдеман не понял… "Откуда вы могли знать, Андрей Кириллыч?.. Ее убили часа два назад… на Сухаревой… Она шла с рабочими… по площади… с красным флагом… Сказала им речь… Их окружили торговцы. Она убеждала их бросить торговлю… Они избили демонстрантов… А ее ра…ра…зор…вали…"
Глухие рыдания Катерины Федоровны на мгновение дошли до сознания Тобольцева. Она лежала лицом на столе и билась всем телом. Чаша горя, казалось, была переполнена. Теперь все кинулись к ней, даже Зейдеман. Нянька схватила на руки мальчика. "Мама! Ма-ма!" – отчаянно кричал он и тянулся к матери. Его унесли… Тобольцев один стоял неподвижно у стены, проводя рукой по глазам… "Поцелуйте меня!.." – слышал он голос Тани, когда вчера с странным и новым лицом она вдруг подошла к нему.
Зейдеман снял пальто и пошел в кабинет за хозяином. "Не ходите до вечера к Мане, Андрей Кириллыч. Потапов ждал вас все утро, но когда начался этот… разгром, он волновался за вас… Читали "Известия рабочих депутатов"? Нет?.. Боюсь, что мы последний вечер соберемся у Мани… Слишком опасно. Так много арестов!.. Надо перекочевывать оттуда… Мы с женою переедем завтра. Ах, Андрей Кириллыч, не кажется ли вам, что наша песенка спета?"
Тобольцев молчал, все так же неподвижно глядя перед собой. Зейдеман лихорадочно раскуривал папиросу. "Знаете, кто взят нынче ночью? Кувшиновы оба. Он захвачен на Долгоруковской, а она на дому. Ее проследили. Взяли с ребенком. Ах, беда женатым теперь! Вы не видели Бессонову? Муж ее всюду ищет третий день… Несчастный человек!.. Он не знает еще всего, Андрей Кириллыч. Ведь ей и Наташе дали самые опасные поручения… директивы к боевой организации… Подумайте!.. Не знаю, как Наташа, а Бессонова третьего дня нарвалась на казаков… с этакой-то милой бумажкой на груди и с воззванием!.. Как она жива осталась, не понимаю!.. Должно быть, личико спасает… Сама рассказывала Потапову, смеясь. Она к ним подошла первая и, знаете, этим своим ангельским голоском говорит: "Боюсь очень… Как бы мне попасть туда-то?" А они ее отговаривать начали, добродушно так: "Не ходите, мол, барышня, убьют… Что за спех такой?" – "У меня, говорит, мать умирает". Они ее проводили, представьте, до какого-то там места… А потом она в обход пошла… Целых два часа шла… На скольких патрулей наталкивалась!.. Сколько пряталась по дворам и в подъездах!.. Удивительные эти женщины, Андрей Кириллыч!.."
Он докурил папироску. "Выйдем вместе, – сказал Тобольцев. – Я к Марье Павловне".
– Да, теперь можно… Стемнело… И я с вами!
Они вышли. На Арбате кое-где сохранившийся газ бросал призрачный, умирающий свет. Было пусто, но чем ближе подвигались они к центру, тем больше оживали темные, странные улицы. Возбужденная огромная толпа заливала площадь у памятника Пушкина. Посреди валялся труп извозчичьей лошади; саней уже не было. Костры догорали, и было что-то жуткое в их красных, дрожавших бликах, и мрак, надвигавшийся за ними беззвучными волнами, казался еще зловещее. Около киоска шумела толпа.
Вдруг промчались сани. Один из седоков закричал, маша руками:
– Товарищи, отомстите!.. – Толпа загудела.
– Пойдемте скорее! – шепнул Зейдеман, дергая Тобольцева за рукав. – Стреляли в толпу, – сказал ему какой-то рабочий. – Неужели? Где же?.. – Э, барин!.. Сколько схваток было!.. Я еле ноги унес… – Чужие люди подхватили и охотно рассказывали. Все больницы переполнены убитыми и ранеными… А на Курской дороге ломовики растерзали двух… – Какой кровавый бред! – сказал Зейдеман и закрыл глаза. – Возможен еще залп… – Какое безобразие!.. Люди идут по делу… За что стрелять? – спросила пожилая, полная дама, обращаясь к студенту. – Оленька, пойдем!.. – Барышня и гимназистик, весело болтая, спешно пробирались к панели. – В самом деле? Что такое? – говорил господин в бобрах. – Мы мирные люди… Разве мы бунтуем? – Мирным людям надо в погреб спускаться! – сострил кто-то. Смех раскатился по площади, здоровый, молодой, вызывающий смех… Лицо какого-то парня вынырнуло из толпы. Он махал над головой бумагой, призрачно белевшей во мгле. – "Известия"! "Известия"! – кричал он. – Дайте сюда! – крикнул Тобольцев. – Достал!.. – радостно смеялся тот. – Андрей Кириллыч, это опасно… Я ухожу… – Читайте! Читайте! – послышались возбужденные голоса. – Мы будем спички жечь! – Тесным кольцом сомкнулась толпа вокруг. Спички вспыхивали и озаряли девичьи глаза, молодые улыбки, загорелые черты рабочего, бобры воротника, белый платок на голове прислуги. – Тише! Тише!.. Ничего не слышно!.. – Громче, пожалуйста, читайте! – Боже мой, какой шум! – Что он прочел? Вы слышали? – Ах, досада! – Не толкайтесь, пожалуйста, господин! На улице всем места хватит…
Тобольцев на себе чувствовал, как растет настроение толпы, как оно заражает… Он забыл о Зейдемане, а когда оглянулся назад, его уже не было… Номер "Известий" был вчерашний, но и его слушали проникновенно, с глубочайшим интересом. Новые лица протискивались ближе. – Что такое? Что такое? – "Известия" читают… – Господин, будьте добры, прочтите еще! – Тобольцева волной отнесло дальше, к улице. Его окружала уже новая толпа. Опять вспыхнули спички… Из тьмы прямо на Тобольцева глядело хмурое бородатое лицо, в картузе, с сросшимися на переносье темными бровями, с угрюмым взглядом запавших глаз. – У-лю-лю!.. – вдруг загоготали мальчишки где-то вдали, и раздался смех. – Ай-да, парни! Спугнули… – Будет им подслушивать-то! – Тише вы!.. Ничего не слышно!..
Вдруг отчаянный вопль пронесся над толпой: "Солдаты!.. Солдаты!.." Женский крик… плач ребенка… Толпа ахнула, шарахнулась как-то нелепо, потом неожиданно сгрудилась… Кинувшиеся безотчетно навстречу, вдруг повернули назад, в паническом ужасе давя друг друга… Толпа смешалась опять и растаяла мгновенно… Площадь опустела…
Тобольцева бросило вправо, вперед… Он чуть не упал… Непреодолимая волна вынесла его и втолкнула в двор какого-то дома на углу… Он дышал с трудом… Тут были простые женщины, нарядные барышни, мастеровые, студенты – все, кто мирно гулял, ища новых впечатлений, кто шел по своему делу, кто участвовал в стычках с полицией… И теперь все смешались в этой мгле, все взволнованно молчали, чувствуя веяние смерти над собой. Только в жестах женщин, хватавших за руки чужих им мужчин, в этих наивных и нелепых жестах кричал невыразимый никакими словами животный ужас.
Вдруг кто-то истерически заплакал на высоких нотах… "Тише! Тише!" – раздались испуганные голоса… И среди разом наступившей тишины донесся близко мерный, четкий топот шагов по промерзлой мостовой и ритмический, слабый звон.
Вдруг дворник, растолкав толпу, подошел к воротам. С визгом тяжко захлопнулись они. Из мрака на свет костра выплыло лицо околоточного, затем его фигура. Он прижался усами к брусьям железной решетки.
– Все свои? – вполголоса спросил он дворника. – Кто чужой – выведи!..
Жуткое молчание… Дворник, пожилой и бородатый, с сросшимися на переносье бровями, хмуро глянул в толпу, по которой бегали гаснувшие блики, и медленно обвел ее угрюмыми запавшими глазами… Толпа застыла. Она, казалось, не дышала. Пытливые глаза прошлись по лицу Тобольцева и замерли на нем. Они оба узнали друг друга. "A!.. вот что…" – подумал Тобольцев как-то удивительно спокойно, словно этого ждал… Следующая секунда показалась ему вечностью.
– Свои, – угрюмо бросил дворник и решительно запер ворота… Толпа ахнула и шевельнулась… потом опять замерла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.