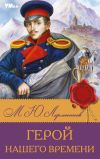Текст книги "Дух Времени"

Автор книги: Народное творчество
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 45 страниц)
И вот снова замутились светлые волны новой, радостной жизни. Забастовка почты и телеграфа вызвала сначала общее горячее сочувствие. «Уступят…» – уверенно говорили все. И обыватель жертвовал щедрой рукой. Засецкая и Тобольцев устроили спектакль в пользу бастующих, давший блестящий сбор. За первый ряд кресел платили по двадцати пяти рублей. «Вы поедете, конечно? – спрашивала Катерина Федоровна Капитона. – Ведь детишки-то ничем не виноваты?.. А голодают…» Капитон показал два билета по десяти рублей: «А маменька пятьсот пожертвовала, и Мятлев столько же!» – «А Конкины?» – «Те в первом ряду взяли… Жалко… что и говорить!.. Живут впроголодь…»
Но забастовка затянулась, и настроение стало падать.
– Сергей Иваныч, я к вам, – сказал Тобольцев, в конце ноября входя в роскошный кабинет Мятлева. – Не откажите! Нам надо тысячу рублей, а пожертвований уже не хватает.
– Завтра деньги будут у вас, Андрей Кириллыч… – Мятлев показал ему номер газеты. – Читали письмо фабрикантов?[261]261
Читали письмо фабрикантов? – 15 ноября было опубликовано «Возвание всероссийского торгово-промышленного союза», утверждавшее, что дальнейшее политическое настроение угрожает торгово-промышленной жизни страны. В «Воззвании» выдвигались политические и экономические требования.
[Закрыть].. Здесь и моя подпись. Мы требуем уступок. Каждый день несет миллионные убытки. Ведь это нас карают… За что же, черт возьми!.. Разве мы не вполне лояльные люди?.. И вы поглядите, все-таки какое небывалое сочувствие! Ежедневно жертвовали тысячи!
Настал декабрь. Что-то новое и грозное снова вставало на горизонте. Тревога, взмахнув черными крыльями, села опять у очага мирного обывателя. Холодом веяло от нее. И страх крался снова и входил, как хозяин, в замученную душу.
И вот, проснувшись в одно прекрасное утро, обыватель узнал, что начинается общая забастовка… "Опять?.." – сорвался у него крик. Он недоумевал. Он возмущался. Кто ее решил?.. Почему?.. Не было даже газеты, которая объяснила бы эту загадку… Но и те, кто накануне прочли последний номер, думали, что все это только чудовищный кошмар, от которого необходимо очнуться. "Отказываюсь верить, – говорила Катерина Федоровна мужу. – Неужели опять будем без воды и во тьме?.. Без мяса, хлеба и молока? Когда же конец?.. И кому это нужно?.. Зачем вы мучите народ? Чего вы добиваетесь, безумцы?!"
– При чем тут я, Катя?.. Ей-Богу, я знаю не больше твоего!
Примчался Мятлев с номером газеты эс-де. Его розовое лицо побледнело. Плотоядная улыбка исчезла из глаз.
– Вы понимаете тут что-нибудь? – спрашивал он Тобольцева, ударяя по газете холеными пальцами с огромным сапфиром на мизинце. – Глазам не верю! Что это за тон? Что это за вызовы?.. Надо опираться на армию или на весь народ, чтоб писать такие вещи… Не маниаки ли они?.. Не безумцы ли?
– Мало того… Преступные безумцы! – страстно подхватила Катерина Федоровна. – Они обманывают народ…
– И какой смысл, Андрей Кириллыч? Свобода собраний?.. Разве у нас ее нет? Свобода слова? Ха!.. Ха!.. Да найдите мне за границей хоть одну страну, где безнаказанно печатали бы такие вещи, какие печатаются у нас… Ведь дальше в этом направлении идти некуда!.. Мы взяли все эти свободы… Сами взяли!.. Я не консерватор, Андрей Кириллыч!.. Вы сами знаете, что я европеец… Я всегда стоял за конституцию… Но то, что происходит теперь, извините меня!.. Это не политика, не история… Это какой-то кровавый бред…
– Это революция, Сергей Иванович… Не ищите здесь логики!..
– Позвольте! То, что они требуют от нас, фабрикантов, это утопии… Надо ни черта не понимать в политической экономии, чтобы во всех производствах требовать с бухты-барахты восьмичасового рабочего дня…
– Сейчас и не требуют…
– Нет-с! Извините!.. Это лозунг борьбы… Чего же они ждут?.. Чтобы мы закрыли лавочку и перевели капиталы за границу? Так и придется сделать, иначе мы все равно будем банкротами… Сколько безработных одна ноябрьская забастовка в Петербурге выбросила на улицу!.. А теперь сотни тысяч останутся без хлеба… Неужели вы думаете, что мы уступим? Я понимаю, Карл Маркс давал, как идеал, этот восьмичасовой рабочий день… Разве он где-нибудь говорил, что его надо ввести немедленно?.. Он был человек науки…
– Что же вы думаете делать, Сергей Иванович?
Мятлев широко развел руками над круглым брюшком.
– Спасаться, Андрей Кириллыч! Sauve qui peut!.. [Спасайся кто может! (фр.)] Вот что нам остается делать! Простить себе не могу, что не уехал за границу в ноябре и не увез Ольгу!.. А теперь куда уедешь? В деревню?.. Но там, говорят, пугачевщина начинается." Жгут усадьбы, амбары, с кольями идут на господ… Только что приехала моя кузина, рязанская помещица. Она бежала из имения… Да… да… Вы знаете, что они сделали?.. Вывели ее и дочь, только что кончившую институт, в парк, – не тронули, нет!.. Но подожгли дом и контору, где хранились планы и документы… И все сгорело… Можете себе представить?.. Чудная библиотека, зимний сад, картинная галерея…
– И документы?
– Ну да, конечно… Вы улыбаетесь?
– Нет, мне жаль картин и книг…
– А-га!.. Grâce à Dieu!.. [Слава Богу! (фр.)] Хоть чего-нибудь вам жаль! – не утерпел Мятлев. Он вынул платок, надушенный «Idéal», и провел им по вспотевшей лысине. – Разве это не варварство?..
– Они грабили?
– О нет!.. Не взяли ни одной тряпки… И даже ободряли хозяйку: "Не плачь!.. дескать. Не тронем тебя… Ты – барыня добрая…" Но им, видите, кто-то внушил, что земля их, что документы владелицы незаконны… Это психическая зараза!..
– А что говорит Ольга Григорьевна?
– Кажется, сдалась тоже… Кого не испугают их выходки? Я ловлю момент и тащу ее в деревню… Лошадей найму завтра… Довольно безумия! Эти «эсдеки» вот где у меня сидят!.. – Он хлопнул себя по затылку. – Терпеть, так уж лучше от мужиков!.. А может быть, там и тихо? Ведь у меня с ними всегда были самые патриархальные отношения…
Он вдруг встал, подошел вплотную к Тобольцеву, упершись в него брюшком, и взял его за пуговицу пиджака.
– Mon cher!.. Скажите… Вы в курсе дела… Неужели это правда, будто начнется вооруженное восстание?
– Напротив! Насколько я знаю, решено сдерживать массы и придать движению организованные формы. Даже демонстрации нежелательны…
– А вы видели, что сейчас на Тверской делается?.. Гулянье, толпа… Точно на Красной площади в Пасху… Экипажи движутся с трудом… Недостает только красных флагов…
Не успел он уехать, позвонил Капитон. "Тебя, Андрей, маменька ждет. Волнуется ужасно! Ну, деньки! Ее убьет эта передряга…" – Он был тоже возмущен. Он отказывался понимать психологию масс. Хотелось покоя после всего пережитого.
– У нас скандал в магазине. Пришли опять снимать с работы мастеров… А этот дурень Николай в сердцах ударил приказчика молодого. Стал ругать эс-деков. Тот защищать… Слово за слово!.. А потом за волосья…
– Какое безобразие! – крикнула Катерина Федоровна.
– Да уж чего хуже? Само собой разумеется, сдачи получил… Не те времена… Народ дерзкий стал… Ну, схватились… Насилу их разняли… Теперь заперли магазин… Чего уж там? Как бы не подожгли грехом!.. А с Николая дурь сошла, теперь трясется, от страха почернел даже… "И носа, говорит, никуда не высуну!.." Вы бы, сестрица, припрятали куда-нибудь деньги, серебро, что у вас есть… Такие слухи идут опять, что не приведи Господи!.. Будто в дома будут врываться и грабить…
– Кто??! – крикнул Тобольцев.
– Дружинники, что ли? Студенты, рабочие… черт их знает!
– И не стыдно тебе повторять такую чепуху?
– А ты помалкивай, братец!.. Знаем мы тебя! – Глаза Капитона вспыхнули враждой. – Мало того, что сам пропадешь… Жену подведешь из-за приятелей своих картожан…
– Капитон!.. Довольно!.. Этого я тебе не позволяю…
– Не смеешь мне рта заткнуть!.. Я из-за любви к сестрице говорю… Не тебя жаль, ее!.. Она не знает, что у тебя беглые ночуют… А ты думаешь, полиция дремлет? Держи карман!..
Тобольцев сдерживался, кусая губы и дергая себя за галстук.
– Я Серафиме приказал всю ее горку серебряную в углу разобрать да бриллианты из ушей вынуть… Все спрятать велел в кладовой… Не ровен час ворвутся…
– Фу, черт!.. Точно салопница…[262]262
Салопница (устар., разг.) – женщина, ходящая в поношенном салопе и просящая в богатых домах на бедность.
[Закрыть]
– Ладно!.. Кто камнем Конкиным в окно запустил вчера?
– А я почем знаю?
– То-то… Ты ничего не знаешь… А кто на Николая Федотыча напал на бульваре ночью?..
– Хулиганы, конечно…
– Вот-вот! Теперь разбери, который хулиган, который дружинник… Один черт!.. В темноте-то все кошки серы, говорит пословица. Оставили мирных людей без воды и впотьмах…
– Будет у вас вода!.. Будет…
– Ну, спасибо и на этом! – Капитон встал и поклонился в пояс. – А вы, сестрица, на него не полагайтесь! Всем он нам чужой теперь… На запоре живите и всех гоните в шею, кто ночевать попросится!..
Он ушел… Катерина Федоровна сидела, бледная и подавленная. Но Тобольцев был рассеян. Поцеловав ее в лоб, он собрался к матери. "Ждать тебя обедать, Андрей?" – "Нет, Катя, я вернусь позднее…" – "А детям можно гулять?" – "О Господи! Да почему же нет?.. Охота тебе Капитона слушать!"
Он вернулся в шестом, а через полчаса позвонили Таня и Майская. Наскоро поздоровавшись с хозяйкой, они прошли в кабинет, и все трое там заперлись. Но лицо у Тани было такое… необычное, что сердце захолонуло у Катерины Федоровны. "Мы к вам от Николая Федорыча", – расслышала она басистый голос Тани. "С огромной просьбой", – подхватила Майская.
Катерина Федоровна бессознательно встала и на цыпочках подкралась к двери. За стуком собственного сердца она не могла ничего уловить из быстрого, возбужденного полушепота Тани и удивленных вопросов мужа. Вдруг она явственно расслышала его голос: "Да ведь это безумие, Таня! Неужели никто из вас не видит, что это безумие?.."
– Молчите! Молчите… Мне больно вас слушать!.. Когда это говорят буржуи, я понимаю… Но вы? Как вам не стыдно подсекать нам крылья? Окачивать холодной водой в такие минуты?
– Так нельзя говорить!.. Безумие заразительно… А кто вам дал право вводить в обман массы и проливать чужую кровь?
Они разом оба стали кричать и спорить.
– Так вы отказываете? – вдруг перебила Таня с небывалой страстностью…
– Конечно, нет! Как можете вы в этом сомневаться?
– Ах, спасибо! – сказала Майская. – Если б вы знали, как трудно найти квартиру!..
– Да, но это не обязывает меня быть слепым, как вы… Ваши сведения неверны…
– Бессонова говорила…
– Да, но говорила в ноябре… Вы упустили момент…
Они опять заспорили. Сердце Катерины Федоровны бурно билось, и она ничего не могла понять. Вдруг опять явственно донесся голос Тани: "В десятом часу… шесть человек… Пароль "Софья Федоровна"… Запомните?.."
– Вы-то не забудьте!.. Дайте самый точный адрес! На углу городовой. Ни его, ни дворника не расспрашивать!
– Вы нас за идиотов считаете?
– Нет, просто за вахлаков… Прав Федор Назарыч, не доверяя конспиративным способностям интеллигента. А я вовсе не желаю пропадать сам из-за этого и подводить жену…
"Господи!.. Что еще такое?" – беспомощно думала Катерина Федоровна, и зубы у нее стучали. "Куда ты, Андрей?" – нервно крикнула она, когда они вышли в переднюю.
– Сейчас вернусь. Вот только провожу дам…
В квартире Майской было людно. "Здравствуйте, Тобольцев!" – окликнул его в передней молодой голос. Это была Соколова, в шапочке и пальто. Ее бледное, острое лицо улыбалось. Она ему протягивала обе руки.
– А-га! Вернулись?
– Спасибо вам!.. И за Дмитриева тоже… Он к вам собирается… Опоздай мы на один день, застряли бы на полдороге…
Вера Ивановна, Марья Егоровна и Иванцов были тут же, очевидно, с какими-то директивами от своей партии. Теперь все уходили и одевались в передней.
– Мы на митинг, в "Олимпию", – говорила Марья Егоровна. – Шебуев будет говорить… Интересно… Вы приедете?
– Ах, непременно! – Подхваченный общим настроением, он забыл о Кате, ждавшей его… Все это казалось сейчас таким далеким, таким бледным!..
– Какие дни, Андрей Кириллыч! – восторженно сказала Вера Ивановна, пожимая ему руку, и ее мужественное лицо с приподнятой черной левой бровью, с блестящими глазами, казалось сейчас прекрасным. – Я уверена, что мы победим! Если б вы знали, какое настроение в массах!
– Ах, вы романтики!.. Что вы за обаятельный народ!
В столовой его встретил Зейдеман. Бледный, с дергавшимися губами, он взял Тобольцева под руку: "Ах, эти женщины! Поговорите с моей женой, попробуйте! А я начинаю думать, что мы делаем огромную ошибку!"
Потапов бегал по гостиной, ероша волосы и не вступая в шумные споры. Но у него были такие глаза, что сердце невольно забилось у Тобольцева. Это было лицо Степана прежних лет, дерзкое, гордое… Это были те же синие глаза, покорившие когда-то юную душу эстетика огнем пылавшего в них фанатизма. Муки страсти, тоска по Лизе, переутомление, наложившее свои теки на это еще недавно больное лицо, где они?.. Казалось, каждая жилка трепетала в этом теле… Глаза Потапова обожгли внезапно лицо Тобольцева.
– Ах, Андрей!.. Ты!..
О, этот голос! Этот взгляд!.. Как долго помнил их Тобольцев!.. Спазм вдруг сдавил его горло, и он почувствовал, что весь с головы до ног дрожит от необъяснимого волнения… Какой-то сказкой повеяло на него от этого взгляда, от голоса Степана – прежнего голоса, могучего и ласкающего, как звук виолончели… Недавнее прошлое, интересы вчерашнего дня, Катя, дети, его сомнения, его удивление перед этим безумием, охватившим массы, – все исчезло, как будто он покинул мирные поля и вступил в заколдованный лес… Теперь он опять верил в чудеса, он беспечно несся по течению… Яркая сила Степана поработила себе снова его изменчивую душу и повела его за собой… Куда?.. Не все ли равно?.. Это был мир новых, прекрасных, безумно-дерзких переживаний!..
Молча Потапов ввел его в свою комнату, комфортабельную и светлую, где на всем виднелись следы любящей женской руки. Лиза печально и нежно глядела на них из рамки.
– Рубикон перейден[263]263
Рубикон перейден… – В нарицательном смысле: сделать бесповоротный шаг. Восходит к рассказам латинских историков о переходе полководца Юлия Цезаря через реку Рубикон в 49 г. до н. э.
[Закрыть], Андрей!.. Все наши старания удержать рабочую массу разбились об это удивительное революционное настроение. Попробуй удержать воду, когда плотина сорвана!.. Мы бессильны. Но и отстраниться мы тоже не можем. Да! Мы сознаем весь риск… Если хочешь знать, Андрей, я даже предчувствую гибель, По… камень брошен… Он должен долететь до дна!..
– А ты? – трепетно сорвалось у Тобольцева.
Синие глаза вспыхнули. "Я? – Он ударил себя в грудь рукой. – Я счастлив! Вчера в первый раз я вздохнул свободно. В первый раз почувствовал снова ценность жизни… Ты знаешь? Без борьбы она не имеет для меня ни красоты, ни смысла… А если гибель? Что ж? Я к этому всегда готов! И разве это не во сто раз лучше, чем сгнить в каменном мешке?"
Тобольцев подошел, и они крепко обнялись… Вдруг Потапов отклонился, положил руки на плечи Тобольцева и посмотрел ему "в самую душу"…
– Андрей… А ты?
Тобольцев вздрогнул, как будто электрический ток прошел по его нервам.
– Я с тобою, Степушка! С тобою… В жизни и в смерти, всегда!..
– Ах! Я это знал!.. Я это знал!..
– Я всю жизнь ждал такого мгновения… Еще подростком, когда читал "Отверженные"[264]264
Я всю жизнь ждал такого мгновения… когда читал «Отверженные». – Имеется в виду романтически-приподнятое изображение в романе революционных июньских выступлений 1832 г. в Париже.
[Закрыть]… Степушка, я так счастлив сейчас…
– Ах, Андрей!.. Если б я в тебе разочаровался… Ну, да что там! – Он взялся за грудь рукою. – Иногда мне кажется, что сердце не выдержит!.. (Вдруг лицо его изменилось.) А жена твоя, Андрей?.. У тебя дети… Я свободен, не ты… Кто знает, что будет с нами завтра?
– Что бы ни было, Степушка, я благословлю судьбу за то, что она подарила мне эти дни!.. Жизнь мне дорога не привычками, не привязанностями, а ее трагизмом, теми переживаниями, которые она мне несет… А что касается долга и обязанностей, я смотрю на это иначе, чем вы… (Он задумчиво ходил по комнате.) Ты не читал, Степушка, Ницше. Ты его не любишь… А мне вспоминаются сейчас его дивные строки: "Ты должен лежит на пути свободного духа. Как блестящий чешуйчатый зверь, лежит оно на его дороге, и на каждой чешуйке золотое ты должен сверкает…"
– Красиво! – прошептал Потапов.
– А дальше… "Некогда, как святыню, любил он ты должен. Теперь, чтоб расстаться с своею любовью, он должен понять и увидеть, что в святыне его лишь произвол и заблуждение царят. Хищному зверю подобно, свою добычу тогда он похитит!.."
– Какая сила!..
– Не правда ли? И поэзия какая! Мудрено ли, что он долго еще будет властителем дум?.. И если я тебе скажу, Степушка, что эти слова легли в основу моего нового миросозерцания, что в них – мое евангелие, то тебе будет понятно, почему в эту минуту я чувствую себя таким же свободным и одиноким, как и ты!..
Потапов встал с кресла и подошел к портрету. Мягкий свет палевого абажура падал на лицо Лизы, придавая ему теплые, жизненные тоны. Долго, в глубоком волнении, он глядел на портрет.
– Лиза!.. Зачем тебя нет!? – горестно прошептал он.
Вместе они вышли в гостиную.
Зейдман говорил: "Нам бросят когда-нибудь в лицо упрек, что мы сознательно обманывали массы".
– Пусть бр-росают! – гордо возразила ему жена. – К кто бр-росит? Тот, кто с нами, это не сделает. А кто не с нами сейчас, тот нам вр-раг!.. А я тебе скажу: мы не можем, мы не смеем выпустить из рук наших власть над толпой в такой момент! Иначе песня нашей партии спета!
– Браво! – горячо сорвалось у Потапова.
– Скажу даже больше: между нами есть такие, которые верят, что завтра принадлежит нам…
– Блажен, кто верует! – сказал Тобольцев вполголоса, но таким глубоким, трепетным звуком, что все головы обернулись в его сторону. Потапов тихонько пожал его руку.
– Есть такие, которые в этом сомневаются… Но, если б даже мы все тут знали наверно, что нам не опереться завтра на тех, от кого мы ждем помощи, – мы все-таки должны были бы крикнуть массе эту священную ложь!
– Зачем? – горестно сорвалось у Зейдемана.
– Чтоб подсчитать наши силы… Только бой покажет, насколько мы сильны и на кого мы можем рассчитывать!
Поднялся жаркий спор. Но Тобольцев, простившись с Потаповым, потихоньку скрылся. Было пусто и тихо, как в октябрьские ночи, на бульваре. Глубокая тьма опять разлилась по городу и словно утопила его. Ни прохожих, ни извозчиков, ни городовых… Тобольцев шел, улыбаясь тому, что росло в его душе. Четко звучали на морозе его шаги, и в ритме их он слышал: "Камень брошен… Камень брошен…"
Тобольцев подошел к квартире Сони и постучал в угловое окно, где еще горел свет. Мгновенье… и этот свет затрепетал, забегал по потолку и стенам, задрожал в другой комнате, исчез… В сенях, за дверью, послышались легкие шаги. "Это ты?" – расслышал он ее голос. "Это я!" – ответил он громко, потому что сердце его стучало…
Но почему стучало его сердце?
Она откинула крючок. Он вошел, наклоняясь, и запер за собой дверь подъезда. Они стояли в сенях, в темноте. Полоска света слабо тянулась из передней и ломалась на сверкающей мраморной белизной голой ножке Сони. Она была в туфельках, в короткой юбке, с теплым платком на голых плечах, который она крепко держала у горла… Сердце ее так бурно колотилось в груди, что говорить она не могла… Почему она знала, что будет так?.. Все будет именно так?.. Постучится и войдет… и возьмет ее всю… ее, изнемогающую от прозы жизни, от жажды счастья!
Он слышал, что даже зубы ее стучат, но не понял. Слишком далека от нее была его душа!..
– Сонечка, прости! Я испугал тебя… Такой холод здесь! Ты простудишься… Войдем!..
Они вошли в переднюю. Он, такой же рассеянный и далекий. Она, ожидающая, отдающаяся, покорная… На полу стояла свеча. Пламя трепетало от струи холода, тянувшей из сеней, и свеча быстро оплывала. Тобольцев запер дверь. Белые ножки сверкнули, как полированный мрамор. Тобольцев взглянул на них как-то бессознательно и словно опустил это впечатление куда-то глубоко, на дно души… А она ждала, почти не дыша от волнения, вся дрожа с головы до ног перед ним, наполнявшим ее ночи знойными грезами… О! Как далеки, как бесконечно далеки были ее гордые, безумные девичьи грезы!.. Взять его себе всецело? Отнять у сестры, разбив ее жизнь?.. Нет!.. Нет!.. Она его давно поняла. Она и себя поняла… Быть его капризом, его вещью, забавой, забвением?.. Пусть! Не все ли равно? Прекраснее этих минут жизнь ничего не подарит ей!.. Но и без них не стоит жить!.. Она это знала.
– Соня, ты мне нужна завтра с утра. Придешь?
– Да! – точно вздохнула она.
– Но, видишь ли, Соня… Я не хочу скрывать от тебя опасности… У меня соберется завтра… Впрочем… тебе это безразлично кто… Соберутся мои единомышленники. Я дал слово – помочь, чем могу… Нас всех могут арестовать, если проследят… Ты готова к этому? Ты не пожалеешь?
Она молча качнула головкой с выражением беззаветной готовности. Он взглянул в ее лицо. Озаренное снизу свечой, с тенью под глазами, полускрытое волной волос, оно показалось ему чужим. Ее глаза, широко открытые, неподвижные, немые, были полны какой-то огромной, мистической тайны… Она ждала… Вдруг она бессознательно разжала руки, и он увидел ее тело, ее сверкающую грудь… тонкую полоску белорозового мрамора между складками платка… Но и это впечатление он бережно опустил на дно души, как прячут неожиданно доставшуюся драгоценность… Он вынул часы… Пора!..
– Так до свидания, Соня! Помни же: с десяти до шести… Спасибо тебе! – Он взял в руки ее головку, внезапно склонившуюся, как стебель увядшего цветка, и поцеловал ее в лоб.
Его шаги уже четко звучали в переулке, а она все еще стояла недвижно… Платок соскользнул с ее плеч. Полные отчаяния глаза ее тупо глядели на оплывшую свечу…
Тобольцев в эту ночь вернулся поздно с митинга и долго не мог заснуть и согреться. Он поймал себя на том, что крался в свою комнату и, отворяя парадную дверь своим ключом, задыхался от волнения. Но жена его, разбитая ожиданием и страхом, уже спала… "Слава Богу!.."
В девять утра он проснулся, словно что толкнуло его, и сварил себе кофе. В половине десятого раздался звонок. Жена еще спала. "Какая небывалая аккуратность для интеллигентов!" – подумал Тобольцев и пошел отворять сам.
Вошли двое: высокий, тонкий брюнет еврейского типа, с прекрасными и печальными глазами, и хмурый маленький блондин.
– От кого? – спросил Тобольцев, пронзая их загоревшимся взглядом.
– От Софьи Федоровны, – мягко улыбнулся брюнет.
"Какая чудная улыбка! Он похож на Бёрне…"[265]265
Берне Людвиг (1786–1837) – немецкий писатель и публицист, один из глашатаев так называемого христианского социализма.
[Закрыть]
Они крепко пожали руку Тобольцева.
– Пожалуйте сюда! – сказал он, сияя глазами, и отворил дверь кабинета. – Будьте как дома! Кофе хотите?
– Нет, спасибо… Вот если засидимся, тогда самоварчик. Вас предупреждали, что мы можем остаться до пяти?
– Да, да… Шесть человек?
Блондин переглянулся с брюнетом и пожал плечами.
– Трудно сказать, – вяло ответил он. – Будут курьеры…
– Ну, это дело ваше, господа! Я вам не мешаю… Мне только хочется вам задать один вопрос: скажите… вы, конечно, понимаете все значение этого дня?.. Эти дни исторические… Но… готовы ли вы к поражению?.. Или же вы твердо уверены в победе?.. Не отвечайте, если находите это неудобным. Но меня интересует психология революционера.
Печальные и кроткие глаза обласкали словно все лицо Тобольцева, когда брюнет слабо улыбнулся.
– Мы плывем по течению. Что мы можем сказать кроме этого?
– О! Это еще далеко от энтузиазма, который один зачастую создает успех!.. Кстати, известно ли вам, что, несмотря на данные директивы, вчера некоторые заводы закрылись и с флагами и песнями шли снимать других?
– Да, да!.. К сожалению, это так… Мы не можем направить движение в русло, не можем придать восстанию организованные формы… Все разбивается о настроение масс… Оно достигло такой высоты и напряжения…
– Ах, да разве не в этой стихийности вся ценность данного момента, как это было в октябре?
– Все это так! Но мы предвидим ряд промахов и гибельных ошибок, – вмешался угрюмо молчавший блондин.
Брюнет опять улыбнулся своей красивой улыбкой.
– Что делать? Мы сожгли за собой корабли… Судить нас будет история…
Тобольцев пошел к двери, когда его остановил блондин.
– Кстати, вы были вчера в "Олимпии"? Ходят такие слухи…
Тобольцев предложил гостям курить, сел на тахту и рассказал, что видел и пережил сам; как все они, бывшие близ эстрады, спасались через сад и двор соседнего дома. Его слушали напряженно, закидывали тревожными вопросами. Когда Тобольцев выходил, брюнет крепко пожал ему руку.
– От имени всех нас благодарим вас за услугу… Вы не можете себе представить, как трудно было найти квартиру!.. Страх растет в обывателях, и с каждым часом редеют ряды наших союзников!
Блондин тоже хмуро и застенчиво стиснул руку Тобольцева.
Соня пришла в десять. Лицо у нее было больное и маленькое. Блестящие всегда глаза угасли. Но, увидав улыбку Тобольцева, она опять поняла, как бесконечно далек он от нее… Бегло пожав ему руку, она прошла к проснувшейся сестре. "Что это значит? Почему ты здесь?" Соня рассказала. Катерина Федоровна слушала, бледнея:
– Позови Андрея!
– Почему ты меня не предупредил? – спросила она.
– Ты спала… Я не хотел тебя будить.
– Как ты смел решить без меня? Кто эти люди?
– Мои друзья! – Холодом повеяло от его голоса и лица.
– Андрей… Я предчувствую что-то ужасное… Я вчера догадалась, когда пришла Таня… Зачем ты Соню впутал?
– Она мне нужна. Я не могу допустить прислугу…
– Боже мой! – Она помолчала, закрыв лицо. – Скажи, по крайней мере, когда они уйдут?
– В пять часов. Не бойся, Катя… Мы приняли все меры…
Раздался звонок. Тобольцев кинулся в переднюю.
– Соня! Не забудь пароль! – кричал он на ходу.
Через час, покормив девочку, Катерина Федоровна вышла в переднюю. Тобольцев топил печку и, сидя на табурете, глядел в огонь. Соня в столовой хлопотала за самоваром. Голоса гудели в кабинете. Там уже было десять человек. Тобольцев постучался.
– Чаю хотите, господа?
– Пожалуйста… Пожалуйста…
Они с Соней внесли и поставили на окно самовар, чайник, посуду и закуску… Дым сизыми волнами плавал по комнате. Даже лица было трудно рассмотреть. Все смолкли и с интересом глядели на Тобольцева и на Соню.
С двенадцати звонки стали раздаваться все чаще. Тобольцев два раза прогнал выглянувшую няньку. Она пожала губы и побежала к барыне. "Гостей-то! Гостей!.. Чудеса!" – говорила она и покачивала головой. А у Катерины Федоровны падало сердце… Она вздрагивала при каждом звонке. "От кого?" – слышала она спокойный голос мужа. "От Софьи Федоровны", – звучал ответ. "Как это дико! При чем тут Соня?"
Соне тоже было странно и в то же время лестно слышать свое имя на всех устах.
Катерина Федоровна сидела у окна и глядела на улицу. Там было тихо. Два дворника разговаривали, сгребая снег. Извозчик на углу, обвязанный от мороза платком поверх шапки, ходил около саней и похлопывал в рукавицы. На большом дворе, наискосок, дети играли в снежки, и веселый визг их было так странно слышать в эти минуты… Вон прошла гувернантка с двумя девочками в зеленых плюшевых капорах. Кормилица в шубке и нарядной кичке[266]266
Кичка – старинный русский головной убор замужней женщины, полностью скрывающий волосы.
[Закрыть] вынесла младенца… «Все живут… всем легко!» Вон двое гимназистов с румяными щечками, весело болтая коньками, пошли на каток… Это дети соседа из серого дома… «Счастливые!» Вдруг она увидела, что барышня на углу подошла к городовому. «Это к нам, – поняла она. – Но зачем же она спрашивает?.. Неужели они все спрашивают?..»
– Андрей, поди сюда!
Да, они глядели на дом. К ним подошли дворники. Стали советоваться. Барышня озиралась на окна.
– Черт знает, что такое! – рассердился Тобольцев. Он без шапки выскочил на подъезд и столкнулся с входившей на лестницу девушкой.
– Скажите, вы не знаете, здесь номер двадцать три?
– Третий, вы хотите сказать? – резко перебил ее Тобольцев.
– Ах да… Может быть, и третий… Я не знаю наверно…
– В таких делах, сударыня, все надо знать наверно, а не расспрашивать городовых да дворников… Пароль? – сурово спросил он в дверях квартиры.
Когда она вошла в кабинет, он кинулся в столовую, бледный от злобы.
– Вот через таких дур сколько народу пропадет еще? Узнаю наших интеллигентов!.. Даже адреса точного дать не могут… Нарочно прибил у парадного хода мою карточку… Доска на двери есть… Нет-таки!..
– Здесь квартира двадцать третья? – спрашивали многие Тобольцева после звонка. – Пароль? – сердито обрывал он.
– От тети Кати! – сказал один брюнет в шубе нараспашку и с душой нараспашку, судя по его улыбке и глазам.
– Что такое? – спросил Тобольцев, загораживая вход.
– Ах да! – И брюнет добродушно расхохотался, махнув рукой. – От Софьи Федоровны… Честное слово, совсем забыл…
"Экие вахлаки!.." – думал Тобольцев.
В кабинет входили в шапках, пальто и калошах. Сидели не раздеваясь или сбрасывая пальто на диваны. Тобольцев подал уже третий самовар. Чаю все были рады. Мороз крепчал. Курьеры были голодны. Соня не успевала мыть стаканы. К трем часам набралось уже около тридцати человек. Два раза приходила Фекла Андреевна, один раз Наташа, потом студент Кувшинов. Все, с темными глазами и взволнованно смеясь, пожимали руку Тобольцева. "Интересно! – на его вопрос ответил Кувшинов и встряхнул волосами. – Не каждый день такие впечатления переживаешь…"
Одни уходили, являлись другие. Целый калейдоскоп лиц прошел перед Тобольцевым. Внезапно явился Потапов. Гул голосов встретил его, когда отперлась дверь кабинета. Она захлопнулась, и жужжанье голосов напоминало звуки улья.
По коридору, взад и вперед, мимо Сони ходила недавно пришедшая Катя Кувшинова. У нее было необыкновенное лицо, полное какого-то торжественного мира, словно она шла от исповеди. Соня мягко предложила ей чаю.
– Нет, благодарю… Боюсь не успеть… Мне сейчас дадут поручение…
– А вам не страшно попасть под пули?.. Нянька прибежала сейчас из молочной. Говорит, что где-то стреляют.
– Да, с утра стреляют во многих местах… Но это все равно!.. Мы на это идем…
К ней подошел Тобольцев.
– А вам муж, Катерина Дмитриевна? От тоже курьером? Он был здесь час назад.
– Я его с утра не видала… Мы с ним простились, – как-то необычайно просто сказала она, но у Сони мороз пробежал по спине.
Тобольцев схватил руки Кати.
– А ваша девочка?
– Мы ее отдали знакомым… Если с нами что случится, ее отвезут в деревню, к бабушке… – Ее ясные глаза глядели через их головы куда-то вдаль. Звук голоса был глубокий и нежный, и в нем звучало отречение.
Тобольцев потер лоб, словно силясь что-то понять, потом ушел в столовую. Соня подошла к нему, потрясенная выражением его глаз, и мягко положила руку на его плечо.
– Сонечка… Мы с тобой видели сейчас героиню… Время шло, и настроение заметно менялось. Курьеры подъезжали, взволнованные. Получив директиву, зажав в руке или спрятав на груди бумагу, мчались назад. Дверь подъезда внизу гулко хлопала. В передней, несмотря на топившуюся бессменно печь, стоял холод, и Соня кашляла, кутаясь в платок. Тобольцев пил чай, сидя на табурете у печки.
Приехала Софья Львовна и тоже прошла в кабинет. Немного погодя она вышла и окликнула Тобольцева: "Послушайте! Нам там нечем дышать… Уступите нам еще одну комнату!"
– Откуда вас столько набралось?
– Узнали, что вы дали квартиру, и кинулись сюда… Вы думаете, легко найти? Обыватель отшатнулся… А ваша Засецкая…
– Почему же она моя?.. Ха!.. Ха!..
– Ну, да об этом потом… Ради Бога, дайте комнату!.. Мы – районные… Мы только там мешаем и путаемся…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.