Текст книги "Тонкая нить (сборник)"
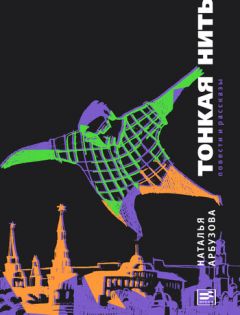
Автор книги: Наталья Арбузова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Неясное будущее пробивалось слабыми ростками, точно березка на балконе из раздробленного углового кафеля. В начале лета та, павловопосадская Ульяна родила сына Василья. Втируша Ильдефонс примчался проверить, нет ли тут чего из ряда вон выходящего. Так, на вскидку, ничего интересного не обнаружил, и Ульяшины родители его в одночасье выпроводили. Окраинный сгусток рассредоточенного мегаполиса навалился на Илью Федоровича враждебными выбросами и выхлопами. Сел, вытирая слезящиеся глаза, в сквере, доброго слова не заслуживающем. Раскалившийся на солнце пегий Ильдефонсов жигуленок отдыхал, уткнувшись мордой в жесткую травку. Илья Федорович уж было задремал, когда над ухом его произнесли строго: «Смотри за ним, он из обоймы». – «Есть смотреть!» – воспрял духом Ильдефонс, стряхнул сон и полез в машину.
Не получалось, хоть плачь, Павлово-Посад не принимал – ни усатого няня Ильдефонса, ни ласковой Валентины, и двойников Васяткиных родителей, Великого Магистра с сестрой милосердия не удавалось подсунуть. Что-то чуяли, неусыпно бдели. Бабушку Светлану с ее прорабом-мужем – пожалуйста, скупого Виктора Энгельсовича за милую душу. Приехал из Торопца Энгельс Степаныч с женой – привечали, не спрашивали, не с того ли он света. Настасьи Андревны прежде не видали, а старик, живой и крепкий, назвался Нилом Степанычем, то и не въехали толком. Так не опознавши и проводили. А всем этим мутным от ворот поворот… непробиваемый заслон, железный занавес. Голова ребеночка еще светилась в темноте где-то до года. Потом перестала, и первое слово его было: дай. Дальше всё как у всех.
Прадедушку Энгельса, не поленившегося ехать за сто верст киселя хлебать – повидать Васятку – ныне отпустили. Вернулся в Торопец – Настасья Андревна, следовавшая теперь за мужем, ровно нитка за иголкой, вроде бы ничего плохого не заметила. Вошел в дом, доставивший ему, хозяину, столько треволнений. Лег под образа, лишь недавно повешенные – год назад крестился во имя пустынника Нила, следом за всеми. Отщепенцем стать не мог, не так воспитан. Лавка постелена была шерстяным половичком – вторая жена вязала. Поворотился на спину, ненароком скрестил руки, уснул, да так хорошо, что и не проснулся. А куда ты пошла, его душенька, а и много ль тебе помог сильный твой святой? Похоронили – так на кресте и написали: Нил Степаныч Кунцов. Живи, ядерная физика, не помни имени своего тюремщика.
Наступленья полного сиротства Виктор Энгельсович не ощутил, поскольку примирился со смертью отца полтора года назад. Внук его мало трогал, и рана, нанесенная отъездом дочери, не заживала. Вероника Иванна попробовала было сунуться на Войковскую, но дальше порога не проникла – долго заикалась после неудавшегося визита. Что опоганенный Альбиною дачный участок ему возвращен, Виктор Кунцов знал. Даже дал Валентине устное разрешенье – по телефону – там строиться, но появляться в тех краях не осмеливался. Зрелище коттеджа, рушащегося подобно карточному домику, его преследовало. К тому времени завелись у Виктора Энгельсовича друзья-собутыльники, готовые принимать его на своих дачках всякое воскресенье, да еще привозить-отвозить на собственных машинах. Аккуратно ставя ноги промежду грядок, входил он в их тесный угодливый мирок. Садился за садовый столик, ел ихние кабачки и милостиво молчал. Круговое это гостеванье импонировало скупости Виктора Энгельсовича. В будни сидел на кафедре, в своем кабинете, с початой бутылкой в холодильнике плюс непочатая в дипломате. Своего собственного адреналина у Виктора Энгельсовича больше не вырабатывалось, но он хмуро терпел, пил лишь по окончании рабочего дня – дисциплина была у него в крови. Отпуск проводил в санатории, пристрастившись к режиму – не из роду, а в род. Зимние каникулы отпуском не считал. Вот и весь отчет о жизни Виктора Энгельсовича. На Войковской уж все домовые спали, когда он появлялся. Сейчас, мартовским талым днем, сидит он на большой перемене в аудитории с портретами математиков под потолком. В крыше окна, на одном валяется дохлая ворона, хорошо видная через стекло. Роковой, контрольный, тот самый день, но Виктору Энгельсовичу ни к чему. Проставляет оценки за блок в ведомость. Прячет ее в дипломат, отягощенный бутылкой. Не успевает защелкнуть – растворяется окно наверху. Возле распахнутой рамы, расставив неловкие ноги, стоит Ильдефонс. Склоняет в люк бесформенную голову, говорит негромко: пора, Виктор. Профессор Кунцов хватается за левый нагрудный карман, будто что ища, и оседает на стуле, уронив открытый дипломат. Подружка-бутылка подкатывается ему под ноги, и никто никуда его не зовет, и никто ни о чем не спрашивает.
Люблю тебя в зелень одетой
Когда загорелись торфяники – не сейчас, в эту аномально сухую, чертовски красивую осень – нынче дымит по мелочи, а в девяносто девятом горело как следует – из вредности не тушили, пусть горит ясным огнем. Что где выгорело, тут же под коттеджи, деньги на бочку. Горелая вырубка вблизи военного городка осталась нераспродана – должно быть, зарезервирована под его расширенье. С ближней опушки корпусов не видно, получился во такой новый пейзаж. Березняк выгорел чисто… то-то небось полыхали березовые поленья в полтора обхвата. Уцелел далеко выступающий клин сосен – очень похоже на альпийские фотографии в семейном альбоме доцента Антона Ильича Кригера. Несмотря на столь жесткую фамилию, человек этот робок и растяпист. Осьмушка немецкой крови в нем давно обрусела, задавленная семью восьмыми долями русской. Однако за глаза никто его иначе как немцем не зовет. В глаза же чаще всего называют Ильичом. Худой, нервный, сидит на пне. На двух соседних расположились друзья его: художница Нина Изволова, столь же худая, но несколько более спокойная, и муж ее Ярослав Захотей – изрядно красивый, однако толстяк, хватило бы на троих. По дальней опушке, освещенной солнцем, стройно проходит Аполлон Мусагет – ведомые музы пританцовывают под неслышные здесь звуки его лиры, цепляя пни легкими одеждами. Ближняя опушка в распоряжении Пана: он крадется в тени подсушенных пожаром сосен, водя темными губами по немецкой губной гармонике… свирель вчера потерял где-то поблизости… а, вот и она. Отшвырнув гармошку, заводит свое на свирели. За ним зачарованно следуют козы Зинаиды Андревны Соковой – та поотстала, продираясь сквозь ветвистый недавний валежник. Поет хорошо поставленным меццо-сопрано: сама садик я садила, сама буду поливать. Не как-нибудь, а ездит в хор при московской мэрии. Мотают выменами породистые козы с серьгами в ушах – длинными локонами шелковистой вьющейся шерсти. Крепко сдружились – Пан, Зизи и умная коза Бэла, предводительница стада из четырех голов. Остальные три образуют кордебалет: еще две белые, одна темно-серая. Антон Кригер провожает печальным взором обе процессии: дальнюю, что на солнце, и ближнюю, что в тени. Да, Нина… они заблуждаются относительно своего превосходства… Такие же неряшливые, неумные и вороватые… Так же чистят картошку, сидя на корточках, и ходят в халатах по улице… Только лишены детской непосредственности узбеков, их щедрости, ощущенья праздничности жизни… Подумаешь, цвет нации… Партийные колонизаторы. Это он пыхтит на русско-татарскую семью Маматовых, унесенную ветром из ташкентского пригорода и нагло гребущую все преимущества статуса беженцев. Нина, они живут ненавистью… Этот Владислав Маматов дежурит на Казанском вокзале, ездит весь день в электричках… Понимает узбекский, таджикский и еще какой-то кулябский… Отлавливает чурок, гребет деньги… Бедных, только что приехавших тащит за шкирку в опорный пункт комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков… Их там нещадно бьют… Слухом земля полнится… Сам же и бьет… Приходит здорово накачавшись… Вижу около него черный круг… вот как этот уголь. – А возле меня какой? – Светлый, Нина и очень ровный. Как ваши фрески? подвигаются? – А то! конечно. «Сама садик я садила» уж не слышно, Ярослав заводит «За родником белый храм». Слуха нет, но голос приятный – бывает и так. Антон Ильич, дриада появлялась? вот Нина хочет ее ваять. – Приходила… только она уже изваяна… «Березка» Голубкиной… один к одному.
Я да Саня, да еще через улицу Максим – разбирались с немцевой березой долго. Я как увидел, что нам двоим не в подъем, позвал – помоги, дрова заберешь для бани. Он согласился. Придурок немец как уехал на месяц, весь месяц и пилили. Полтора обхвата. Но лучше один раз спилить, чем всю оставшуюся жизнь грести эти гребаные листья. Саня один раз сгреб и говорит: пилим, папа. Немцу делать нечего… по весне крышу подметал, свою и нашу. Больше не будет, не с чего. Рябину его, четыре ствола, завалили при нем. Первый ствол срезали – на него столбняк нашел, три дня говорить не мог. За три дня мы с рябиной управились. Последний ствол ловко отвели веревкой и обрушили за дом, на его колючку. Та была невысокая, вровень с немцевым балконом, а крона во весь немцев палисадник. Листья как у пальмы, опадали целиком, и оставалась слегка разветвленная культя. В воскресенье немтырь, чуть живой, поехал экзамен принимать – у них в вузе без выходных, когда сессия. Мы успели покончить с его жасмином и сиренью. Пни тут же выкорчевали, чтоб ничего нельзя было доказать. У него не сад, а лес – плодов не дает. Липа была на границе с нашей землей, нечего и спрашивать. Туды ее. Осталась береза, но это дело долгое. Запасли скобы, купили здоровенный удлинитель, одолжили у Максима циркулярную пилу и ждем. Наконец экзамены кончились, маразматик выкатился куда подальше. Саня так на березе и торчал, опиливая сучья – не за всякой нуждой спускался. По вечерам жег костер до неба. Я ему обещал: построю вроде бы гараж на две машины, на самом деле летний дом над гаражом, и запишу на его имя. Он и старается. Пусть строит, а писать на него смысла нет… Еще какая невестка попадется… потом будешь локти кусать. Пока парень тихий, восемнадцати нет. А там, глядишь, такой прорежется голос! Мы с Татьяной это уже проходили… Нике двадцать… Как записали на нее свою часть дома – живо тон изменила. Но так уж пришлось… Я должен был по генеральной доверенности от прежних хозяев оформить дарственную на кого-то, а прописка была только у меня и у Ники. Татьяна с Саней не выписываются из Бекабада… Теща уже одну квартиру толкнула и деньги зажала… Говорит, пришли бандиты, отняли… Знаем мы этих бандитов… никому не верь… себе самому, и то когда трезвый. Березовый пень не выкорчевали – корни уходят к соседу Троицкому, с ним лучше не связываться… не тот случай. На пне Саня пилит Максимовой пилой шлакоблоки. Респиратор – фигня… только время тратить… надел, снял. Мои отец-мать всю жизнь на вредности проработали, и ничего… до самой смерти на ногах. Даже на пенсию не ушли. У детей не побирались, что нужно – было. Ну, у меня вообще все было… машина, гараж… трехкомнатная квартира. Работать надо, а не сидеть… Чурки мне заплатят за все, что я потерял.
Нет хуже мертвой черной пыли на пне, где я сижу. У мальчика грустные глаза и впалая грудь. Один из всей семьи носит крест. Я обхожу стороной, мне нельзя. Старый немец видит больше других. Говорит друзьям художникам: у Сани впереди какая-то страшная болезнь, не то увечье… энергетическая оболочка со вмятиной. Э-гей, березовые дриады с вырубки! иду к вам. Цветов уж нет – венки из желтых листьев совьем. Сгорело твое дерево, подружка? Мое спилили… Будем танцевать.
Нина, гляньте! Почему-то к Ярославу Антон Ильич никогда не обращается… может быть, обозначает именем Нина обоих супругов. Вон они, танцуют в венках… как у Камиля Коро… Кто? Ну березовые дриады… голубкинские голубки. Я и свою вижу – дальнозоркими глазами… Вот она наклонилась, подняла венок… платье льнет к ней на ветру… зеленое платье. Как вы всё это разглядели, Антон Ильич? Нина, моя – явная прима… А те кордебалет. Пошла исполнять свои вариации… А те стали полукругом. Ни с кем ее не спутаю… Так любил березу… засыпал и просыпался под ее шум. Après de mon arbre je vivais heureux. Теперь закрываю на весь день окна от черной пыли… живу тут, на вырубке. Нет худа без добра – поэтичное получилось место… пожар способствовал к украшенью. И козы, и музы, и сонм безработных дриад… Я ведь тоже без работы… Устраиваться на новое место боюсь… Голосовые связки то слушаются, то не слушаются… на нервной почве… А маматовской оккупации конца не предвидится… Так что улучшенья ждать не приходится. Полно, Антон Ильич, вы с нами разговариваете без сучка без задоринки. Так ведь это с вами, Нина! «Антон Ильич, – кричит издали Зинаида Андревна, – за молоком приходите после семи!» Ее собака Брешка добавляет: «Ау-у…»
Я из крымских татар, моих Сталин к чуркам выселил. Но это ничего не меняет, Сталин остается Сталиным. Вон он у меня на груди… татуировка… лучи от него исходят… А на запястьях имена жены и детей… самое дорогое. Крымские татары научили чурок всему… рыть новую яму в стороне от отхожего места, старую засыпать, будку переносить. Без них чурки уделались бы выше головы. Все они таковы… ходят на четвереньках. Армяне, грузины… в общем, черные. Взял двоих узбеков – делать фундамент… перекосили нафиг. Сложили полэтажа и просят денег – жрать им, понимаешь, нечего. Не дал, выгнал. Позвал других – не идут. И не надо… Саня справится. Мы там были уважаемые люди, и здесь будем. Пять лет без канализации проживем… туалетное ведро в снег выливаем – гараж построим по первому разряду. Пусть пока без машины… на будущее… будущее светло и прекрасно.
Ну конечно, Нина, немецкий я понимаю лучше английского и французского, хоть и не учил. Мы же с вами жили на немецких книгах по искусству и немецких пластинках. Чего там понимать… ich träume, ich sterbe. А венгерские книги по искусству у меня только ради картинок. Венгры, я думаю, больше всех усердствовали при возведенье вавилонской башни… никто их не понимает. Ярослав… (ага, наконец-то заметил, что Нина не одна) сколько может стоить плеер? – Смотря какой, Антон Ильич. – Самый обыкновенный… Лишь бы наушники были зверские… не слышать ихней попсы. – Наушники, Антон Ильич, придется купить отдельно, тогда будут зверские. Две тысячи на все про все. – Рублей? – Конечно. (Вздох облегченья.)
Подходит к дому. Издали слышит: бум, бум, бум… ведь это был мой первый раз… ну что ж ты сразу не сдалась… как сильно я тебя хотел… но до утра не дотерпел. Мальчик кашляет, сидя верхом на стене – уже почти этаж. Что узбеки сложили, то как раз ровно. Углы не прямые, но место для котлована Маматов-отец разметил сам, его грех. Кладка Сани никуда не годится… дутая, как пакет с прокисшим кефиром… продавилась наружу – парень висит над пустотой. Антон Ильич хочет сказать ему, но связки отказываются повиноваться, как и всегда, когда нужно обратиться к соседям. Держась за горло, проходит к себе на раскаленную веранду. Задергивает занавески от вконец обезумевшего октябрьского солнца. Поскорей греет обед, стоящий на плите. Ест, давясь, моет посуду, хватает сумку на ремне. Спешит с одной вырубки на другую – с садовой на лесную. Мысль пришла, пока обедал… слава богу… есть что писать, во что уткнуться носом. Философия в России начала двадцать первого века… qu'est-ce que c'est? Никто не знает. Дело одиночек-бессребреников, стало быть, его дело. Кто-то не открывающий своего лица бросает ему вызов… Вызов принят.
Я ее видел… вот как пень березовый вижу. Только что слез со стены… сумерки, гарь, розовое небо, песок под ногами хрустит – пополам с цементом. Сидит, ступни босые ровненько поставила, платье короткое на коленях одергивает. Зеленое платье. Поет тоненьким голосом, неясно так: а снится нам трава, трава у дома – зеленая, зеленая трава. Какая там, к черту лешему, трава… чурки все засыпали нафиг, когда котлован рыли. Забор немцев мы с батей снесли, чтоб можно было к дому подогнать хоть самосвал, хоть подъемный кран. У идиота теперь не участок, а проезжая дорога. Сам хожу – полные сандалии крошки от шлакоблоков… а она босиком. Хотел подойти – ноги не слушаются. Сердце колотится, и крест на груди весь перекрутился. Нечисть лесная… А красивая, блин.
Этот угол поселка беден, аж щемит. Машина со свалки покрыта линялым кумачом, буквы облупились – не разберешь, за что боролись. Перед забором лысыми покрышками по нахалке огорожен палисадник, доцветают блеклые астры. Зинаидины козы щиплют жухлую рябину, им все мало. Я не сыта, не пьяна, а бежала через мосточек – ухватила кленовый листочек… Зараза Бэла, ишь зенья налила. Антон Ильич звонит – Брешка разрывается на части. Всегда веселая Зинаида Андревна через забор принимает банку, выносит парное молоко. Теперь нечего делать, надо идти к себе. Мыкать горе, имя ему – Маматовы. Сумерки тоже спешат захватить и крыши с антеннами, и подрезанные липки, и самоё душу. Идет, задевая о землю отвисшей авоськой, а навстречь ему одни таджики-узбеки, на велосипедах и пеше, но всегда с лихорадочными глазами. Несколько лет назад их тут было всего ничего. Участковый их пас, стриг, делился с начальством. Теперь критическая масса превышена, милиция к ним не суется, и структурировано как-то иначе.
Мы с Саней батареи растапливаем на малом огне – тогда вода идет по короткому циклу, и у немца не греет. Потихоньку вынуждаем его отрезаться от котла, сами отрезать не имеем права. Как придет, включаем ему под окнами магнитофон – пусть уезжает в Москву, у него квартира, а у нас нет. Забился, гад, поглубже в комнату – там не слышно. Саня за день мало сделал, все задумывается. Иду в темноте поглядеть, не забыл ли он какого инструмента. Она уж сидит… Нехорошо это.
Что делает Антон Ильич Кригер глухими осенними вечерами на балконе под лампой? читает Жуковского. Я собак привяжу, часовых уложу, я крыльцо пересыплю травой… И березовая дриада танцует вокруг пня, и ложится холодная роса.
Антеннщик Роальд охромел сравнительно недавно – летел с чужой крыши, а было ему тогда под шестьдесят. Оглох в детстве, бросив в костер пузырек с чем-то сильно горючим. Не до конца оглох, но с годами хуже. Отчество у него, конечно имеется и наверняка плохо сочетается с именем, оттого никому не сообщается. Упрямый Роальд-без-отчества ходит в гости, преодолевая пространство, сокращая пядь за пядью расстоянье до людей. Хозяин орет ему в ухо, доколе хватит сил. После говорит Роальд – голосом скрипучим, как немазаная телега. Вынул из кармана блокнот, которого весь поселок боится. Рисует антенны, объясняет разницу, покуда вконец не достанет радушного приятеля и тот не напишет ему поперек листа: иди гуляй. Конечно… чего еще ждать… общенье без выпивки нонсенс. Дрожащими руками подбирает Роальд палку, прется восвояси. Яблоня у порога читается как иероглиф одиночества. Почтовый ящик – не на калитке, а тот, где Роальд работал – списал его ровесников на берег за два года до пенсионного возраста, тогда разрешили. Сейчас оборонка набирает обороты, берет молодежь, даже платит, но другим, не тем, что давно за бортом. Три антенны машут Роальду с крыши, точно огородные пугала. Минуя свою калитку, тащится вдоль Зинаидиной изгороди в места еще более глухие, нежели он сам, мимо домов бедней его собственного. Чурка на чурке сидит и чуркой погоняет. Чужой говор, в самый раз для глухого. Ютятся на чердаках, зарывшись в тряпье. А тут живет баловень судьбы, богатый узбек с русским именем и присадкой русской крови. С улицы к нему взывают трое соплеменников, в обычных условиях без разбору называемых племянниками – родством при желанье всегда можно счесться. Механизм взаимовыручки не срабатывает, нехристь спускает собаку. Та лает – мертвый услышит. Роальд поворачивается кругом и шкандыбает к Зинаиде на чай. Не тут-то было: она уж подоила и собирается пасти. Роальд снова видит свои три антенны. Как три жены… за глаза хватило бы одной. Карман оттягивают яблоки – Зизи подсунула, у Роальда выродились. Что может дать яблоня, сложившая такой иероглиф? бесплодна такая яблоня. Зинаида поет уже под лесом. Роальд не слыша знает: сама садик я садила, сама буду поливать. Вот так-то все они теперь.
Люблю тебя в зелень одетой, земля. Мыслью к тебе возвращаясь от неба, хочу опять услышать шелест и плеск. В прекраснейший день творенья, деревья, вы созданы. Вы невинность планеты, погубим – назад не вернем. Примерно такие слова мелькают в голове Антона Кригера в момент пробужденья. В два окна из четырех уж видна всякая муть, третье загорожено почти вплотную возводимым гаражом, и лишь одно по-прежнему целиком заполнено трепетом берез. Молится им, точно есенинский дед осинам – может, пригодится.
Не хотел смотреть, нечаянно взглянул на серую стену гаража – Donnerwetter! Маматовы пошли класть второй этаж. В дверь колошматит дуравый сосед Петр Карпыч. Еще не стар, но слабый мозг рано сдал. Вздор так и лезет. Сует Кригеру его же мобильник – звони, Ильич, вызывай… а то поздно будет. Кого вызывать, Карпыч? Да БТИ (бюро технической инвентаризации). Карпыч, они по звонку не поедут… Надо прийти, заплатить три тыщи… И сегодня воскресенье… Тебе-то что? Как что, Ильич? тень до моего огорода ляжет. Карпыч, такие длинные тени по утрам и вечерам, когда тень к тебе не глядит… а дневная тень даже до моей дорожки не достанет. А где она, Ильич, твоя дорожка? срыли ее. Правда твоя, Карпыч… но погляди. Начинает рисовать в блокноте вроде Роальдова, где солнце и какой длины тень. Ильич, а если они третий этаж построят? Шутишь, Карпыч? у них фундамент не выдержит… я видел, как его заливали… очень скупо… вот настолько. Рисует в блокноте. Ильич, ты как Роальд. И тут же, легок на помине, подваливает Роальд. Карпыч кричит ему в ухо, но тот все понимает шиворот-навыворот: злодеи Маматовы ломают гараж Карпыча. Роальд начинает давать советы Карпычу, тоже довольно тугому на ухо. Глухой глухого звал к суду судьи глухого. А Саня уж заводит: ведь это был мой первый раз… В будни тишина с одиннадцати до семи, в строгом соответствии с законом. В воскресенье дают поспать – вернее, сами спят – до девяти. Гуманно, но Антон Ильич опять не успел слинять из дома – то Карпыч, то, еще того хуже, Роальд. Хватается за брюки, выталкивает собеседников и с блокнотом в руке – ручка прицеплена к картонке – бежит к Зизи, живущей ближе к лесу, попить молока вместо завтрака. Антенны Роальда делают ему кникс, до соснового бора рукой подать, и Кригер уж сам не знает, кто он такой – философ или поэт. В общем, Владимир Соловьев. Идет, мурлычет – молоко хлюпает в животе. Звонит к Нине – про Ярослава даже в мыслях нет. Уже ушла. Сейчас он ее (их, Антон Ильич, их) догонит. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов. Бог с ним, пусть примазывается. Даже если он в строгом смысле слова не поэт – философия тоже прекрасна. Во всяком случае, его. Праздный счастливец… хорошо, что в момент этой заварушки с голосовыми связками ему стукнуло шестьдесят. Еще вдобавок к своей однокомнатной квартире унаследовал такую же теткину. Сдал, хоть и кое-как. Теперь может не осведомляться о цене плеера. Это так, по привычке. Марксизма никогда не преподавал, занимался серьезными вещами на голодном пайке. В вуз попал всего десять лет назад. Как пришло, так и ушло. Прощайте, терпеливые глаза немногих жаждущих ответа. Серьезных вещей на его жизнь хватит и еще останется. Нина расписывает церкви, Ярослав делает мини-панорамы сражений с ребятишками в патриотическом клубе. Если и счастливцы, то далеко не праздные. Завиднелась вырубка. Нина (с Ярославом) сидит на утреннем солнышке. Бросился к ней (к ним), но березовые дриады окружили, закружили, подставили босую ножку, повалили, точно ствол. Пан уставился из-за пня, притащились Зинаидины козы, предводительствуемые обнаженными Дафнисом и Хлоей. Когда схлынула морока, солнце стояло высоко, а Нина – с Ярославом – не заметив его, лежащего, ушла. Сколько он тут провалялся? Да порядочно. Пора за полдничным молоком. Получил его, но никак не отойдет от калитки. Стоит под одинаковыми липками, осмысливает услышанное. Зизи собирается валить стадо – ей хочется быть молодой, красивой и свободной, а не торчать в хлеву. В конце концов, она всего на год старше Антона Ильича. Уж заодно прирезала бы и Пана, пастораль заканчивается. Нет, не совсем. По улице прогуливается Зинаидин внук с девчонкой – слушают музыку с одного плеера, похожи на Дафниса и Хлою. У них там, наверное, звучит флейта вместо попсы. Антон Ильич, прижав банку к животу, шагает к Нининой калитке – ему необходима компенсация за несостоявшуюся встречу на вырубке. Калитка и правда Нинина, Ярослав тут без году неделя. Заперта длинным гвоздем, вдвинутым в просверленный столб. Антон Ильич этот секрет знает, и в два прыжка уж у крыльца. Выходит Нина с бесплатным приложеньем. Отправляются втроем за дом, где недавно – уже при Ярославе – вырублены старые яблони. Бывало, Антону Ильичу разрешалось подбирать падалицу – в урожайный год Нина ее закапывала. Теперь получилась лужайка, на ней плетеные кресла с чинеными сиденьями. Полдничное распитие молока плавно переходит в ужин, и уже трудно поверить, что на свете есть Маматовы. Давайте играть так: они еще не тронулись из города Бекабада. Изменим прошлое – все окажется несостоявшимся, непроисшедшим, как в «Жертвоприношении» Андрея Тарковского. Что для этого нужно сделать? Ответ вертится в голове Антона Ильича, подсказанный фильмом, но наружу не всплывает. Конечно же, Нина, а не Мария… она повелительница прошлого и будущего… ее угловатое тело несет в себе панацею от надвигающейся глобальной катастрофы. И уже вслух, безо всякого перехода: «Говорил и буду говорить… десакрализация, сведение к обыденности любовного акта – трудно поправимая ошибка! Назад к язычеству! Отыграем хоть немного!» Нинина садовая мебель пританцовывает под спорщиками, сучья яблонь трещат в мангале. Яблоневые дриады под покровом мгновенно спустившейся тьмы кидаются друг в друга призрачными яблоками.
Что снится Антону Ильичу в эту почти счастливую ночь? Строительство вавилонской башни. Растет, ладит закрыть солнце, а вокруг бедные наши инородцы. Не в национальных костюмах, как с фонтана «Дружба народов», но легко узнаваемые, будто с плаката о необходимости регистрации по месту проживанья. И лопочут, лопочут по-своему. Сон в руку: утром к Карпычу пришли обманутые Владиславом Маматовым узбеки, что заложили гараж. Изъяснились на ломаном русском в том смысле, что мы де попросили Аллаха в мечети на Поклонной горе: пусть не стоит его постройка… пусть рухнет. И опасно пузатилась стена под легоньким Саней, все выше и выше возносящимся к небу.
У отца зеленая яблоня – лети, мое сердце, лети. К Роальду приехала дочь. Снимает с дерева, переломанного, как сам отец, упорно держащуюся на ветках антоновку. Не занятые делом Нинины дриады столпились у забора: их участок на соседней улице сходится углом с Роальдовым. Яблоки мелкие, твердые – хоть гвозди забивай, да и мало их. Должно быть, оттого, что дочь Роальда немолода, толста и печальна. Вон у Зизи – видно семечки насквозь. Такие на том свете Господь дает деткам поиграть, если матери до Спаса яблочка не съели. Ладно-ладно… Вот зарежет коз, старая стрекоза – фиг у нее такие яблоки будут… или все равно уродятся? без навозца, на одних песнях? А вот посмотрим… qui vivra verra.
Дни все короче. Когда-то мать Антона Ильича пела над кроваткой:
Эй вы, эй вы, старики,
Где вы, где вы, где вы, где вы бродите,
Что к нам не заходите,
Где вы вяжете чулки?
Жутки стали ночи темные,
Скучно, грустно стало вам, бездомные,
Приходите в гости к нам,
Будем рады старикам.
Усыхав такое, мальчик охотно забивался под одеяло. В нонешнюю непростую осень, после разгульной вечерней зари, мрак падал коршуном. На небе забыли про дождь. Посаженные Антоном Ильичом подале от Маматовых – возле Карпыча – кустики жасмина и белой сирени грозились завянуть. Носил им в темноте воду, и березовая дриада, на ногах лапотки, платочек до бровей, очи долу, не похожая на себя – менаду с вырубки, бралась худощавой крестьянской рукой за дужку ведра помочь. На той неделе посадил за воротами в поставленной до нашествия Маматовых сетчатой ограде две сосёнки с горелой опушки – полили их тоже. Вроде прижились, распушились. Не загнется, бог даст, и он, часть этого хрупкого мира, всегда готового взлететь на воздух по чьей-то злой воле. Во всяком случае, пока персонально ему не снесут головы, живородящей точно у Зевса. Ставит на порожек перевернутое ведро, дразня ночные облака: ну пролейтесь же. Идет укладываться под шум несуществующих дерев: береза метет ветвями по крыше, рябина со стуком роняет ягоды. Лишь наполовину уцелевшее экзотическое колючее дерево без названья с молчаливого одобренья и попустительства хозяина упорными ростками разваливает крыльцо. Эй, не уступай, храбрая колючка – Кригер за тебя.
Да, темнеет рано. Свет в электричках тусклый, чурку от белого человека не отличишь. Но как скажут гортанно свое «конкретно» – я к ним поближе. А там заговорят и по-своему, куда денутся… русских слов у них не густо. Документ на изготовку… Теперь выбрать, когда их прижать и где высадить, безопасно для себя… Взять деньги по-тихому. Обращаюсь сначала по-ихнему, строго так. Потом по-русски, чеканно: госкомитет по борьбе с незаконным оборотом наркотиков… и книжечку нараспашку. Чтоб окружающие подумали: чурки о чем-то таком сговаривались, но бдительный сотрудник предотвратил. Дальше как по нотам: пройдемте. Оружие нам дают, но пускать в ход не разрешают… за каждый патрон отчитываемся. Я прикупил – знаю где… не проблема. За назначенье в дежурство платим вперед, всё больше и больше… надо оправдывать. Или – приводи их живьем и там обрабатывай. Только шеф потом избитых отпускает… разрешает звонить, приходят с выкупом. Вчера на Казанском вокзале один мне в лицо уставился… глаза как уголья. Сегодня возле дома сошел с электрички – за мной двое. Выстрелил не целясь, отстали. Прихожу – ведьма сидит… приоделась… накидка горностаевая, белые сапожки. И мой Саня из-за угла ей в спину смотрит. Загнал, а не спим оба. Татьяна ходит из угла в угол… Если что скажет, убью.
Они думают – для себя стараюсь. Я ей дворец строю. Мало двух этажей – будет три… Ведь вы этого достойны. Отец пообещал поставить в гараж «тойоту» Лямзина – тот дал машину ворованных со стройки шлакоблоков. На каждом клеймо: строительное управленье номер такой-то… кладу клеймом в цемент. Работаю до ночи, включаю лампу на удлинителе. Принцесса закрывается ладонью от света. Батя еще понукает: медленно дело идет, блин! Ни фига себе! Сплю вполглаза – ворочается отец, мечется мать. Вчера сказала: березовый пень тоже можно выкорчевать… Заровняем, восстановим ограду Троицкого… Обойдется. Отец промолчал… Больше мать не выступала. Молчит и Ника. За ней приезжают с вечера. Запахнёт халат, сядет в машину – и до часу ночи. Утром с матерью на базар, тряпками торговать. Нет промеж ихнего барахла зеленого платья.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































