Текст книги "Тонкая нить (сборник)"
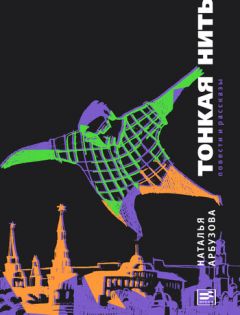
Автор книги: Наталья Арбузова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
На солнце, должно быть, какие-то мощные выбросы, земля бредит в жару. Владислав Маматов, с перманентно красными, воспаленными лазами, точь-в-точь как у ненавидимых им узбеков, задался целью разрушить мой мир до основанья и построить свой, зиждущийся на эклектических принципах. Привез в чемодане советскую власть, точно любимую заигранную пластинку. Послал жену с дочерью на рынок торговать, нащупал рычаги жесткой эксплуатации сына, сам же заделался активистом РНЕ – смерть чуркам! Если кратко: насилие, деньги, демагогия. Наблюдать занятно, выносить трудно. Зябкое понедельничное утро. Наша вавилонская башня выросла за ночь на треть этажа – не обошлось без джинна. И явственно накренилась на улицу, к воротам. Напротив моего окна фундамент поднялся из земли, словно корма подбитого корабля из волн. В бетоне сплошные каверны. Еще заметней стал острый угол – он, будто согнутый локоть, нацелился на деревянный дом, силясь его пихнуть. Нависшие, точно распираемые стены усиливают впечатленье агрессивности недостроенного зданья. Скорей накидываю на плечи рюкзак – сунуть в него днем теплую одежонку – и в лес, с заходом к козочкам. Дриада меня догоняет, подстраивает шаг, и мы уходим в туман промеж рыжих стволов, таща вдвоем тряпичную сумку с банкой молока. Выпиваем его, присев на первое попавшееся бревно. Нам хорошо. Уже смеялся с Ниной – вырою землянку в лесу. Припомнил весь разговор, рассмеялся вслух своему воспоминанью. Обрадованная дриада побежала вперед, аукая направо и налево, оставив меня нести пустую банку. Тут я заметил землянку в стороне от тропы – пар от дыханья нескольких человек выдавал ее на раннем холодке. Подошел, сунул нос, любопытная Варвара. На сухом сосновом лапнике, подстелив пенку, спали вповалку они, таджики-узбеки, на лица натянули вязаные шапчонки. Почуяли меня, заворочались, точно выводок волчат – я отступил к тропе. Утро бежало впереди меня, солнцем по верхушкам сосен. Сколько загубили и сколько еще осталось… уму непостижимо. Убить столько деревьев – нужен монстр, сибирский цирюльник. Все равно как убить очень много людей – проблема, понадобилась специальная техника… изобретенье Гильотена… газовые камеры… Захватывай брошенные пашни, лес, пользуйся любой оплошностью человека – я на твоей стороне. И на стороне чумазых наших инородцев, что умудрились спрятаться в твоей чаще. Как-никак деды и прадеды их были подданными российской империи. Кто знал, что потомкам смирных туркестанских земледельцев придется скрываться хуже диких зверей. Осень стоит среднеазиатская, климат – временно – резко континентальный. Днем исступленное солнце шпарит асфальт на базаре, ночью подморозит. Оставят дежурного, чтоб такие же вроде них не стащили керосинку, сковороду и одеяло – коллективную собственность. Принесут в карманах: кусочки мяса с жилками – тот, кто на подхвате рубил мерзлую тушу; подгнившие картошку, лук, помидоры – тот, кто на помойке ломал картонные коробки. Поедят и греют друг друга боками по-братски, родичи-односельчане. Недолго вам, папуасы, осталось… весь мир покатил на вас баллон. Слишком много вас родилось, это добром не кончится. А и нас немало. Боже милостивец, во что превратилась поляна за два сияющих выходных! Она одна здесь такая – двухкомнатная, с перегородкой из доверчивых малолетних сосёнок. Полная солнца и теней, прекрасная во всех ракурсах, сейчас густо устлана одноразовой посудой, усыпана битым бутылочным стеклом. В новые корпуса военного городка вселились счастливые очередники – празднуют и празднуют с нескончаемым ликованьем удачи. Антон Ильич рад за них, но уж больно дики, не выдержит его Февроньина пустынюшка. Изодора (так назвал Кригер бездомную дриаду) ждет, греясь в пятне света. Дама принадлежит к бессловесному миру – кроме «ау» ничего не говорит, но всё понимает. Сегодня взамен привычного зеленого платья на ней есенинский холщовый сарафан, вместо спутаннных кудрей коса. Изменчивая, словно бегущие облака. Живая, точно речная струя. Душа русского пейзажа.
Ее зовут Изодора. Притаился за углом, слышал, как немец в полночь окликнул ее с балкона: Изодора, тебе не холодно? Покачала косматой, точно у наших девчонок, головой. Не зябнет… кровь не как у нас… инопланетянка. Отец на нее запал… Нож точим друг на друга. Приехал Лямзин – я притаился в недостроенных стенах. Беспокоился мужик: а Саня выполнит уговор? не выкинет мою тачку? Отец злобно рассмеялся: а кто ж на него запишет? это только так говорится… чтоб не ленился. Ненавижу. На днях мне исполнится восемнадцать… Женюсь на ней… Чур, чур меня… на ведьмах не женятся. Ника совсем свихнулась – вчера за ней пожаловали сразу две машины. В одной четверо, в другой трое. Эти после короткой разборки уступили. Хорошо отец был под кайфом, не врубился. У матери крыша едет с обиды – мы трое рехнулись, никто на нее вниманья не обращает. Сегодня в сумерках плеснула на Изодору кипятком из кружки, будто не видит. Ветер как ломанет – и всё обратно… еле успела отскочить.
Татьяна на Изодору, Кирилл Семенов на Маматовых. Стоит у своей калитки в рваной советской майке с бретельками, кудрявый и белокурый. Чешет препорядочный живот, поджидает Антона Ильича. Кириллова калитка забаррикадирована, поперек дорожки – подъемный кран с надписью: НЕТ! НЕТ! НЕТ! Уцелевший конструктор оборонки, безумный и гениальный, в момент конверсии вывез с завода целый цех списанных станков. Вырыл под своей половиной дома подвал глубиной в три этажа и краном спускал туда оборудованье. Соседи натравливали на него ФСБ – не вышло: сам оказался ихний. Жестянщик загромоздил железом все пространство, кроме одной комнаты в коврах, где живет с юной женой Валей – хохлушка, работала в столовой – и двухлетним сыном Алешей, похожим на него, как обезьяныш на обезьяну. Основная страсть Кирилла не любовь, а ненависть – к чуркам. Ходит на сборища РНЕ, но за Маматовыми права на русский национализм не признает, относя их к чуркам же. Образовал с Ярославом – тот тоже националист, и весьма ярый – общество защиты Антона Ильича. Ничтожная доля немецкой крови в Кригере даже импонирует Кириллу, придавая делу некий фашистский шарм. Ярослав – бог его знает, а Кирилл с Антоном Ильичом оба из бывших. Кригер потомок кого-то из когорты философов, выдворенных большевиками в двадцатых годах. Хорошее происхожденье. Кирилл из мелких заводчиков, и в том же состоянье сам мечтает оказаться с помощью советских основных фондов, находящихся у него под полом. Никуда не денешься – гены. Философ философствует, предприниматель предпринимает. Идет Антон Ильич, Кирилл преграждает ему дорогу. Излагает по существу следующее: принес с работы излучатель, каким убивают крыс на военных складах. Жена запретила использовать по назначенью: крысы сдохнут в труднодоступных местах между станками, станут вонять. Разумно. Так вот… проникнем в сад Троицкого… изведем Маматовых вместо крыс… Это как раз напротив. Ильич крестит разгоряченного шизофреника: что вы, что вы, Кирилл… дайте мне скорей свою адскую машину, от греха… а то наделаете дел. Идут к Кириллу. Огибают угол дома – начинает пищать сигнализация. Выходит Валя, тоже кудрявая, но темно-русого окраса. Очень миловидная, с русалочьими глазами. По естественности сошла бы за дриаду, но станом круглая, с приятной полнотой. Успокаивает сумасшедшего мужа, однако орудия убийства не отдает. Отпускает невменяемого на салтыковскую барахолку – покупка всякого технического хлама его конек. Сама же идет с коляской на вырубку, выгуливать малыша – Антон Ильич их охотно сопровождает. Нина с Ярославом уехали в Москву на работу, Изодора в их садике играет с яблоневыми дриадами. Мяч перелетел через забор, Алеша смеется. Выбежавшие дриады увязываются за честной компанией. Вскоре, сидя на горелом пне, Антон Ильич что-то пишет в блокнот над спящим мальчиком. Валя пляшет в хороводе дриад – у нее отлично получается. Сатир, прихрамывая, проходит опушкой, волочит в мешке собранные на поляне бутылки. Оранжевое солнце описывает дугу, доколе не шлепнется в мягкие верхушки сосен, оставив по себе рассеянный свет, и не уйдет светить другим странам.
Погожая осень еще держалась. Рано мерк день. Беспросветным вечером Антон Ильич заметил движенье в рядах неприятеля. Ника отпустила ни с чем приехавшую за ней машину и продолжала беспокойно выбегать за ворота с мобильником – возле дома он сети не брал. К ней подтянулась Татьяна. Переговаривались тихими тревожными голосами. Мальчик сидел с лампой на безобразно распираемой стене, свесив руки плетьми. Утром всеведущая Зинаида Андревна доложила Кригеру: Владислав Маматов арестован. Будто бы кто-то исхитрился снять скрытой камерой профессиональное избиенье задержанного узбека. В кадр вроде бы попало полспины маматовского начальника, шириною в целую спину. Но тот сразу поставил все на свои места: будешь молчать – я тебя очень скоро вытащу, заикнешься – сгною на фиг. Кригер готов был побиться об заклад: выдумка талантливой Зизи, с начала и до конца. Гадалка, но не такого класса…. не верю. А вот посмотрим, Антон Ильич… я никогда еще зря не говорила… дело развалят… ваш голубчик придет домой, не успеете оглянуться. Похоже на правду. Наверное, Зизи пропагандировала свою версию не только среди белого населенья. В воскресенье под накренившейся стеной, которую мальчик, выбиваясь из сил, пытался укрепить, собралась группа таджиков-узбеков. Пришли от леса – должно быть, те, что спали в землянке. Галдели по-своему, кто во что горазд. После выделили из своей среды запевалу не то корифея. Антону Ильичу показалось, что тот скандирует текст осудительного характера из Корана, остальные же повторяют хором. Позадь забора собрались все-все-все, понаблюдать за сценой: глуховатый Петр Карпыч, как следует глухой Роальд, шустрая Зинаида Сокова, Нина, держащая под руку Ярослава, и Кирилл Семенов с Валей, благо Алеша днем крепко спит. Ну и еще разные статисты белой расы. В милицию никто не звонил – пусть де чурки с чурками сами разбираются. Однако амплитуда гнева нарастала, и в какую-то минуту стало страшно. Не напрасно. Зашкалило… резонанс… падает стена… крик придавленного мальчика. Кригер бросается с балкона в светелку – и сломя голову вниз по лестнице. Выскочив из дверей, на мгновенье замирает. Ему вдруг становится понятно хоровое мусульманское проклятье: Аллах покарает жестокого! Аллах накажет нечестного! Позже узнаёт: Нина тоже слышала эти две фразы. Эффект вавилонской башни сработал с точностью до наоборот: дар пониманья внезапно сошел на них и тотчас был отнят. Сейчас не до осмысленья… Обдирая руки, разбирали завал. Наконец Ярослав поднял на руки Саню – без сознанья. Современная пастушка Зизи уж вызвала по сотовому «скорую помощь» – скоро и приехала. Татьяна села рядом с носилками, глаза сухие, красные. Закрыли дверь, поехали. Беда одна не ходит. Ника долго стояла на улице в длинном вишневом халате, купленном в Бекабаде, пыльном городе-спутнике неласкового Ташкента, бывшем рабочем поселке, лишенном тени и тишины. Промышленные его печи выплавили Маматовых… Ну, большое спасибо. Кригер очнулся – обе толпы разошлись, а менты не являлись. Гремело – близко холодный фронт, вчера обещали. И тут Антон Ильич сообразил, что Изодора уж два дня как не приходила – за треволненьями не заметил. Почувствовала обвал осени? надвигающуюся беду? Как бы то ни было, надо спасаться – вещи давно уж собраны. Электричка въехала прямо в грозу, ливень хлестал по стеклам, образуя рваные подтеки, конфигурацией напоминающие молнии. И в самих молниях недостатка не было – били чуть что не в дугу вагона. Настоятельно напоминал о себе безымянный общий Бог, под коим ходим. Плотная завеса дождя скрыла руины неугодной Ему башни.
Зима стала накрепко и стояла насмерть. Поначалу Антон Ильич часто звонил Нине, потом реже. Во сне видел шапку снега на березовом пне и узкие следы вокруг. Саня вышел из больницы весной – хромой и темный с лица, будто бес из преисподней. Пришел и отец из тюрьмы – Зинаида как в воду глядела: обладатель двуспальной спины сдержал обещанье… Что ж, это в порядке вещей… у преступников своя этика. Стоял апрель. На участке Троицкого вылезли синие пролески – брал их у Кригера, вместе с ландышами, фиалками, барвинками. Впору пересаживать обратно к Антону Ильичу, в его поруганный палисадник, похожий на пустыню аравийскую. Ежик кригеровский теперь жил у Троицкого, Кригерова сорока там стрекотала. Березовая роща за домами по ту сторону улицы робко зеленела. Живое оживало. Изодора встретила Антона Ильича серед бела дня, улыбнулась застенчивой улыбкой. А там, к лесу, на фоне ржавого подъемного крана, маячил Кирилл Семенов.
Чурки живучи… а я таки пробрался поздно вечером в сад Троицкого – сфокусировал излучатель на темной фигуре, сидящей у развалин гаража. Тут сзади на меня кто-то навалился и голосом Антона Кригера прошипел в ухо: жестянщик поганый! В ярости отнял игрушку, метнулся, размозжил о пень. Поперек пня, закинув голову, лежала девчонка… дочь Маматовых… это не входило в мои планы… я близорук… нет, даже не она… вообще неизвестно кто… в ужасе бежал.
Послушай меня, Изодора… я Нину почти забыл. Тебя из нежити создал, назвал и одушевил. Мы злая несметная сила, а вы молчаливый лес – у нас топоры да пилы, у вас всё шелест да плеск. Тебя уже дважды убили. Чего от людей ты ждешь? Скорей выбирай стихию, в которую перейдешь.
Дом, или Мои другие берега
Бабушка моя пела на выпускном вечере в пансионе:
Не слышно на палубах песен,
Эгейския волны шумят.
Выходя замуж, она обещала учителю, что пения не бросит, но тот махнул рукой: «Vous chanterez avec vos enfants». И теперь, в темный вечер 44-го года, уже моя мать поет над моей кроваткой:
Улетел орел домой,
Солнце скрылось под водой,
и я повторяю, засыпая:
Улетел в Орел домой.
Я твердо знаю, что мой дом в Орле, где я никогда не была, в прежней России, которой я не застала. Эта московская квартира без ванной, с арками-проемами вместо дверей в жутковатой пятиэтажке кооперативной застройки 29-го года – моя темница. Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня. Дома наши назло неведомо кому поставлены косо по отношению к бедной Малой Тульской улице. Рядом с нами – Даниловский монастырь, там детприемник, и Донской, там тайные захоронения расстрелянных. По ночам на стенах наших домов – тени фигур, подсвеченных промышленными печами Нагатина. Вот гигантский кочегар с лопатой, ну чисто черт в аду. В подъезде у нас висит перечень всего, что запрещено там делать, и я читаю его по складам.
Не то с пятого этажа, не то из прежней жизни порой спускается Владимир Иваныч Чагин – архитектор, благородное лицо, благородная осанка. Я немею от счастья и прячу за спину измазанные руки. Он – недоарестованный, его брали и выпустили. Дочь выкупила, как в сказке про аленький цветочек. Вышла замуж за ненавистного человека, который имел власть вызволить отца и действительно вызволил. Такой Владимир Иваныч тут в единственном экземпляре. Над нами пляшут соседи Клыковы, занявши квартиру супругов Розенберг – на кого сами донесли. Моя мать безбоязненно объясняет нам с сестрами вслух: дети пришли из школы, их уже ждали и отправили в детдом. Или предупреждает о том, что может случиться? Голодными водит нас мать по бульвару, учит с голоса Евангелию. Голодными кладет в постель, крестит, рассказывает о развеянной по ветру прежней России и поет пленительным голосом.
Мать живет в прошлом, и я лучше знаю топографию Орловского уезда, чем нежели окрестности Даниловского рынка. Засыпая, я думаю в простоте, что прежняя жизнь в неприкосновенности цела там, в Орле, все умершие живы и все скитальцы в сборе. Расстрелянный в 38-м году дед сидит там в легендарном кресле Киреевских и пишет размашистым почерком на личной бумаге с гербом в углу. В столе его лежат подлинные письма Пушкина и Жуковского. Он – последний владелец имения Киреевских под Орлом, в семи верстах по Наугорской дороге. Если идти по ней пешком и спрашивать, как в сказке Перро, кому принадлежат эти поля, жнецы ответят, снявши шапки: «А вот барину Валерию Николаичу». Идиллия.
Дед – типичный земец: мировой судья, предводитель дворянства Орловского уезда, член городской думы, член комитета попечительства о народной трезвости (sic!), директор народных училищ, попечитель приюта для престарелых и прочая, и прочая, и прочая. В Орле у него дом напротив цирка. Друзья на пари посылают письма с таким адресом: «Орел, Прыжку (прозвище одной из дочерей), напротив цирка», и письма доходят. В доме квартирует Великий князь Михаил Александрович, командующий Черниговским гусарским полком. Ради того Борисоглебская улица при подъезде к дому заново вымощена и освещена на городской счет.
Сейчас в дедовском имении Дмитровском, моем игрушечном раю, идет 1910-й год, стоит июнь. Дед любовно занимается землеустроеньем, и дело ладится. Он вернулся, оживленный, с полей, отдал поводья, вошел в дом. Бабушка, умершая в Орле при немцах, отдает последние приказанья повару Феде, тот подпирает притолоку могучим плечом. В гостиной вся молодежь семьи, и с друзьями. Идет репетиция домашнего спектакля. Милые тени из элизиума. Одни легли на полях гражданской войны – в том, в лебедином стане. Иные спят на русских кладбищах Европы. В стороне одна Вера Валерьевна, маленькая поэтесса серебряного века, скончавшая свои дни в психиатрической больнице в Калязине – не от хорошей жизни. С веранды заглядывают в матросках младшие, только что отпущенные домашним учителем – моя матушка с братом чуть постарше. Но безжалостные актеры до поры выдворяют их с таким напутствием: «Подите посмотрите, нет ли вас в другой комнате». Пожалуй, это единственное, что омрачает светлую картину моего рая.
Вдруг рай моих детских снов рушится, точно карточный домик. Дедова семья уж не живет ни в Дмитровском, ни в Орле в доме с веселым адресом «Напротив цирка». Иных уж нет, а те далече. В Дмитровском поселилось совхозное начальство. Была у зайчика избушечка лубяная, а у лисы ледяная. То, что осталось от семьи, ютится в чужом доме на окраине Орла, но с выходом в прежнюю жизнь, на Наугорскую дорогу. Вера Валерьевна всё ходит по ней и пишет печальные стихи:
Он ждет, наш старый дом в уборе изумрудном
Под пенье тихое и мирное дроздов,
Когда вернемся мы в сиянье лета чудном
В аллеи стройные покинутых садов.
Когда, когда, когда – вздыхает равномерно
Бессонный маятник прадедовских часов.
Вот прилетят весной! – пророчествует верно
В открытое окно хор птичьих голосов.
А старый дом стоит, не ведая измены.
Чужие жители его не осквернят.
В вечернем воздухе как дым белеют стены
И пологом висит зеленый виноград.
Теперь пришел мой черед. Проживши жизнь во внутренней эмиграции, я вьюсь мыслью над родным берегом, над родным пепелищем, ища в светлых водах отраженье прежней жизни. Жду и не дождусь, когда встанет из зачарованных вод сокрытое в них – не то прошлое, не то будущее. Из моих двоих сыновей Дмитрий унаследовал черты лица Валерия Николаича. Из моих внуков Вера Дмитриевна похожа на Веру Валерьевну. Недавно она выходила со мною из церкви в селе Андреевское. Обернулась, склонилась в гибком поклоне, положила наземь длинную руку всей тыльной стороной ладони и устремила на церковь такой сфокусированный на бесконечность взгляд, будто видит вдали встающий град небесный. Хотела бы я заглянуть вместе с нею в будущее. Узнать, ради чего мы претерпевали свою трудную жизнь, ради чего укладывали спать несколько поколений в различной степени голодных детей. Да полно риторики, я сейчас могу ответить – чтобы протянулась тонкая нить через широченную пропасть плохих времен до сияющей славы России.
Права
© Наталья Арбузова, 2011
© Время, 2011
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































