Текст книги "Алая буква"
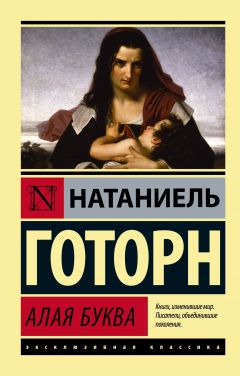
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 14
Эстер и доктор
Эстер велела Перл спуститься к воде и поиграть там с ракушками и морскими водорослями, пока она побеседует вон с тем дядей, что собирает травки. Ребенок тут же упорхнул, как птичка, и, разувшись, стал топотать белыми ножками по кромке прибоя. Время от времени Перл останавливалась и с любопытством заглядывала в лужицы, оставленные на песке отливом, ища в зеркале воды свое отражение. Из воды на нее глядело обрамленное темными кудрями личико маленькой девочки, глядело и улыбалось шаловливой улыбкой эльфа. Не имевшей подружек Перл захотелось взять ее за руку и предложить побегать с ней наперегонки. Но призрачная девочка в свой черед кивнула ей, как бы говоря: «Здесь у меня лучше! Прыгай сюда ко мне, в воду!» И Перл, ступив в лужицу и войдя в воду по колено, увидела там на дне собственные свои белые ножки, а ниже, откуда-то из самой глуби, поднимались и кружились, посверкивая осколками, остатки разбитой вдребезги улыбки.
Между тем мать Перл окликнула доктора:
– Мне надо поговорить с тобой. Это касается нас обоих.
– О, так у мистрис Эстер нашлось что сказать старому Роджеру Чиллингворту! – отозвался он, поднимая голову и распрямляясь. – Пожалуйста, поговорю с превеликим удовольствием! Тем более что со всех сторон до меня доходят такие хорошие новости о вас. Не далее как вчера вечером один мудрый и благочестивый судья, член городского магистрата, говорил со мной о ваших делах, мистрис Эстер. От него я узнал, что на совете обсуждался ваш вопрос и решали, не повредит ли общественной нравственности, если алая буква, которую вы носите на груди, будет с вас снята. И клянусь, что я горячо поддержал такую идею и очень просил этого почтенного человека поспособствовать, чтоб букву эту с вас сняли как можно быстрее.
– Не от милости судей и магистрата зависит, будет ли снят с меня мой знак, – возразила Эстер. – Будь я достойна освободиться от него, знак сам бы с меня спал или изменился так, чтобы означать нечто другое.
– Ну тогда носи его, если считаешь, что он так тебе к лицу, – парировал доктор. – Во всем, что касается украшений, женщине следует руководствоваться лишь собственной фантазией. Буква так затейливо вышита и так ярко сияет на твоей груди!
Пока он говорил, Эстер не сводила с него взгляда, изумленная и потрясенная тем, что с ним сталось за прошедшие семь лет. И не то чтобы он очень постарел: хотя годы и оставили на нем заметные следы, для своего возраста он выглядел хорошо, сохранив и силу, и живость. Но если помнился он ей человеком со спокойным и вдумчивым лицом ученого, то теперь лицо его совершенно изменило выражение – в нем были настороженность и тщательно скрываемая, глубоко запрятанная ярость. Он пытался маскировать это выражение улыбкой, но улыбка, то и дело мелькавшая на его лице, выходила такой издевательски-насмешливой, что лишь яснее открывала собеседнику черную бездну его души. Иногда глаза старика зажигались красным светом, как будто в груди его тлели угли, которые вдруг от внезапной вспышки страсти разгорались ярким пламенем. Пламя это он спешил погасить, быстро, как ни в чем не бывало принимая прежний вид.
Словом, старый Роджер Чиллингворт мог послужить отличным примером способности человека превращаться в дьявола, если на протяжении долгого времени вел дела поистине дьявольского свойства. Именно это и произошло с несчастным доктором, который в течение семи лет посвящал себя непрестанному препарированию души, истерзанной муками, наслаждался этими муками и еще подбрасывал хворост в костер этих мук, с восторгом раздувая пламя.
Алая буква жгла грудь Эстер Принн. Перед ней была еще одна человеческая руина, и ответственность за эту порушенную судьбу частично лежала на ней.
– Что ты так вглядываешься в мое лицо? – спросил доктор. – Что ты там такое увидела?
– То, отчего хочется мне залиться слезами, только нет на свете слез, полных такой горечи, – отвечала Эстер. – Но довольно об этом. Есть другой несчастный, о котором я хочу говорить.
– А что такое? – вскричал Роджер Чиллингворт с живостью, словно рад был возможности обсудить эту тему с единственным человеком, с которым мог быть тут откровенным. – Не стану скрывать от вас, мистрис Эстер, что мысли мои в этот момент как раз были заняты этим джентльменом. Так что давай, говори, задавай вопросы, а я отвечу!
– Когда мы в последний раз говорили с тобой, – сказала Эстер, – а тому уж семь лет, ты вырвал у меня обещание сохранить в тайне прежние отношения между тобой и мной. Так как жизнь и доброе имя того человека находились в твоих руках, у меня не оставалось иного выбора, кроме как молчать согласно нашему с тобой уговору. И все же не без тяжких сомнений связала я себя этим обещанием, ибо, сбросив с себя путы обязанностей по отношению ко всем другим, я все же сохраняла долг по отношению к этому человеку и что-то шептало мне, что этим сговором с тобой я долг забываю и человека этого предаю. С того самого дня ты стал с ним неразлучен, никого нет для него ближе, чем ты. Ты всюду следуешь за ним, сторожа каждый его шаг. Ты всегда рядом, спит он или бодрствует. Ты вгрызаешься ему в душу, копаешься в ней, расковыривая рану. Ты вцепился в него, держишь жизнь его в тисках и не даешь вырваться, ежедневно, день за днем, оставляя умирать! Разрешив тебе это, я, безусловно, предала того, кому единственному могла еще остаться верной!
– Да разве был у тебя выбор! – воскликнул Роджер Чиллингворт. – Стоило мне ткнуть пальцем в этого человека, и он слетел бы с кафедры и угодил в тюрьму, а может, и на виселицу!
– Уж лучше бы так! – сказала Эстер Принн.
– А какое зло я ему причинил? – вопросил Роджер Чиллингворт. – Больше скажу тебе, Эстер Принн, ни один монарх еще не одаривал своего лекаря столь щедро, чтоб деньги эти оказались достойными той заботы, какой я окружил этого священника. Нет на свете таких денег! Если б не моя помощь, сгорел бы он как свечка уже в первые два года после преступного вашего с ним деяния. Ибо нет в нем сил вытерпеть то, что терпишь ты под гнетом этой твоей буквы, Эстер. О, ведь я мог бы раскрыть тайну! Но довольно! Все, что только может дать врачебное искусство, я израсходовал на этого человека. Тем, что он еще дышит, что еще ползает по земле, он целиком обязан мне!
– Уж лучше бы он умер.
– Да, истинную правду ты говоришь, женщина! – выкрикнул Роджер Чиллингворт, и она увидела, как блеснули его глаза от вырвавшегося вдруг из глубин души зловещего пламени. – Лучше бы он умер! Ни один смертный не терпел еще подобных мук! И все это на виду у злейшего врага своего! Он ощущает мое присутствие. Чувствует на себе влияние, витающее над ним, как проклятие! Прозревает каким-то особым чутьем, ибо Создатель еще не приводил в этот мир существа более чуткого, что струны его души перебирает рука отнюдь не дружеская, что вглядывается в него любознательный взор, который ищет в нем зло! Ищет и находит! Но ему неведомо, что рука эта и взор этот мои! С суеверием, столь свойственным всей этой братии, он воображает, что находится в когтях дьявола, что это дьявол мучает его ночными кошмарами, мыслями, полными безысходного отчаяния, угрызениями совести и неизбывным раскаянием, сознанием вины и невозможности быть прощенным, посылая ему все это как предвестие того, что ждет его за гробом! Но все это лишь моя тень, не оставляющий его призрак человека, которому он причинил страшнейшее в мире зло, человека, которого теперь и держит-то на земле только этот медленный яд жестокой мести! Да, это так, он не ошибся: возле него трется дьявол – смертный, имевший когда-то человеческое сердце, но превратившийся в дьявола лишь затем, чтоб продлить ему эту пытку!
С этими словами несчастный вдруг вскинул руки, и на лице его отразился ужас, словно при виде чего-то, чему нет названия и что заслонило в зеркале его лицо. Это был один из тех редчайших моментов, когда внутреннему взору человека вдруг предстает его душа, нравственный его облик. Может быть, ранее ему не приходилось так четко и ясно видеть эту картину.
– Разве недостаточно ты его мучил? – сказала Эстер, заметив выражение лица старика. – Разве не отдал он тебе долг свой сполна?
– Нет, нет! Долг этот лишь увеличился! – отвечал доктор уже не яростно, но угрюмо. – Помнишь, Эстер, каким я был девять лет назад? Хоть и встретил я тогда уже осень дней моих и притом не раннюю ее пору, то были для меня тихие, полные размышлений годы, которые я посвящал усердным занятиям, отдавая все силы умножению моих знаний, стараясь направлять их на благо людей. Мало кому удавалось вести жизнь столь тихую, мало кто был вознагражден за это такими дарами, как я. Помнишь меня тогдашнего? Разве не был я, при всей моей, как тебе казалось, холодности, внимателен к людям и их нуждам, разве не заботился о них, довольствуясь для себя лишь малым? Добрый, верный, надежный, пускай и не проявлявший слишком пылких чувств. Разве не было во мне всего этого?
– Было, даже с избытком, и не только это.
– А что сталось со мной теперь? – воскликнул он, впиваясь взглядом в ее лицо и не скрывая злобы. – Я уже сказал тебе, в кого превратился! В дьявола, и кто же меня сделал таким?
– Это сделала я! – проговорила Эстер, содрогнувшись. – Я виновата не меньше, чем он. Почему же ты не мстишь мне?
– Я предоставил это алой букве, – отвечал Роджер Чиллингворт. – Если и это не может отомстить за меня, то я бессилен: большей мести я придумать не могу.
И он с улыбкой указал на букву.
– Она мстила и мстит за тебя! – сказала Эстер Принн.
– На это я и надеялся, – сказал доктор. – Ну а теперь – что ты хотела мне сказать об этом человеке и по этому поводу?
– Я должна открыть эту тайну, – решительно заявила Эстер. – Он должен узнать, кто ты на самом деле. Что может из этого выйти, мне неведомо. Но долг доверия, мой долг человеку, которому я принесла столько несчастья, разрушив его жизнь, будет все-таки выплачен! Ты, конечно, волен уничтожить его доброе имя и положение или сохранить его; возможно, сама жизнь его в твоих руках. Но я, получившая от алой буквы уроки истины, уроки, которые жгли мою душу раскаленным железом, не вижу более никакого смысла в том, чтобы он влачил свое существование, полное такой чудовищной пустоты, и потому не унижусь, чтобы молить тебя быть к нему милостивым. Поступи с ним как знаешь! Все равно нет ему счастья, как нет и мне, да и тебе тоже! Как нет счастья и маленькой Перл! Нет для нас пути из этой мрачной бездны!
– Я склонен даже пожалеть тебя, женщина! – сказал Роджер Чиллингворт, которого не могло не тронуть и даже не восхитить своеобразное величие такого порыва отчаяния. – Твоей душе присущи были великие задатки. Встреть ты любовь более счастливую, нежели случилось тебе испытать со мной, быть может, зло и не овладело бы тобой. Мне жаль тебя, жаль, что то хорошее, что в тебе заложено, пропало втуне.
– А мне жаль, – возразила Эстер Принн, – что такого мудрого и справедливого человека, как ты, ненависть превратила в дьявола! Сможешь ли ты изгнать ее из твоего сердца и вновь стать человеком? Не ради него одного постарайся сделать это, вдвойне это нужно тебе самому! Прости, и пусть накажет его тот, в чьих руках власть карать! Я только что сказала, что ни ему, ни тебе, ни мне ничто не поможет выбраться из бездны, в которой мы бредем по бездорожью, плутаем в темной путанице троп, спотыкаясь на каждом шагу о разбросанные вокруг глыбы зла. Нет, для тебя и только тебя одного путь есть, ибо против тебя был совершен страшный грех, который ты можешь простить! Неужели не воспользуешься ты таким редким, только тебе доступным преимуществом? Неужели отвергнешь столь бесценное благо?
– Спокойно, Эстер, спокойно! – сурово прервал ее старик. – Не в моей воле прощать. Моя прежняя вера, давно мной отринутая, сейчас возвращается ко мне и объясняет мне все содеянное нами, за что мы и терпим страдания. Первый шаг ко злу сделала ты, ты посеяла семя зла, и с этого момента все последующее стало мрачной неизбежностью. Но ты, предавшая меня, согрешила лишь тем, что позволила себе поддаться столь обычному обману чувств, я же согрешил тем, что вырвал из рук дьявола и попытался выполнить задачу, находящуюся лишь в его ведении. Такова наша судьба. Пусть черный цветок зла цветет теперь, как ему заблагорассудится. А ты иди отныне своей дорогой и поступай так, как сочтешь нужным.
Он махнул рукой и вернулся к прерванному сбору трав.
Глава 15
Эстер и Перл
Итак, Роджер Чиллингворт, кривобокий старик с лицом, надолго оставлявшим по себе дурную память у всех его видевших, отошел от Эстер Принн и сгорбленный, с опущенной головой побрел дальше. Время от времени он срывал какое-нибудь растение или вырывал из земли корешок и клал в корзину свою добычу. Седая борода его едва не касалась земли.
Какое-то время Эстер провожала его пристальным взглядом, любопытствуя, не засохнет ли нежная зеленая трава под его неверными шагами, не постигнет ли гниль и порча веселые ростки. Да и что за траву он собирает с таким неослабным усердием? Может, и сама земля под его взглядом начинает растить зло, приветствуя его ядовитой порослью доселе неведомых трав, вызванных из недр земных прикосновением этих пальцев? Или же довольно с него и того, что доброе растение от его прикосновения превращается во вредоносный сорняк? Неужели яркое, приветливое солнышко освещает и его фигуру? Не отбрасывает ли он зловещую тень на землю, по которой проходит, тень такую же уродливую, как он, следующую за ним неотступно? А куда это он идет, и не может ли он провалиться вдруг, уйти в землю, оставив после себя выжженную проклятием пустошь, на которой потом, дай срок, произрастет ядовитый паслен, белена или что там еще из вредных растений лучше всего может разрастаться пышно и неудержимо в этом краю? А может быть, он способен вдруг расправить перепончатые, как у летучей мыши, крылья и, став от этого еще безобразнее, вспорхнуть и унестись в вышину?
«Грех это или не грех, – с горечью сказала себе Эстер Принн, глядя ему вслед, но этого человека я ненавижу!»
Она упрекала себя за это чувство, но преодолеть его в себе или даже ослабить не могла. Попытки сделать это оборачивались воспоминаниями о давно минувших днях в далекой теперь стране, когда он вечерами обычно прерывал свое кабинетное уединение и, выходя к ней, грелся у их домашнего очага и в лучах улыбки своей молодой супруги.
Ему, как он признавался, необходимо было тепло ее улыбки, чтобы оттаять, растопить стужу, сковывающую сердце после долгих часов, проведенных в одиночестве за книгами. Эти картины, которые когда-то виделись ей не иначе как полными счастья, теперь, под влиянием всего, что случилось в ее жизни потом, она вспоминала с ужасом, несравнимым с самыми ужасными из ее воспоминаний. Она поражалась, как могло происходить подобное. Поражалась, как вообще дала себя уговорить выйти за него замуж. Самым большим своим грехом, больше всех других достойным раскаяния, она считала теперь то, что терпела вялые объятия его рук, терпела и отвечала на них, то, что, встречая улыбки его уст и глаз, отвечала на них своей улыбкой. А горше всех обид, причиненных им, казалась ей теперь та обида, то ужасное оскорбление, которое нанес он, убедив в свое время ее, неопытную и не знавшую ничего лучшего девушку, поверить, что с ним она будет счастлива.
«Да, я его ненавижу! – повторила Эстер с горечью еще большей. – Он предал меня. Он причинил мне больше зла, чем я ему!»
Страшитесь, мужчины, добиться руки женщины, не хранящей в сердце своем страстной к вам любви. Вас может постигнуть несчастная судьба Роджера Чиллингворта, когда чье-нибудь прикосновение, более страстное, нежели ваше, пробудит в ней чувство, а упрекнуть потом ее можно будет лишь за то спокойное довольство, с которым мирилась она с насильственно надвинутой ей на лицо мраморной маской счастья, вынужденно признаваемой ею за ее собственную теплую плоть. Но Эстер, должно быть, давным-давно искупила свою вину. В чем же вина ее теперь? Разве семь долгих лет мучений под знаком алой буквы, жизнь, полная горечи, не свидетельствуют о ее раскаянии?
Чувства, которые она испытала в те короткие минуты, глядя вслед удалявшейся кривобокой фигуре старого Роджера Чиллингворта, проливают некоторый свет на то, что творилось в душе Эстер и в чем она не призналась бы и себе самой.
Когда старик скрылся, она позвала дочь:
– Перл! Малютка Перл, где ты?
Перл, чья живость не ослабевала ни на минуту, и во время разговора, который мать вела со старым сборщиком трав, находила чем себя развлечь. Поначалу, как мы уже говорили, она затеяла шутливую перепалку с собственным отражением в озерце воды, выманивая отражение наружу, на что воображаемая девочка не рискнула; затем Перл стала прикидывать, как бы ей самой проникнуть туда, где земля неосязаема, а небо недостижимо. Однако решив, что кто-то из них двоих ненастоящий – либо девочка в воде, либо сама Перл, она обратилась к занятию поинтереснее – делать кораблики из коры березы и, нагрузив их ракушками, пускать в неведомую даль в количествах, превышающих караваны новоанглийских торговых судов. Но большинство ее корабликов гибли, прибитые к берегу. Она поймала за хвост морского конька, выловила несколько морских звезд и положила медузу на солнышко подсушиться. Затем принялась играть с морской пеной на полосе набегавшего прилива – подбрасывать в воздух ее хлопья, потом бежать со всех ног, спеша поймать снежно-белые хлопья, пока они не упали на землю. Заметив на берегу стайку морских птиц, копошащихся и клюющих что-то, шалунья набрала полный фартук камешков, и, прячась за камнями, подобравшись к стайке, вела обстрел этих крошечных морских птичек – очень ловко, из-за укрытия. Одну птичку она почти изувечила – та улетела с перебитым крылом, после чего озорница со вздохом оставила свою забаву, огорчившись, что причинила вред маленькому существу, вольному и необузданному, как морские ветра или как сама Перл.
Последним ее развлечением стал сбор разнообразных морских водорослей, которые она обернула вокруг шейки наподобие шарфа и сделала из них накидку и шапочку, чем придала себе сходство с русалкой. От матери девочка унаследовала умение наряжаться и придумывать разные костюмы и украшения. И наконец, она взяла пригоршню морской травы и сплела как могла из нее нечто вроде буквы «А» – буквы, которую она постоянно видела на материнском платье. Буква получилась не алой, как у матери, а ярко-зеленой! Склонив головку и прижав к груди подбородок, девочка с любопытством разглядывала сделанное украшение, словно единственное, для чего она была послана в этот мир, – это разгадать скрытый в этой букве смысл.
«Интересно, спросит ли меня мама, зачем я это сделала?» – думала малышка.
И она с легкостью и проворством морской птички, вспорхнув, бросилась на зов матери; и вот она уже, стоя перед Эстер Принн, со смехом и пританцовывая, тычет пальчиком в украшение на своей груди.
– Зеленая буква к твоей детской груди, крошка моя, совершенно не идет. – Помедлив, проговорила Эстер. – И знаешь ли ты, что означает знак, который твоя мама вынуждена носить на груди?
– Да, мамочка, – отвечало дитя. – Это заглавная буква «А». Ты сама показывала мне в букваре эту букву.
Эстер впивалась взглядом в личико Перл, но хотя в черных глазах дочери и заметила столь знакомое ей особое выражение, уверенности, что Перл и вправду нацепила это украшение, понимая, что делает, у нее не возникло. Ее обуревала болезненная жажда выяснить это до конца.
– Так ты знаешь, дитя, по какой причине мама носит эту букву?
– Конечно, знаю, – отвечала Перл, весело глядя в лицо матери. – По той же причине, по какой священник хватается рукой за сердце!
– И в чем же эта причина? – спросила Эстер, усмехнувшись наивности такого сопоставления, но в следующую же секунду лицо ее побледнело от внезапной догадки: «Что общего между этой буквой и сердцем кого-то, кроме меня?»
– Ну, мамочка, я сказала тебе все, что знаю, – сказала Перл, невольно посерьезнев. – Спроси старика, с которым ты только что разговаривала! Вдруг он сможет тебе ответить. Но, правда, мамочка, милая, что значит эта алая буква и зачем ты носишь ее на груди? И почему священник так часто хватается за сердце?
Обеими руками она вцепилась в руку матери и глядела на нее с глубокой серьезностью, столь не свойственной ее живой и переменчивой натуре. Эстер даже пришло в голову, что, может быть, девочка со всею детской доверчивостью тянется к ней и старается, как только может, выразить свое сочувствие, заслужив в свой черед доверие и сочувствие матери.
Для Перл это было так необычно. До сих пор мать, любя свое дитя со всей силой страсти, которой душа способна одарить единственную свою привязанность, приучила себя к мысли, что ответной любви от дочери стоит ждать не больше, чем ждем мы ее от прихотливого апрельского ветерка, который внезапно, когда ему придет охота, может повеять теплом, но чаще не ласкает, а холодит. Со свойственной ему капризностью он в момент, когда вы доверитесь ему, а он нежнейшим образом целует ваши щеки и ласково треплет ваши волосы, вдруг меняет направление и устремляется куда-то в сторону, оставляя в вашем сердце лишь приятное неясное воспоминание. Но то был всего лишь материнский взгляд на характер ребенка. Посторонние же могли, заметив некоторые неприятные особенности Перл, составить мнение о ней куда более неблагоприятное. Эстер же теперь вдруг подумала, что отличавшаяся столь ранним развитием и бойким умом Перл, видимо, достигла возраста, когда можно сделать ее своей подругой и доверить часть своих горестей в той мере, в какой это было бы возможно, соблюдая все законы приличия в отношении обеих – родительницы и ее ребенка. В бурном хаосе противоречивых черт Перл проглядывали, а возможно, и были в ней с самого начала – добрые основы – стойкое мужество, неизменная воля, гордость, которую умелым воспитанием можно превратить в чувство собственного достоинства, напрочь отвергающее и презирающее все то, что на поверку оказывается ложью. Она обладала и чувствительностью, хотя пока что проявления чувств бывали у нее и резки, и неприятны, подобно оттенкам вкуса сочного, но покуда незрелого плода.
При таком обилии добрых задатков, думала Эстер, унаследованное от матери зло должно быть уж слишком необоримо, если из шаловливого ребенка не вырастет женщина истинно благородная.
Склонность постоянно размышлять над загадкой алой буквы носила характер у девочки некоего врожденного свойства. Едва жизнь ее приобрела осознанность, стало казаться, что в этом и есть ее предназначение. Эстер нередко думала о том, что, наделив ребенка столь явной склонностью, Провидение, видимо, имело целью справедливое возмездие, но до сих пор ей не являлась мысль о том, что таковой целью могли быть и милость, и благоволение. Если Небеса вложили в сердце Перл веру и доверие, сделав ее не только земным ребенком, но и духом небесным, своим вестником, то может быть, послана она, чтоб избыть то горе, которое камнем лежало на сердце у матери, превращая это сердце в могильную плиту? Чтобы помочь ей преодолеть страсть, некогда бушевавшую в ее сердце, но живую и поныне, шевелящуюся, хоть и запертую, придавленную этой могильной плитой. И вот сейчас она перед ней – маленькая Перл, держащая обеими руками ее руку, заглядывающая ей в глаза, пытливо спрашивающая ее вновь и вновь: «Что значит эта буква, мама? Зачем ты ее носишь? А почему священник так часто хватается за сердце?»
«Что сказать ей? – говорила себе Эстер. – Нет! Нет, если это цена, которую я должна уплатить за ее ко мне доверие, то это слишком дорогая цена!»
И вслух она произнесла:
– Глупышка Перл! Ну и вопросы ты задаешь! На свете масса вещей, о которых ребенок спрашивать не должен. Откуда мне знать, что творится в сердце священника? А что до алой буквы, то ношу я ее потому, что золотая вышивка очень красива.
За все семь прошедших лет Эстер Принн ни разу не подвергала сомнению значение буквы на своей груди. Это мог быть талисман, знак неусыпного присутствия рядом с ней некоего стража, пускай сурового, строгого, но доброго духа. Но теперь дух этот, кажется, ее покинул, прознав, что, несмотря на неусыпную его стражу, в сердце ее проникло и угнездилось в нем какое-то новое зло, а может быть, зло было старым, которое все еще не удалось изгнать. Личико Перл между тем перестало выражать серьезность.
Однако дитя все не унималось. Два или три раза на обратном пути и несколько раз за ужином и после, когда Эстер укладывала ее в постель, и даже потом, когда, казалось, она уже крепко спит, Перл открывала черные глазки и в них зажигался шаловливый огонек.
– Мама, – спрашивала она, – что значит эта алая буква?
А наутро, едва проснувшись и оторвав голову от подушки, она задала другой вопрос, так непонятно, непостижимо сочетавшийся в ее сознании с вопросом об алой букве.
– Мама! Мама! Почему священник так часто хватается за сердце?
– Замолчи, непослушная ты девочка! – сказала мать с резкостью, которую раньше никогда себе не позволяла. – Не приставай ко мне с этим, а не то я тебя в темный чулан запру!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































