Текст книги "Алая буква"
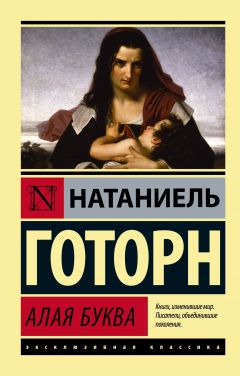
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Душевное состояние мистера Димсдейла в этот момент отличала одна особенность – устремляя взгляд в точку зенита, он в то же время видел, что маленькая Перл пальцем указывает на Роджера Чиллингворта, стоявшего поодаль от эшафота. Священник словно видел его, хотя глаза его неотрывно глядели на чудесное явление буквы. Чертам лица доктора, как и всем предметам вокруг, свечение метеора придавало какой-то новый облик и новое выражение, а может быть, доктор просто неосторожно приоткрыл то, что в другое время так тщательно скрывал, – ненависть, которую он чувствовал к своей жертве. Казалось, зарево, зажегшее небо и осветившее всю землю, напоминало Эстер Принн и священнику о Страшном суде, а Роджер Чиллингворт, стоявший неподалеку со злорадной ухмылкой на лице, – это сам враг рода человеческого, поджидающий свою добычу. Так выразительна была его ухмылка, так потрясла она священника, что ему почудилось, будто она осталась начертанной на темном своде небесном даже после того, как метеор, сверкнув, исчез, моментально утянув за собой в небытие улицу со всем, что на ней было.
– Кто этот человек, Эстер? – еле выговорил священник: от ужаса он почти онемел. – Меня от него бросает в дрожь! Ты его знаешь? Я ненавижу этого человека, Эстер!
Но она, помня свою клятву, молчала.
– Говорю тебе, лицо его меня повергает в трепет! – продолжал священник. – Кто это такой? Неужели ты не поможешь мне? Когда я гляжу на него, меня неизвестно почему охватывает ужас!
– Пастор, – произнесла малютка Перл, – я могу сказать тебе, кто это.
– Скажи поскорее, дитя! – сказал священник, приближая ухо к самым губам ребенка. – Скорее! Скажи это как можно тише, шепотом!
Перл прошептала ему на ухо нечто осмысленное и похожее на внятную речь лишь внешне, а по существу являющееся чепухой, абракадаброй, которой, часами балуясь, могут развлекаться дети. Так или иначе, но даже если в сказанном ею и содержались какие-то тайные сведения о Роджере Чиллингворте, то были они на языке эрудиту-священнику неизвестном и лишь усилили его замешательство. Девочка-эльф.
– Так ты смеешься надо мной? – пробормотал священник.
– Ты струсил, ты поступил нечестно! – отвечала девочка. – Ты не пообещал держать меня и маму за руку завтра утром!
– Достопочтенный сэр! – вскричал доктор, успевший за это время приблизиться к помосту. – Благочестивый мистер Димсдейл, неужто это вы? Вот история так история! Мы, люди науки, так глубоко зарываемся в книги, что за нами нужен глаз да глаз. Бодрствуя, мы грезим, во сне способны ходить! Пойдемте, добрый сэр, друг мой, пойдемте, молю вас, разрешите мне проводить вас домой!
– Как вы узнали, что я здесь? – боязливо вымолвил священник.
– Даю вам честное слово, – отвечал Роджер Чиллингворт, – что я не имел об этом ни малейшего понятия. Я добрую половину ночи провел у одра почтенного губернатора Уинтропа, употребляя все мое слабое умение, чтобы облегчить его страдания. Он отправился в лучший мир, ну а я – к себе домой, когда по пути вдруг увидел этот странный свет. Пойдемте со мной, преподобный отец, умоляю, иначе вы не сможете служить утреннюю субботнюю службу. Нет, вы только подумайте, как будоражат ум эти книги! О книги, книги! Вам, добрый сэр, надо заниматься поменьше, давать себе отдых, а не то эти ночные кошмары совсем вас одолеют!
– Я пойду с вами, – сказал мистер Димсдейл.
Понурый, замерзший, совершенно разбитый, словно очнувшийся после дурного сна, он отдался в руки доктора и позволил себя увести.
Однако на следующей же службе, в субботу, произнося проповедь, он говорил так ярко и с такой силой, будто само Небо вдохновляло его и предсказывало слова, слетавшие с его уст. Не одна душа, а многие, многие души, как говорят, были наставлены на путь истинный этой проповедью, за что всю жизнь потом были признательны мистеру Димсдейлу, испытывая к нему глубочайшую благодарность. Но когда он спускался с кафедры, поджидавший его седобородый сторож протянул ему черную перчатку, которую священник признал своей.
– Ее сегодня утром нашли, – сказал сторож, – на позорном помосте, куда грешников ставят. Сатана ее туда подбросил, так я думаю. Грязную шутку с вашим преподобием сыграть вздумал. Но глуп он, как всегда. Глуп и слеп. Руке человека безгрешного скрываться под перчаткой ни к чему!
– Благодарю вас, добрый друг мой, – сказал священник тоном серьезным и спокойным, хотя душа его содрогнулась, ибо такими путаными были воспоминания о прошлой ночи, что он почти готов был поверить, что все произошедшее ему почудилось. – Да, кажется, это и правда моя перчатка.
– Ну а если Сатана посмел, ваше преподобие, выкрасть ее у вас, – с невеселой улыбкой заметил старый сторож, – то вам уж надлежит ему впредь спуску не давать, обходиться с ним круто, без перчаток! А слыхали вы, ваше преподобие, какое знамение ночью явлено было? Огромная алая буква на небе, буква «А». То есть «ангел», мы так это поняли. Ведь добрый наш мистер Уинтроп, губернатор, прошлой ночью скончался, к ангелам отошел. Видно, об этом знамение и известить нас было послано.
– Нет, – отвечал священник. – Ничего такого я не слыхал.
Глава 13
И вновь об Эстер
Во время своей последней и такой необычной встречи с мистером Димсдейлом Эстер Принн поразило состояние священника, то, как печально он изменился. Он казался совершенно подавленным и безвольным. Душевные силы оставили его, уступив место почти детской слабости. Мужчина, некогда мощный и гордый, рухнул и теперь, согбенный, еле влачился, припадая к земле, не смея поднять головы, притом что природный ум его не пострадал, а даже приобрел бо́льшую остроту, особую зоркость, породить которую могла только болезнь. Зная цепь обстоятельств, скрытую от всех других, Эстер готова была прийти к заключению, что, помимо понятных и закономерных мук совести и раскаяния, мистера Димсдейла ныне гнетет, не давая ему покоя, какой-то страшный, тяжкий груз, который он обречен нести, не смея скинуть его с плеч. Помня, каким раньше был этот несчастный, сокрушенный горем человек, она не могла не ощутить волнения, не отозваться всей душой на то, с какой дрожью ужаса он молил ее, отверженную, помочь ему выстоять против того, в ком инстинктивно чуял врага. Более того, она решила, что он имеет право на ее помощь и всяческое содействие. В долгой своей оторванности от общества она утратила привычку соизмерять свои представления о добре и зле с представлениями общепринятыми и полагалась в этом только на себя. Эстер чувствовала – или так ей казалось – что за священника она ответственна, как не ответственна ни за кого другого и ни за что другое в мире. Все узы, соединявшие ее с людьми, все нити, из чего бы ни были они сотканы – из шелка, цветочных стеблей, золотой канители, – теперь были порваны. Осталась только одна связь – железная связь совместно совершенного преступления, ее порвать не могли ни она, ни он. И, как все узы, связь эта вела за собой обязательства.
По сравнению с тем временем, когда мы только познакомились с ней, а позор ее только начинался, положение Эстер Принн теперь несколько изменилось. Шли годы. Перл исполнилось теперь уже семь лет, а ее мать, женщина, на чьей груди сверкала в причудливом своем обрамлении алая буква, давно уже примелькалась среди жителей города. Как это нередко бывает в тех случаях, когда кто-то, с одной стороны, выделяется из толпы, с другой же – ничем не мешает другим и не приносит им вреда, в общине теперь возобладало другое отношение к Эстер. К чести нашей надо сказать, что людям, если только не побеждает в них эгоизм, больше свойственно любить, чем ненавидеть. Ненависть же в случаях, когда ее не подпитывает новое раздражение и не мешает новая вспышка враждебности, постепенно и потихоньку может даже перейти в любовь. Но Эстер Принн ничем не раздражала горожан и не докучала им.
Она не вступала с ними в борьбу, а покорно, не жалуясь, подчинялась самому худшему. Она не задавалась вопросом о справедливости, не требовала воздаяния за свои страдания, не заискивала перед людьми и не напрашивалась на жалость. За нее говорила и безупречность поведения в течение всех этих лет, когда ее с позором отлучили от общества. Не имея ничего, что можно потерять или к чему стремиться, ничего не желая и не думая ни о какой выгоде, эта странница могла продолжать путь, движимая лишь собственной добродетелью.
К тому же не оставалось незамеченным и то, что, не прося для себя ничего из мирских благ, кроме как права дышать и зарабатывать на хлеб для себя и маленькой Перл усердием рук своих, Эстер спешила оказать сестринскую помощь всем, кому могла быть от этого польза. Никто с такой готовностью, как она, не откликался на просьбу о милостыни, даже если ожесточивший сердце свое нищий вместо благодарности за еду, регулярно приносимую к его порогу, или платье, сшитое руками, достойными обшивать монарха, кидал ей издевательскую злую шутку. Когда в город прокралась чума, никто не проявлял такой самоотверженности, как это делала Эстер. Где бы ни случалась беда – общая или с отдельным человеком, первой являлась эта отщепенка, являлась и была на месте. Она приходила не гостьей, а по праву близкого человека в дом, омраченный несчастьем, как будто угрюмый сумрак и есть та единственная среда, в которой ей пристало общаться с соплеменниками. И в этом сумраке мерцала вышитая буква, даря покой и уют своим нездешним светом. И хоть повсюду ее считали знаком греха, она превращалась в луч света возле постели страдальца. И свет этот озарял даже муки и, преодолевая грань времени, страдалец знал, куда направить путь, и летел туда, где меркнул земной свет, а другой, будущий, уже сиял вдали. Что бы ни случилось, натура Эстер проявлялась во всей своей теплой щедрости; она была неисчерпаемым источником нежности к каждому страждущему, неутомимо даря ее даже самым неуступчивым. Ее отмеченная позорным знаком грудь служила самой мягкой подушкой для головы, жаждущей прислониться. Эстер сама себя назначила сестрой милосердия, или же, вернее будет сказать, назначила ее на эту должность тяжелая рука окружения, когда ни она, ни мир вокруг об этом и не думали. И буква стала символом ее предназначения. С такой готовностью дарила она помощь, так неутомима была в служении людям, что многие отказывались признавать в букве «А» ее первоначальный смысл. Они считали, что «А» означает able (сильная, умелая) – такая сила исходила от Эстер Принн.
Но оставалась она в домах, лишь пока в них было от горя темно. Едва дома эти озарялись солнцем, она исчезала и тень ее таяла за порогом. Такой нужный и необходимый близкий человек уходил, даже не оборачиваясь и не ожидая благодарности тех, кому она так ревностно служила и чье сердце, может быть, было полно благодарности. Встречая их на улице, она не поднимала головы и не отвечала на приветствия. Если же они решались ее окликнуть, она указывала пальцем на алую букву и проходила мимо. Это могло быть и гордыней, но столь похожа она была на униженность и смирение, что отношение к ней общества постепенно смягчилось. По своему характеру общество деспотично и способно наотрез отказывать в простой справедливости там, где справедливости этой требуют как своего законного права, но также часто оно может даровать и нечто большее, нежели простая справедливость, когда просят так, как любят деспоты, взывая о милости. Видя в поведении Эстер Принн именно такого рода просьбу, общество склонялось к тому, чтобы проявить к бывшей своей жертве бо́льшую благосклонность, чем она надеялась снискать или, может быть, даже заслуживала.
Законодатели, а также умудренные учением мужи признали влияние добродетелей Эстер позже, нежели все другие. Предрассудки, которые они разделяли с последними, подкреплялись и усиливались в них железной логикой разума, что делало эти предрассудки устойчивее и въедливее. Однако и у них день ото дня все заметнее разглаживались суровые морщины и выражение неподкупной строгости на лицах со временем обещало смениться чуть ли не благосклонностью. Но это относилось к видным деятелям общины, которых само их положение обязывало стоять на страже общественной нравственности. В частной же своей жизни люди совершенно простили Эстер Принн ее слабость, нет, больше того: они увидели в алой букве не напоминание о единственном ее грехе, за который она так долго и тягостно расплачивается, а знак, говорящий о многочисленных добрых ее деяниях. «Видите вон ту женщину, отмеченную вышитым знаком? Это наша Эстер, наша городская знаменитость, которая так добра к беднякам, так помогает недужным, так облегчает жизнь калекам и убогим!» Правда, по извечной человеческой склонности видеть дурное и горячо осуждать его в других они шептались об ужасном произошедшем некогда скандале. Но те же самые люди относились к алой букве на груди Эстер, как к кресту на груди монахини. В их глазах он наделял Эстер своего рода святостью, оберегая ее от всякого рода зла и опасностей. Очутись она в воровском притоне, она и там бы осталась чистой и незапятнанной. Рассказывали, и в это верили многие, что однажды, когда индеец нацелил стрелу прямо в знак на груди Эстер, стрела коснулась знака, но упала на землю, не поранив обладательницу.
Но на саму Эстер этот знак, а вернее, положение ее в обществе, на которое он указывал, имел влияние сильнейшее и ни с чем не сравнимое. Все легкое и изящное в ее характере давно выжгла эта пылающая головня, и оно опало увядшей листвой, оставив лишь голый и жесткий ствол, вид которого способен был оттолкнуть, имей она вокруг себя близких друзей. Такие же изменения претерпела и ее привлекательная внешность. Возможно, частично виною этому была намеренная строгость ее платья, а частично – подчеркнутая скромность и сдержанность манер. К тому же было невыносимо жаль, что ее густые роскошные волосы были либо коротко острижены, либо спрятаны под чепцом так плотно, что ни единый локон никогда не выбивался на свет божий. Все это являлось причинами, но не главными, главная же заключалась в том, что не было в лице Эстер ничего, что призывало бы любовь, не было в фигуре, по-прежнему безупречной и прекрасной, как статуя, того, что побуждает заключить ее в объятия, а грудь Эстер больше не казалась прибежищем, в котором могло бы угнездиться теплое чувство. Нечто важное покинуло ее, то, что ранее делало ее женщиной и помогало всегда оставаться ею. Так нередко бывает с женщинами, чью судьбу и характер изменяют выпавшие на их долю испытания, если последние отличаются особой жестокостью. Останься такая женщина нежным цветком – и она погибнет. Ну а если женщина выживет, нежность будет либо вытеснена, либо, хотя внешне это никак не проявится, нежность эта загнана будет глубоко внутрь, в самые недра ее существа, да так, чтобы не смела даже выглядывать наружу. Последняя версия кажется нам более всего отвечающей истине. Та, что некогда являлась женщиной, но перестала ею быть, может опять вернуть свое женское естество, преображенная неким волшебным прикосновением. Впоследствии мы узнаем, испытала ли Эстер Принн подобное прикосновение и преобразило ли оно ее.
Многое в холодной мраморности теперешней Эстер следует отнести к изменившимся обстоятельствам ее жизни, в значительной степени сосредоточившейся отныне не в сфере страстей, а в сфере умственной. Оставшись один на один со всем миром, одинокая и никак не зависящая от общества, да еще обязанная воспитывать и охранять маленькую Перл, без надежды вернуть себе былое положение, притом что она и не желала этого, с презрением отвергая такую возможность, она выбросила звенья сломанной цепи. Законы общества ничем не сковывали ее ум. Ведь это было время, когда разум человеческий, едва обретя свободу, деятельно расширял для себя пространство, проникая в сферы, до того наглухо закрытые и запретные для него в течение столетий. Мужи, владеющие мечом, сокрушили знать и королей. Другие мужи, еще более храбрые, сокрушили и переиначили – не буквально, но теоретически, в сфере, наиболее ими освоенной, – всю систему старозаветных верований, мнений и предубеждений, тесно связанных с устарелыми законами. Эстер Принн впитала в себя этот дух. Она обрела свободомыслие, в значительной степени утвердившееся на другой стороне Атлантики, но которое наши предки, если б проведали о нем, сочли бы преступлением куда более страшным, чем то, о чем гласила алая буква. Ей в уединенный домик на побережье являлись мысли, не смевшие посещать обитателей других жилищ Новой Англии, призрачные гости, которые, постучись они в иную дверь, смутили бы хозяйку как опасные.
Примечательно, что люди, весьма свободные в мыслях, нередко демонстрируют совершенную покорность по отношению к законам и запретам, налагаемым на них обществом. Они довольствуются мыслью как таковой, не помышляя облечь ее в плоть и кровь реального действия. Так происходило и с Эстер. И все же, если б не явилась к ней из мира духов маленькая Перл, все могло бы сложиться по-другому. Тогда Эстер могла бы найти свое место в истории где-нибудь рядом с Энн Хатчинсон, став основательницей той или иной религиозной секты. Могла бы превратиться в пророчицу, и не исключено, и даже наверное, предстала бы она тогда перед строгим судом и, обвиненная в попытках подорвать пуританские основы всего нашего общественного устройства, была бы предана казни. Но волей-неволей большую часть ее мыслей занимало воспитание дочери. С этой подаренной ей судьбой маленькой девочкой в руки ее был передан бутон, которому в будущем предстояло расцвести пышным цветом женственности, бутон, который надо было вопреки всем бесчисленным трудностям оберегать и лелеять. Все было против Эстер. Ей противостоял враждебный мир. Противостоял характер девочки, в котором было что-то странное, неправильное, заставлявшее помнить о противозаконном зачатии этого плода безумной материнской страсти и побуждавшее Эстер то и дело горестно вопрошать, на счастье или на горе родилось на свет это дитя.
И те же мрачные мысли вызывала у нее женская судьба вообще. В чем смысл существования женщины, даже самой счастливой? Есть ли в этой жизни ценность? Для самой себя и собственной своей жизни Эстер давно уже решила этот вопрос, ответив на него отрицательно. Склонность размышлять может приносить женщине, как и мужчине, покой, вызывая смирение, но эта же склонность повергает женщин в уныние. Быть может, они чувствуют себя слишком слабыми для выполнения стоящей перед ними задачи. Ведь в качестве первого шага следовало бы разрушить все общественное устройство и в корне переделать его. Затем надо заняться изменением самой природы противоположного пола, искоренить наследственные, ставшие уже сущностными привычки мужчин, чтобы женщина могла по справедливости занять в обществе достойное место. И наконец, даже если все прочие трудности будут преодолены, женщина не сможет воспользоваться плодами этих изменений, если сама не изменится еще более радикально, отчего, возможно, улетучится та эфемерная сущность, в которой и заключается ее подлинная жизнь. Никаким напряжением умственных сил и никакими упражнениями ума женщине этих задач не решить. Если и можно ей их решить, то только одним способом – предпочтя разуму голос сердца. Как только это произойдет, проблемы улетучатся. А пока Эстер Принн, чье сердце утратило способность биться ровно и размеренно, блуждала в темном лабиринте мыслей, не имея к ним ключа, не зная, куда ступить, то в ужасе шарахаясь от разверзшейся перед ней пропасти, то пятясь при виде трещины в скале. Временами в душу ей даже боязливо закрадывалось сомнение, не лучше ли сразу отправить Перл на небо, предав свое будущее воле Предвечного судии.
Видно, не выполнила своего назначения алая буква.
Однако теперь, после встречи с преподобным мистером Димсдейлом в ночь странного его бдения, мысли ее потекли по иному руслу и сосредоточились на цели, достижение которой было достойно, как казалось, всех ее усилий и жертв. Она стала свидетельницей мучительной борьбы, которую вел, а вернее будет сказать, перестал вести священник. Она видела, что он находится на грани безумия, а возможно, уже и перешел эту грань. Было несомненно, что какой бы болезненной и стойкой ни была рана бесконечного и тайного его раскаяния, яду туда еще и подливала рука, обещавшая облегчить его боль. Тайный враг под видом друга и помощника не оставлял и постоянно оказывался рядом, не упуская возможности вмешаться, едва деликатный священник давал ему для этого малейший повод. Эстер не могла не задаваться вопросом, нет ли ее вины в том, что священник оказался в ситуации, не предвещавшей ему ничего, кроме зла, и не из-за ее ли трусости, лживости, предательства это случилось. Единственным оправданием ей могло служить то, что не сумела она увидеть иного способа спасти священника, избавив от черного позора, который обрушился на нее саму, кроме как согласиться на план Роджера Чиллингворта и скрывать его имя. Поэтому она и сделала выбор, который, как теперь оказалось, был самым худшим из всех. И она решила исправить свою ошибку, насколько это было еще возможно. Закаленная годами тяжких и безжалостных испытаний, она чувствовала теперь в себе силы противостоять Роджеру Чиллингворту, не спасовать перед ним, как в ту ночь, когда она, задавленная своим грехом, в полубезумии от только что обрушившегося на нее позора, говорила с ним в тюремной камере. Теперь, пройдя трудный путь, она выросла и словно стала выше. Старик же, напротив, как бы уменьшился ростом, став с ней вровень, а может, и ниже, опустившись до низкой мести.
Итак, Эстер Принн приняла решение встретиться с бывшим своим мужем и сделать все возможное для спасения жертвы, ухватив которую, он, по-видимому, держал крепко и не собирался выпускать из рук. Долго искать случая не пришлось. Однажды, гуляя с Перл в безлюдной части полуострова, она заметила старого доктора. Держа в одной руке корзину, а в другой – посох, он бродил, то и дело склоняясь к земле в поисках корней и трав для лечебных своих снадобий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































