Текст книги "Алая буква"
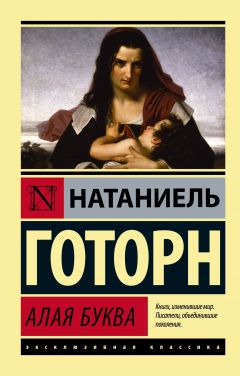
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Роджер Чиллингворт обладал всеми или почти всеми из названных выше качеств. Между тем время шло, близкая дружба их, как мы уже говорили, крепла, связь этих двух просвещенных умов становилась все теснее; общение этих двоих включало теперь все сферы науки и мыслительной деятельности человечества, обсуждение вопросов нравственных и религиозных, темы общественной и частной жизни, однако в этих беседах, в которых обе стороны не чурались и проблем самого личного свойства, никакую тайну, существование которой предполагал врач и которую мистер Димсдейл мог бы шепнуть ему на ухо, Чиллингворту не удавалось выудить. Чиллингворт имел серьезные подозрения, что и симптомы своего телесного недуга мистер Димсдейл от него в значительной мере утаивает. Странной казалась врачу эта скрытность.
Спустя некоторое время друзьям мистера Димсдейла удалось поселить его в одном доме с Роджером Чиллингвортом, о чем тот им ранее намекнул. Теперь ни одна деталь в жизни священника, весь ход и все течение ее не могли укрыться от жадного внимания преданного друга и врача. Когда цель предпринятых усилий была достигнута, город охватила волна радости: чего уж лучше можно было придумать для благополучия священника, не считая брака с какой-нибудь цветущей юной особой, преданной и близкой ему духовно и потому способной стать верной женой. Но последнее – шаг, к которому его непрестанно склоняли, по-видимому, не имело будущего, ибо Артур Димсдейл отвергал все предложения такого рода, словно безбрачие являлось непременным и важнейшим условием принятой им священнической миссии. И поскольку мистер Димсдейл, как это явствовало, по собственной воле обрек себя на то, чтобы есть невкусный хлеб свой за чужим столом и зябнуть всю жизнь, ибо такова судьба всех тех, кто предпочитает греться у чужого очага, казалось самым мудрым и разумным решением, если благожелательный и спокойный старый врач, так по-отцовски и в то же время почтительно относящийся к молодому пастору, как никто другой дарящий его своей любовью, будет всегда рядом.
Друзья наши поселились у вдовы, женщины почтенной и набожной, чей дом находился вблизи того места, где впоследствии была воздвигнута достославная Королевская часовня. Сбоку от дома, на бывших угодьях Айзека Джонсона, располагалось кладбище, всем видом своим побуждавшее к раздумьям – занятию, столь любезному как священнику, так и ученому доктору. Добрая женщина, окружив мистера Димсдейла материнской заботой, отвела ему комнаты на солнечной стороне, но с тяжелыми шторами на окнах, с тем чтобы можно было при желании посидеть в полумраке. Стены были увешаны коврами, вышедшими, по слухам, из мастерской самого Гобелена и изображавшими сцены из Священного Писания – историю Давида и Вирсавии, а также пророка Натана. Ковры еще не выцвели, и яркие краски их придавали облику красавицы Вирсавии такую же мрачную живописность, какой дышало и лицо предвещавшего всяческие беды пророка. Здесь священник расположил и свою библиотеку, груды томов, а среди прочего переплетенные в пергамент труды отцов церкви, наследие раввинов и ученых монахов – все то, что протестантские богословы подвергли поношениям и проклятиям, но к чему не могли не обращаться вновь и вновь.
Другая половина дома была отдана Роджеру Чиллингворту под его кабинет и лабораторию. Оборудование последней, которое современный ученый посчитал бы совершенно недостаточным, включало в себя аппарат для дистиллирования воды и средства изготовления сложносоставных снадобий и смешивания элементов, которым опытный алхимик умел найти наилучшее применение. Так, удобно обосновавшись, наши ученые друзья и зажили – каждый на своей половине, но часто наведываясь друг к другу.
Как было уже сказано, самые проницательные из друзей мистера Димсдейла разумно приписали сложившуюся ситуацию воле Провидения, внявшего наконец неустанным моленьям многих – в церкви, дома и в тайниках души – и решившего помочь исцелить молодого пастора. И однако следует сказать о том, что часть городского сообщества постепенно начала видеть отношения мистера Димсдейла и таинственного доктора в несколько ином свете, ведь когда невежественная и неискушенная толпа пытается составить собственное мнение о тех или иных вещах, очевидность нередко их обманывает. Но если она, как ей обычно свойственно, судит исходя из внутреннего чутья, так, как подсказывает ее большое горячее сердце, то выводы, к которым она приходит, нередко отличаются такой точностью и глубиной, что кажутся истиной, подсказанной нам какими-то высшими силами. В случае, о котором идет речь, люди ничем не могли подкрепить свое предубеждение против Роджера Чиллингворта. Однако существовал некий престарелый ремесленник, живший в Лондоне в тот период, когда случилось там убийство сэра Томаса Овербери, то есть лет за тридцать до описываемых событий, и ремесленник этот утверждал, что встречал тогда в Лондоне нашего доктора в обществе доктора Формана, знаменитого мага и колдуна, которого считали причастным к убийству Овербери. Причем наш доктор носил другое имя, а какое, ремесленник вспомнить не мог. Двое-трое других граждан намекали на то, что, будучи в плену у индейцев, искусный доктор пополнял свои знания и оттачивал мастерство, участвуя в заклинаниях местных жрецов и дикарских ритуалах, признанных могущественными колдунами и умевших добиваться удивительных результатов в лечении благодаря искушенности своей в черной магии. Многие, в том числе люди вполне практические и отличавшиеся вполне здравым смыслом, что заставляло прислушиваться к их мнению, утверждали, что за время проживания в городе Роджер Чиллингворт сильно изменился внешне. Поначалу лицо его выражало спокойствие и свойственную ученому задумчивость. Теперь же в лице его появилось что-то уродливое и злое, чего раньше заметно не было, а при внимательном взгляде проявлялось все больше. Высказывалась даже вульгарная идея, состоявшая в том, что огонь, горящий в его лаборатории, зажжен от адского пламени, питаемого сатанинским топливом, копоть от которого и оседала на лице ученого.
Итак, по-видимому, общее мнение склонялось к тому, что преподобный Артур Димсдейл, как человек, отмеченный особой святостью, искушаем либо самим Сатаной, либо его посланцем. Подобное случалось не раз на протяжении всех веков христианства: сатанинский посланник втирается в доверие святого отца и начинает плести козни, пытаясь погубить его душу. Но ни один разумный человек не станет сомневаться в том, за кем останется победа! С неослабной надеждой следили люди за этой схваткой, ожидая, когда священник с победой выйдет из нее, увенчанный славой, которая ему уготована. Но горько было думать о страданиях, которые приходилось ему претерпевать на пути к триумфу.
Увы! Судя по мраку и ужасу, затаившимся в глубине глаз бедного священника, битва была и вправду жестокой, и конечная победа вовсе не казалась предрешенной.
Глава 10
Лекарь и пациент
Старый Роджер Чиллингворт, от природы человек спокойный и доброжелательный, хотя и не отличался особой пылкостью чувств, но в отношениях с людьми всегда был прям и неподкупно честен. К расследованию своему он приступил, по его мнению, со всей строгостью и беспристрастностью судьи, единственным желанием которого является желание добиться истины, даже в случае, если доказательства эфемерны, подобно линиям и пропорциям начертанной в воздухе воображением геометрической фигуры, а само дело никак не касается ни страстей человеческих, ни зла, причиненного лично ему. Но чем дальше продвигался он в расследовании, тем больше и неодолимее охватывало его увлечение, все крепче сжимали его тиски необходимости – спокойно, но твердо продолжать начатое дело; старик знал, что тиски эти его не отпустят, пока задача не будет выполнена. Он все глубже проникал в душу бедного священника, копая и копая – подобно рудокопу в поисках золота или скорее могильщику, раскапывающему могилу в надежде найти драгоценный камень, блестевший на груди мертвеца во время похорон, хотя, скорее всего, найдет он только прах и тлен. Горе душе, чьи мечты не взлетают выше!
Порою в глазах врача зажигался опасный синеватый огонек, казавшийся отсветом пламени, горящего в печи, или, скажем, того страшного огня, который, вырвавшись из жутких врат горы, описанной Баньяном, вдруг заиграл на лице паломника[18]18
Аллюзия на роман «Путь паломника» английского писателя Джона Беньяна (1628–1688).
[Закрыть]. Это значило, что почва, на которой трудился сей неутомимый рудокоп, подавала ему некие обнадеживающие знаки. «Этот человек, – сам себе говорил он в такие минуты, при всей своей кажущейся чистоте и духовности, унаследовал от отца либо матери натуру, полную животной страстности. Так будем же копать дальше в этом направлении!»
Но затем, углубившись в сумрачные глубины души священника, переворошив в ней множество ценных пластов, таких как высокое устремление работать на благо народа, человеколюбие, чистота помыслов, врожденное благочестие, еще и усиленное мыслью, и умственными упражнениями, и озарениями свыше, – все это богатство он, видимо, отбрасывал как совершенно ненужный хлам, отворачивался и, разочарованный, начинал копать в другом месте. Он двигался украдкой, осторожными шагами, поминутно оглядываясь – так проникает вор в комнату, где спит, а может быть еще и не спит, человек, охраняющий сокровище, берегущий пуще глаза своего то, что вор вознамерился украсть. Половицы под ногами вора то и дело поскрипывают, одежда на нем колышется, издавая шелест, тень от его находящейся в преступной близости фигуры падает на лицо жертвы. Иными словами, мистер Димсдейл, душевная чуткость которого нередко рождала интуитивные прозрения, иногда смутно ощущал рядом с собой нечто враждебное, желающее вторгнуться и нарушить покой его души. Но старый Роджер Чиллингворт обладал интуицией не менее тонкой, и потому, вдруг вскидывая на него тревожный взгляд, священник видел перед собой лишь своего врача, своего доброго, чуткого, полного сочувствия, но не назойливого друга.
И все же мистер Димсдейл, быть может, лучше бы разобрался в характере своего друга, если б болезненная мнительность, так часто свойственная людям несчастным, не заставляла его с подозрением относиться ко всем вокруг. Не доверяя людям вообще и друзьям в частности, он не сумел распознать врага, когда тот действительно возник рядом. И мистер Димсдейл продолжал ставшее привычным общение, ежедневно беседуя со старым доктором в своем кабинете или заходя к нему в лабораторию, где отдыхал, наблюдая за тем, как различные травы превращаются в действенные лекарства.
Однажды он стоял возле открытого окна лаборатории и, облокотившись на подоконник, а рукою подпирая лоб, поглядывал на кладбище, разговаривая с врачом, разбиравшим ворох ничем не примечательных растений.
– Где это вы, добрый мой доктор, – спросил священник, покосившись на растения, ибо редко теперь он обнаруживал свою заинтересованность в предмете, – собрали растения, с такими пожухлыми темными листьями?
– Да здесь рядом, на кладбище, – отвечал, не прерывая своего занятия, доктор. – Никогда не видел таких. Я сорвал их на могиле, не имеющей ни надгробия, ни таблички с именем покойного. Лишь эти уродливые сорняки взяли на себя миссию сохранять память о нем. Они выросли из его сердца и, может статься, воплотили в себе какой-то безобразный секрет, который он унес с собой в могилу, хотя лучше б было исповедаться в нем при жизни.
– Возможно, – заметил мистер Димсдейл, – он искренне желал это сделать, но не мог.
– А почему? – отозвался доктор. – Почему же не сделать того, о чем вопиет сама природа, взывая сознаться во грехе, если само сердце грешника прорастает черными травами – этим знаком утаенного преступления!
– Это все, друг мой, только ваша фантазия, – возразил священник. – Нет такой силы, если я понимаю это правильно, кроме Божественного откровения, которая была бы способна раскрыть, в словах ли, либо знаком тайны сердца человеческого, погребенные вместе с ним! Сердце, виновное в сокрытии подобной тайны, обречено хранить ее в себе до дня, когда раскроются все тайны! Да и в Священном Писании никак не говорится о том, что раскрытие помыслов и деяний человеческих в день Страшного суда задумано в наказание человеку как часть этого наказания. Такой взгляд был бы слишком плоским. Нет, подобные раскрытия, если я верно это понимаю, должны дать мыслящим существам познание, тем самым принеся им глубочайшее умственное наслаждение. В тот великий день человечество застынет в ожидании момента, когда разверзнется тьма и загадка бытия разрешится. Для полного раскрытия этой тайны и необходимо полное знание всех сердец и всего, что в них таится. И я предвижу, как сердца, хранящие жалкие секреты, о которых вы говорите, в тот последний день раскроются, чтобы выдать эти секреты не через силу, неохотно, а с неизъяснимой, неописуемой радостью!
– Тогда почему же не раскрыть их сейчас? – спросил Роджер Чиллингворт, спокойно окинув взглядом священника. – Почему бы виновным не признаться в своих грехах, не доставить себе такой неизъяснимой радости?
– В большинстве своем они так и поступают, – отвечал священник, хватаясь рукой за грудь с такой силой, будто его терзает боль. – Много, много несчастных страдальцев исповедались мне, и не только на смертном одре своем, но полные жизненных сил, пользующиеся почетом и уважением. И неизменно после таких излияний я видел своими глазами, какое облегчение чувствовали эти грешные мои собратья! Как будто распахнулось окно, и в комнату, где дышали они доселе лишь спертым воздухом с нечистым запахом греха, ворвались свежие, благоуханные ароматы! Да и могло ли быть иначе? Разве может несчастный, виновный, скажем, в убийстве, предпочесть хранить труп, пряча его в собственном сердце, тому, чтоб поскорее, при первой возможности, избавиться от него, и тогда пусть другие позаботятся о мертвом теле, соблюдая все законы.
– Однако находятся люди, которые все же предпочитают тайны свои скрывать, – спокойно заметил доктор.
– Вы правы, есть такие люди, – отвечал мистер Димсдейл. – Но, не говоря о причинах более очевидных, может быть, молчать их заставляет их натура? Слабость характера? Или же – разве нельзя предположить и такое? – будучи виноватыми, они все же сохраняют в себе стремление послужить во славу Божью и благу людскому и потому страшатся вдруг оказаться в глазах окружающих грязными мерзавцами, неспособными к добру, негодяями, чье темное прошлое невозможно будет искупить никакими благими деяниями. И вот влачат они свои дни в неизъяснимых мучениях, являясь во мнении людей чистыми как первый снег, в то время как души их запятнаны грязью сокрытого преступления, и смыть с себя эти пятна они не могут.
– Такие люди обманывают себя, – сказал Роджер Чиллингворт с необычной для себя горячностью и даже сопровождая слова свои грозящим жестом перста. – Они боятся принять на себя груз стыда, который по праву должны взвалить на свои плечи. Человеколюбие, стремление послужить во славу Господа, может быть, и живут в их сердцах, но соседствуя, несомненно, с порочными помыслами, путь которым в их сердца проторил их грех, чтоб сеяли они там впредь дьявольские свои семена. Но если взыскуют они трудиться во славу Божью, то как смеют они простирать грязные свои руки вверх, к небесам! А если желают они посвятить себя служению людям, то пусть докажут присутствие в душе совести и силу своего духа, принудив себя к унижению раскаяния. Не станете же вы, мудрый и благочестивый друг мой, доказывать мне, что лицемерной ложью и притворством можно лучше послужить людям и славе Господней, чем богоданной истиной! Люди эти обманывают сами себя, уж поверьте мне!
– Может, и так, – произнес молодой священник равнодушным тоном, словно отмахиваясь от спора, который видится ему несущественным или несвоевременным. Сказать по правде, он норовил избегать тем, способных сильно взволновать его тонкую и чувствительную натуру. – Лучше скажите мне, мой многоопытный врач, скажите как на духу, усматриваете ли вы пользу, приносимую вашей доброй заботой и лечением хрупкой моей телесной оболочке?
Но прежде чем Роджер Чиллингворт успел ответить, они услыхали звонкий безудержный детский смех, доносившийся со стороны примыкавшего к дому кладбища. Невольно выглянув в окно, открытое в этот летний день, священник увидел Эстер Принн и маленькую Перл, шедших по дорожке мимо могил. Перл была прекрасна, как божий день, но, видимо, находилась в очередном приступе строптивой и злой веселости; когда подобное с ней случалось, взывать к ее сочувствию, жалости, вообще пытаться приструнить ее было бесполезно. Сейчас она без малейших признаков благоговения скакала от могилы к могиле, пока не очутилась возле широкой и плоской украшенной гербом плиты, видимо, над могилой какого-то почтенного человека, может быть, и самого Айзека Джонсона. Вскочив на надгробие, девочка принялась плясать на нем, а когда мать, сначала строго одернув ее, затем стала умолять прекратить и вести себя прилично, девочка занялась репейником. Набрав полную горсть колючек, она начала цеплять их на грудь матери, окаймляя колючками алую букву. Колючки, как им и положено, держались цепко. Эстер их и не отдирала.
Подойдя тем временем к окну и увидев эту картину, Роджер Чиллингворт хмуро улыбнулся.
– Для этого ребенка, – сказал он, не только собеседнику, но и себе самому, – не существует ни закона, ни почтения к людям уважаемым; приличия и мнения людей, правильные или неправильные, одинаково чужды самой ее природе. На днях, проходя по Спринг-Лейн, я стал свидетелем того, как девочка эта водой из поилки для скота обрызгала губернатора! Что она такое, скажите на милость? Неужто в этом бесенке нет ничего доброго, ничего, кроме зла? Доступны ли ей человеческие чувства? Что управляет ею, ведя по жизни?
– Одна лишь свобода отринутого закона, – отвечал мистер Димсдейл, тихо, словно размышляя вслух. – А есть ли в ней доброе, я не знаю.
Девочка, наверное, услышав их голоса, подняла голову к окну и с сияющей, но хитрой и шаловливой улыбкой швырнула в преподобного отца Димсдейла одну из колючек. Нервный молодой человек съежился так, что казалось, будто этот снаряд сильно его напугал. Заметив его испуг, Перл в восторге захлопала в ладоши.
Эстер Принн тоже невольно подняла голову, и все четверо, и молодые и старые, молча глядели друг на друга, пока девочка, расхохотавшись, не крикнула:
– Пойдем, мама! А не то вон тот черный старик тебя схватит! Священника он уже поймал! Пойдем, не то он и тебя поймает! А вот маленькую Перл ему не поймать!
И она повлекла мать прочь, прыгая, приплясывая и безумно веселясь среди могильных холмов, так, словно не имела ничего общего с лежавшими под ними людьми, с поколением, ушедшим и похороненным, всякое родство с которым она отрицала. Она казалась существом совершенно новым, состоящим из каких-то иных, неведомых элементов, существом, которому волей-неволей придется разрешить жить по-своему и по своим законам и не вменять ей в вину все ее странности и безумства.
– А вот мы видим женщину, – продолжил Роджер Чиллингворт, – которая при всех своих возможных пороках все же не делает из греховности своей тайны, хранить которую, по вашему мнению, непосильный груз. Так по вашему мнению, алая буква на груди Эстер Принн делает ее менее несчастной?
– Я и правда в это верю, – отвечал священник. Но так ли это на самом деле, знать доподлинно может только она. На ее лице я видел выражение боли, наблюдать которую тяжело, но я продолжаю считать, что возможность выразить свое страдание приносит облегчение страждущему и что бедной Эстер так легче, чем если бы пришлось скрывать боль в глубине сердца.
Они умолкли, и врач опять занялся своими травами.
– Вы интересовались только что, – наконец заговорил он, – моим мнением насчет состояния вашего здоровья.
– Да, – подтвердил священник, – и очень хотел бы его узнать. Поделитесь им со мной со всей откровенностью – прошу!
– Ну если откровенно и по правде, – сказал врач, не прерывая своего занятия, но опасливо поглядывая на мистера Димсдейла, – то надо признать недуг ваш очень странным, и странен он не сам по себе и не внешними признаками своими, по крайней мере судя по моим наблюдениям. Видя вас ежедневно, добрый мой друг, месяц за месяцем, следя за переменами в вашем облике, я пришел к выводу, что болезнь ваша весьма серьезна, но не настолько, чтобы грамотный и внимательный доктор не мог надеяться вас излечить. И все же – не знаю даже, как выразиться, болезнь вашу я вроде бы понимаю и в то же время не понимаю.
– Вы, высокоученый сэр, говорите загадками, – произнес священник. Он был бледен и, отводя взгляд, то и дело устремлял его в окно.
– Ну, говоря проще, – продолжал доктор, – и ради бога, прошу прощения, если вас покоробит вынужденная прямота моих слов – ответьте мне как другу, как человеку, которому само Провидение поручило заботу о жизни вашей и физическом благополучии, ответьте на такой вопрос, все ли о вашем недуге мне известно и передано?
– Как можете вы в этом сомневаться! – воскликнул священник. – Было бы глупым ребячеством, призывая врача, скрывать от него какие-то подробности заболевания.
– Так, значит, вы подтверждаете, что рассказали мне все? – спросил Роджер Чиллингворт и, медленно подняв глаза, так и впился в лицо священника пронзительным и пристальным взглядом. – Хорошо, если так. Но одно вам скажу: тот, кому открыта только внешняя физическая сторона недуга, нередко понимает лишь половину того, что намерен лечить. Телесные проявления болезни, устранением которых мы нередко и ограничиваемся, считая, что только в них одних болезнь и заключается, могут оказаться, в конце концов, лишь симптомом какого-то глубокого недуга, корень которого – сфера духовная. Еще раз прошу простить меня, сэр, если слова мои хоть в какой-то степени кажутся вам обидными, но в вашем естестве больше, чем у кого-нибудь другого из известных мне людей, сторона физическая, телесная, и сторона духовная связаны и переплетены. Ваше тело, можно сказать, проникнуто душой, духом, являющимся как бы его инструментом, орудием.
– Если так, дальнейшие расспросы бессмысленны, – сказал священник, с некоторой поспешностью поднимаясь со стула. – Как я понимаю, лечением больной души вы не занимаетесь.
– И потому болезнь, – продолжал Чиллингворт, не меняя тона и не обращая внимания на слова священника, но, поднявшись и воздвигнув напротив исхудалого, бледного как мел юноши свою низкорослую уродливую темную фигуру, – или, если угодно, какая-то рана, язвящая вашу душу, будет немедленно проявляться и в телесном вашем состоянии. Так как же врачу лечить ваш телесный недуг? Сможет ли он это сделать, если вы сперва не откроете ему то, что мучит или тревожит вашу душу?
– Нет! Не вам! Не земному доктору открою я свою душу! – пылко воскликнул мистер Димсдейл. Резко повернувшись к старому Роджеру Чиллингворту, он глядел на него теперь, гневно сверкая глазами. – Не вам лечить ее! Если это и вправду болезнь души, то я доверюсь только тому единственному, кто способен лечить больные души. Он, если ему это будет угодно, меня вылечит, если нет – пусть убьет. Пусть сделает то, что в мудрости своей сочтет для меня самым справедливым и лучшим. Кто вы такой, чтобы посметь вмешаться в то, что должно оставаться его делом, чтобы вклиниваться между страдальцем и Господом его!
И с этими словами он бросился вон из комнаты.
– Нет, ход мой был все же правильным, – сказал себе Роджер Чиллингворт, с ухмылкой глядя вслед священнику. – Ничто не потеряно. Мы опять подружимся. Но удивительно, с какой полнотой человек этот способен отдаться страсти – он же буквально вышел из себя! Туда, где есть место одной страсти, могла проникнуть и другая. Он совершил безумство, этот святоша, со всей горячностью пылкого сердца предавшись страсти!
Восстановить близкие отношения труда не составило, и два друга стали вновь общаться так же тесно, как прежде. Пробыв несколько часов в одиночестве, молодой священник решил, что всему виной его расстроенные нервы, что это они вызвали у него столь некрасивую вспышку ярости в ответ на слова врача, не содержавшие ничего, за что стоило бы извиниться. Он сам поражался той ожесточенности, с какой оттолкнул от себя доброго старика, который всего лишь предлагал ему врачебную помощь, каковую оказывать его обязали долг и просьба самого больного. Терзаемый угрызениями совести, священник не стал медлить и пространными извинениями умолил доктора продолжить лечение, которое хоть и не вернуло ему пока здоровье, но, по всей вероятности, поддерживало хилое его естество, помогая дожить до этого часа. Роджер Чиллингворт охотно внял просьбе друга и продолжил свою заботу о пациенте, наблюдая его и делая для него все, что только можно, но каждый раз после осмотра, когда мистер Чиллингворт покидал больного, на лице врача появлялась загадочная и несколько недоуменная улыбка. В присутствии мистера Димсдейла врач так не улыбался, но стоило ему переступить порог, отделявший его половину дома от комнат священника, как улыбка эта неизменно возникала.
– Странный случай! – бормотал он. – Надо вникнуть в него поглубже. Связь души и тела этого пациента просто поражает воображение! Я должен разгадать тайну такой неразрывности хотя бы во имя науки!
Однажды случилось так – а было это вскоре после описанной выше сцены, – что преподобного мистера Димсдейла, в полуденный час сидевшего в своем кресле за столом, на котором лежала открытая книга – толстый старинный фолиант, неожиданно сморил глубокий сон. Вполне вероятно, что книга эта относилась к той разновидности литературы, которая содержит в себе нечто снотворное. Глубина сна, в который вдруг среди бела дня погрузился священник, кажется нам тем более странной, поскольку мистер Димсдейл принадлежал к людям, чей сон обычно непродолжителен и чуток. Такой сон легко вспугнуть, легкий шорох – и он упорхнул, как птичка, перелетевшая с ветки на ветку. Но тут, однако, душа священника совершенно отдалилась от внешнего мира, уйдя в себя так глубоко, что когда в кабинет без каких-либо предосторожностей вошел старый Роджер Чиллингворт, мистер Димсдейл даже не пошевелился. Старый доктор прямиком направился к пациенту и, положив руку ему на грудь, отвел в сторону ворот нижней рубашки, которая всегда оставалась на священнике даже во время осмотра.
Тут уж, конечно, мистер Димсдейл вздрогнул и зашевелился. Помедлив немного, доктор отвернулся. Но какое выражение, полное восторга, ужаса, несказанного удивления, появилось на его лице! Казалось, полнота этих чувств так огромна, так сильна, что лицо не способно их ни вместить, ни удержать, и потому они выплеснулись, выразились в диких жестах, когда он вскинул руки, когда затопал ногами. Увидев старого Роджера Чиллингворта в этот момент его безудержного восторга, можно было бы представить себе радость Сатаны, когда тому удается заполучить в свои пределы очередную жертву, драгоценную душу человеческую, навсегда лишив ее небесного блаженства. Но в отличие от сатанинской радости к восторгу доктора примешивалось и удивление.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































