Текст книги "Алая буква"
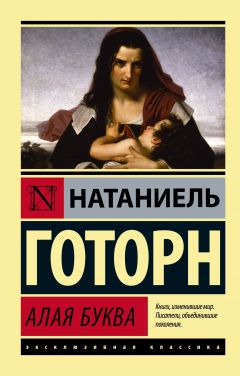
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
И, смеясь так громко и визгливо, что вся площадь услышала, старуха отошла от Эстер.
К этому времени в молитвенном доме окончилось вступительное моление, и раздались звуки голоса преподобного мистера Димсдейла, начавшего свою речь. Эстер стояла как вкопанная вблизи молитвенного дома. Так как здание было заполнено до отказа, Эстер выбрала место возле позорного своего помоста. Сюда проповедь доносилась до нее лишь как невнятный гул, как модуляции – то выше, то ниже – красивого и звучного голоса священника. Голос являлся одним из даров, которым был наделен священник, так что даже чужестранец, не понимавший слов проповеди, бывал захвачен самим звучанием и интонацией. Как всякая музыка, голос этот дышал чувством и страстью и заражал эмоциями высокими и прекрасными, вещая на языке, родственном языку сердца и внятном всякому, кто научен слышать.
Доносившиеся звуки были невнятны, но Эстер Принн внимала им так напряженно и с таким сочувствием, что проповедь обретала для нее смысл превыше всяких слов, расслышать которые она не могла. А может, услышь она слова, и столь грубый посредник стал бы на пути их духовного единения. Она ловила тихие неясные звуки, как слушают колебания ветра, то поднимающегося, крепнущего во всей своей мощи, то затихающего до ласкового шепота, и перепады звуков, обволакивая Эстер, погружали ее в состояние возвышенное и благоговейное. Но и тихий, и поднимавшийся до раскатистой, торжественной громкости голос не терял столь свойственной ему нотки грустной задумчивости. В нем всегда звучали тоска и му́ка. Становился ли он шепотом, превращался ли в вопль, то был голос страждущего человечества, и он не мог не отзываться в сердце любого слушателя. Люди откликались и на напряженную патетику, и на еле слышный в мертвой тишине вздох. Но и возвышаясь и вольно взлетая ввысь, обретая широту и силу, такую, что, казалось, вот-вот голос этот, наполнив церковь, прорвет ее мощные стены и вырвется на свободу, всегда, если слушать внимательно и вникать в слышимое, в этом голосе можно было различить одно – страдальческий стон.
Что это было? Жалоба человеческого сердца, обремененного скорбью, а может быть, виной, раскрывающего свою тайну – скорби или же вины и взывающего к великодушию людскому с великой мольбой о сострадании или прощении? Именно эта непрестанная еле уловимая нота страдания сообщала священнику его особую власть над паствой.
Все это время Эстер стояла неподвижно, как статуя, у подножия эшафота. Даже если бы голос священника не приковал ее к этому месту, ее вновь тянуло туда, где провела она первый час своего позора. В ней гнездилось чувство слишком смутное, чтобы оформиться в мысль, но тем не менее навязчивое и гнетущее, что весь круг ее жизни – до и после – связан с этим местом, что именно оно замыкает этот круг.
Малышка Перл между тем оставила мать и весело сновала по рыночной площади. Ее непрестанное прихотливое мелькание вызывало улыбку на хмурых лицах горожан. Так мелькает солнечный лучик, так прыгает с ветки на ветку, то появляясь, то скрываясь в темной густой листве дерева, птичка в ярком оперении… Движения ее были причудливы и разнообразны – то плавны и ленивы, то неожиданно порывисты. В них отражалась безудержная живость ее натуры, а в этот день она была вдвойне беспокойна, так как ей передалось беспокойство матери. Завидев что-нибудь вызвавшее ее безудержное, но всегда мимолетное любопытство, она тут же устремлялась туда и, можно сказать, завладевала тем, что уже считала как бы своею собственностью, будь то человек или же вещь, повинуясь лишь своему безудержному желанию. Пуритане наблюдали за этим, хотя и с улыбкой, но не забывая при этом шушукаться, бормоча, что ребенок этот, дескать, не иначе как дьявольское отродье – и красоты неписаной, и очень уж необычна: носится всюду, удержу не знает и так и сверкает, так и искрится. Подбежала к дикарю-индейцу, заглянула ему в лицо, и он почувствовал, что перед ним существо еще более дикое, чем он сам. Затем, вспорхнув, со свойственной ей смелостью, лишенной, однако, всякой назойливости, она очутилась среди матросов. Смуглолицые эти морские бродяги, по сути, тоже были дикарями, как дикари-индейцы, бродяги сухопутные. Удивленно и восхищенно они разглядывали Перл, словно та была пенным гребешком волны морской, вдруг превратившимся в девочку и обретшим душу, сверкающую переливами и сияющую, как сияет в ночную пору вода, рассекаемая носом судна.
Один из этих морских волков, а именно капитан, ведший переговоры с Эстер, был так поражен видом Перл, что сделал попытку поймать ее, чтобы ненароком коснуться. Поняв, что поймать ее так же немыслимо, как поймать на лету колибри, он снял со шляпы золотую цепочку и кинул ее девочке. Та немедленно нацепила ее на себя, обернув вокруг шеи и талии, да так ловко и так искусно, что цепочка словно приросла к ней и трудно стало даже представить себе Перл без цепочки.
– Твоя мать – это вон та женщина с алой буквой? – спросил моряк. – Передашь ей от меня весточку?
– Если понравится весточка, передам, – отвечала Перл.
– Тогда скажи ей, – продолжал капитан, – что я еще раз переговорил с этим кривобоким старым доктором, и он вызвался друга своего, ну, того джентльмена, о котором мать твоя беспокоится, сам на судно доставить. Так что ей одной заботой меньше – только самой собраться и тебя привести. Так передашь ей эти слова, маленькая чертовка?
– Матушка Хиббинс говорит, что мой отец – князь воздуха! – капризно воскликнула Перл и улыбнулась недоброй улыбкой. – Будешь обзывать меня дурными словами, я отцу пожалуюсь, и он бурю нашлет на твой корабль!
Бросившись стремглав через площадь, девочка вернулась к матери и передала ей слова моряка. Услышав их, Эстер почувствовала, что спокойствие, воля и выдержка готовы вот-вот ее покинуть: в ту минуту, когда ей и священнику открылся выход из лабиринта страданий, перед ней замаячил темный и угрюмый лик неотвратимой судьбы. Искривив губы в жестокой улыбке, не ведающая жалости судьба преграждала им путь.
Но Эстер, которая пришла в ужас от переданного сообщения, суждено было новое испытание. На площади среди прочих собрались и люди из окрестных поселений, слышавшие историю об алой букве. Слухи эти, преувеличенные и нередко перевранные, вызывали в них страх и трепет, но увидеть ужасный знак собственными глазами им еще не доводилось. Теперь же, после других развлечений, они самым грубым и неделикатным образом столпились возле Эстер Принн. Однако бесцеремонность их имела границы, не позволяя подойти к ней ближе, чем на несколько ярдов; с этого расстояния, образовав круг, они и разглядывали ее, застыв на месте и охваченные общей силой отвращения, которое вызывал в них таинственный знак. Также и кучка матросов, заметив скопление людей в одном месте, проведав историю алой буквы и что она означает, протиснулись в толпу, и в кольце окруживших Эстер зрителей теперь мелькали и их дочерна загорелые разбойничьи физиономии. Даже индейцев коснулась бледная тень всеобщего ажиотажа; с любопытством, не столь горячим, как у белого населения, двинулись они в толпу и устремили свои черные, по-змеиному неподвижные глаза на грудь Эстер, при этом, возможно, думая, что женщина с таким красиво вышитым знаком наверняка пользуется большим почетом у соплеменников. Под конец и городские жители, чей угасший интерес к избитой теме всколыхнулся и разгорелся вновь под влиянием стадного чувства, лениво потянулись к месту происшествия, и их холодное, такое привычное внимание сейчас было для Эстер особенно нестерпимо. В окружившем ее кольце она видела и различала и лица тех самых почтенных горожанок, что поджидали ее выхода из тюрьмы семь лет назад. Все они были здесь, кроме одной, самой молодой, той единственной из них, у которой нашлись тогда для нее слова сочувствия и чей погребальный наряд был сшит потом руками Эстер. В решительный час, когда страдалице вскоре предстояло содрать с себя и выбросить жгущую ей грудь отметину, алая буква странным образом вновь стала центром и средоточием острого любопытства, и жжение от нее ощущалось сильнее, чем в первый раз, когда женщина впервые пришила знак к своему платью.
Все то время, пока Эстер находилась внутри проклятого кольца позора, на который обрекла ее, видимо навечно, изощренная жестокость приговора, всеми обожаемый служитель церкви с высоты освященной кафедры глядел вниз на покоренную им толпу. Богоданный священник и женщина с алой буквой на груди! Какое необузданное воображение посмело бы объединить их, догадавшись, что пылающим клеймом отмечены они оба!
Глава 23
Раскрытие тайны алой буквы
Проникновенный голос, влекущий и вздымающий вверх слушателей, подобно тому как влечет и вздымает на гребне своем морская волна, наконец умолк. Последовала секундная тишина, столь же глубокая, как та, что сопровождает речение оракула. Затем послышался гул голосов, приглушенный сдержанный шум, с каким люди, освобождаясь от чар, унесших их в высокие сферы, возвращаются вспять, к себе самим, но все еще полные благоговейного удивления. И в следующую же секунду толпа повалила прочь из церкви. Кончено! Им требовался глоток другого воздуха, более соответствующего той грубой, земной реальности, к которой они возвращались, нежели благоуханная, насыщенная густым ароматом мысли атмосфера, которую священник и обращал в пламенные слова.
Немое состояние восторга обрело язык: улица и площадь так и гудели, из конца в конец неслись разговоры, впечатления, похвалы священнику. Люди не могли успокоиться: каждый спешил поделиться тем, что чувствовал, но не мог должным образом ни выразить это, ни осмыслить. Однако все сходились во мнении, что никогда дотоле слова священника не были так мудры, так возвышенны, так полны святости, как в этот день, да и из иных смертных уст вряд ли вырывалось когда-либо нечто столь же явственно отмеченное печатью вдохновения. Судя по всему, на него сошла благодать; именно она, наполнив его собою и не покидая до конца речи, заставляла священника то и дело отрываться от лежавшего перед ним написанного текста проповеди и внушала ему мысли, удивлявшие не только слушателей, но и, казалось, его самого. Темой речи он, по-видимому, выбрал связь высших сил с людскими сообществами, из которых он особенно выделял недавно народившееся в дикой пустыне сообщество жителей Новой Англии. Под конец речи священником овладел дух пророчества, подобный тому, которым движимы были пророки древнего Израиля, с той только разницей, что в отличие от древнееврейских провидцев, вещавших о близящемся суде и предрекавших своей стране неизбежные кары и погибель, мистер Димсдейл чувствовал себя призванным возгласить будущую славу и высокое предназначение нового богоизбранного народа. Но и в этом пророческом славословии, и во всей его речи был различим подспудный оттенок глубокой печали, который не мог быть понят иначе, чем естественное сожаление человека, готовящегося к скорому уходу из этого мира. Да, их священник, так ими любимый и так любивший всех и каждого из них, что не смог бы вознестись на небеса без скорбного вздоха, предчувствовал свою безвременную кончину, над которой им вскоре предстояло лить горькие слезы. Печальная мысль о временности его пребывания с ними, как мощный аккорд, придавала дополнительную силу тому колоссальному впечатлению, которое произвела его речь. Как будто ангел, отлетая на небеса, взмахнул напоследок людям своим сверкающим крылом – одновременно и тень, и свет – и пролил миру благодатный дождь истин.
Это был переломный момент для мистера Димсдейла: наступал звездный период его жизни, как наступает он для большинства людей из самых разных сфер, хотя люди редко его осознают и лишь вспоминают о нем, когда он уже в прошлом – период более блистательный и триумфальный, чем все, прожитые им ранее, и все, что могли предстоять ему в будущем. В этот момент он достиг вершины горделивого превосходства и славы, на которую дары незаурядного ума, богатых знаний, победного красноречия и чистейшей святости способны были вознести священнослужителя в Новой Англии тех ранних ее лет, когда священнический сан уже сам по себе являлся гордым пьедесталом. Вот на какой вершине пребывал мистер Димсдейл, когда, окончив проповедь в честь дня выборов, склонил голову перед престолом в последнем поклоне.
А Эстер Принн между тем стояла возле позорного помоста, и алая буква горела у нее на груди!
И вот вновь раздались грохочущие звуки оркестра и четкий шаг выходившего из церковных врат воинского подразделения. Шествию предстояло проследовать к ратуше, где торжественное застолье должно было завершить празднество.
И вновь по широкому проходу, образованному почтительно расступавшимися людьми, двинулась процессия из самых именитых отцов города – губернатора, и судей, и умудренных летами старшин, и известных набожностью клириков – самые влиятельные и облеченные властью горожане шли в этих рядах, и когда они ступили на площадь, их встретил восторженный вопль толпы. В этом выражении восторга – которому, несомненно, добавляло силы и то почти детское преклонение перед властью, которым так отличался описываемый век, чувствовался отголосок непреходящего энтузиазма, охватившего всех, слышавших красноречивую проповедь священника, чьи слова все еще звенели у них в ушах. Каждый ощущал в себе порыв энтузиазма и знал, что дышит в унисон с соседом и разделяет с ним этот порыв. Своды церкви едва могли вместить его и удержать внутри, теперь же под открытым небом он вырвался и устремился в зенит. И чувство, объединившее массу людей, преобразилось в звук более мощный, нежели рев органных труб, гром небесный или рокот бурных морских волн. И как звуки в симфонии, так голоса сотен людей слились в один всеохватный голос, а их сердца стали единым сердцем толпы, из которого чувство исторгло этот неповторимый звук. И никогда дотоле земля Новой Англии не носила на себе смертного, столь прославленного собратьями своими, каким оказался в эту минуту священник!
Что же чувствовал при этом он сам? Не светился ли золотой нимб вокруг главы его? Вознесшийся на такую духовную высоту, боготворимый обожателями своими, мог ли ступать он по земле в этой процессии?
Когда мимо шел строй военных и гражданских чинов, взоры присутствующих искали среди именитых граждан и шедшего в их рядах священника. Громкий вопль стихал, переходя в недоуменный шепот, по мере того как священник подходил ближе и люди один за другим могли разглядеть его. Какой же он бледный, каким слабым выглядит во время своего триумфа! Энергия, или, лучше сказать, вдохновение, которое было даровано ему свыше, которое умножало его силы для произнесения священных слов, теперь, когда он добросовестно исполнил свою миссию, его оставили. Пламя, исходившее от него и горевшее на его щеках еще так недавно, теперь безвозвратно угасло, превратившись в тусклые головешки. В лице его не было жизни: мертвенно-бледное, оно казалось лицом обреченного, неверными шагами бредущего по дороге, но все же продолжающего путь!
Один из его собратьев-клириков, достопочтенный Джон Уилсон, заметив, в каком состоянии оставила мистера Димсдейла схлынувшая волна умственного и душевного подъема, поспешно сделал к нему шаг, чтобы поддержать. Но священник, хоть и с дрожью, но решительно отклонил предложенную ему старым джентльменом помощь, не пожелав опереться на его руку. Он все еще шел вперед, если шаги его, более похожие на неуверенные колеблющиеся шажки ребенка, устремляющегося навстречу простертым к нему материнским рукам, можно было счесть движением вперед. И так, мало-помалу, а напоследок и уж совсем еле-еле он добрался до места напротив достопамятного потемневшего от непогод деревянного помоста, ознаменовавшего для Эстер начало страшных лет ее жизни, помоста, где она, впервые встретив осуждающие взгляды толпы, приняла свой позор. И сейчас она стояла возле этого помоста, держа за руку маленькую Перл, а на груди Эстер сияла алая буква! Тут священник остановился, хотя все еще звучал торжественный и бодрый марш, побуждавший процессию двигаться вперед. Надо было идти дальше, спешить на праздник, но он остановился.
Беллингем, уже несколько минут с тревогой глядевший на священника, оставил свое место в движущейся веренице и бросился на помощь, решив по виду мистера Димсдейла, что тот сейчас упадет. Но в выражении лица священника мелькнуло нечто, заставившее чиновника побояться приблизиться к нему. Люди не всегда распознают неясную угрозу из тех, какие одна душа посылает другой, но тут Беллингем поостерегся. Толпа между тем взирала на происходящее с благоговейным удивлением. Упадок сил и полуобморочное состояние священника она воспринимала как еще одно доказательство его небесной природы – люди не сочли бы ни странностью, ни чудом, если б в эту минуту, прямо у них на глазах, мистер Димсдейл оторвался бы от земли и стал подниматься ввысь, стал таять, но светясь все ярче, пока не скрылся бы окончательно, слившись с сиянием небес.
Повернувшись к помосту, он простер руки:
– Эстер, – воскликнул он. – Иди сюда! Иди сюда, моя маленькая Перл!
На лицо его было страшно смотреть, но выражало оно нежность и странную торжественность. Дитя, вспорхнув, как птичка, со своей обычной легкостью, подлетело к нему и обхватило руками его колени. Эстер Принн, очень медленно, словно повинуясь неизбежной судьбе, преодолевающей силу даже собственной ее воли, тоже приблизилась, но остановилась в шаге от него. В этот момент старый Роджер Чиллингворт протиснулся сквозь толпу или же, судя по мрачному и злобному его взгляду, вылез из преисподней, дабы, схватив свою жертву, помешать ему исполнить задуманное. Как бы там ни было, но старик, ринувшись вперед, поймал священника за руку.
– Опомнитесь, безумец, что вы делаете? – зашептал он. – Велите этой женщине уйти! Отриньте от себя этого ребенка! Не черните свое доброе имя и не позорьте свою честь!
– Ха, искуситель! Думаю, ты опоздал, – отозвался священник, не без страха, но и не отводя глаз. – Ты утратил свою мощь! С Божьей помощью я сейчас от тебя избавлюсь!
И он вновь простер руку к женщине с алой буквой на груди.
– Эстер Принн! – возгласил он с проникновенной искренностью в голосе. – Именем Того, кто сокрушительной и милостивой дланью своею благословил меня сейчас сделать то, на что целых семь лет мне не хватало духу, и в этом были мой великий грех и мое мучение, подойди ко мне и укрепи меня своею силой! Да направит тебя, удвоив твои силы, та воля, кою Господь даровал мне! Этот жалкий заблудший старик изо всех сил старается ей противиться, а движет им сам дьявол! Подойди, Эстер! Помоги мне подняться на эшафот!
Толпа пришла в смятение. Окружавшие священника важные и достойные люди были изумлены и озадачены этой сценой, они не могли принять самое очевидное из объяснений, будучи не в силах измыслить и объяснения иные, и хранили молчание, лишь безмолвно наблюдая за тем, как готовится свершить свой суд Провидение. Они видели, как, опираясь на плечо Эстер и поддерживаемый ее рукою, которой она его обвивала, священник приблизился к помосту и поднялся по ступеням, все еще сжимая ладошку зачатого во грехе ребенка. Старый Роджер Чиллингворт шел следом за ними. Он был неотъемлемой частью этой печальной драмы о грехе и расплате, драмы, в которой каждый из них троих играл свою роль, и так как роль Чиллингворта была важнейшей, он должен был участвовать и в заключительной сцене.
– Что, не удалось тебе укрыться от меня? – произнес он, хмуро глядя на священника. – Нет для тебя такого места на всей земле, ни на вершинах ее, ни в низинах, кроме как на этом эшафоте!
– Благодарение Господу, что он возвел меня сюда! – ответил священник.
Однако его била дрожь. И когда он обратился к Эстер, то взор его, выражавший тревогу и сомнение, был не менее красноречив, нежели игравшая на его губах слабая улыбка.
– Разве так не будет лучше того, о чем мечтали мы в лесу? – пробормотал он.
– Не знаю я! Не знаю! – быстро отвечала она. – Лучше? Ну да, мы оба, наверное, должны умереть, и маленькая Перл тоже, как и мы.
– Что до тебя и Перл, то как Господь повелит, так и будет, а Господь милостив. А мне позволь исполнить его волю, которую он так ясно мне явил. Ибо я умираю, Эстер, и надо спешить принять уготованный мне позор.
Поддерживаемый Эстер и не выпуская руки маленькой Перл, преподобный мистер Димсдейл повернулся к почтенным и достославным отцам города, к своим собратьям – святым клирикам, к собравшемуся на площади народу, чье большое и щедрое сердце, глубоко потрясенное, переполняли щемящая жалость и сочувствие от сознания, что вот сейчас откроется глубочайшая тайна жизни, может быть, и греховной, но искупленной страданием и болью. Лучи солнца, лишь незадолго перед тем перевалившего за полдень, падая на священника, четко очерчивали его фигуру, стоявшую высоко над землей и как бы вознесенную над ней, дабы мог он принести покаяние Предвечному.
– Люди Новой Англии! – воскликнул священник, и звучный голос его взвился над толпой – торжественный, величавый, но и трепетный, он временами срывался на крик, исторгнутый из бездны раскаяния и горьких мук совести. – Вы все, так меня любившие и любящие, считающие меня праведником, глядите, вот он я, из грешников грешник, наконец, наконец-то стою здесь, на месте, где должен был стоять еще семь лет назад, рядом с женщиной, чья рука держит меня крепче, чем немощные силы мои, едва позволившие мне вползти на эшафот! Не будь ее, и я пал бы наземь, пресмыкаясь в пыли, как червь! Видите вы на ее груди эту алую букву? Вы содрогались, глядя на нее. Куда бы ни направляла стопы свои эта женщина, всюду, где, удрученная горем, надеялась она найти отдохновение, клеймо это, светясь зловещим светом, окутывало ее облаком всеобщего ужаса и отвращения. Но среди вас был некто, чье клеймо греха и позора не вызывало в вас содрогания.
В этот миг всем показалось, что священнику не суждено докончить речь и тем раскрыть свою тайну. Но мистер Димсдейл сумел преодолеть телесную слабость и, более того, победить тщившуюся завладеть им слабость духа. Отвергнув помощь, он решительно сделал шаг вперед, отделившись от Эстер и ребенка.
– Но клеймо это на нем, – продолжал он со страстью, рожденной желанием высказать все до конца. – Господне око видело это клеймо, ангелы небесные указывали на него перстами. И дьяволу было оно ведомо, и дьявол тешился, теребя его касаниями огненных своих пальцев. Но от людей человек этот злокозненно скрывал свое клеймо и ходил меж вами – такой чистый и непорочный в мире греха! – с видом, сокрушенным, казалось бы, только тем, что рядом с ним нет людей столь же небесно-добродетельных! Но вот в свой смертный час он стоит перед вами. Он молит вас вновь взглянуть на алую букву Эстер. Поверьте ему, что, несмотря на таинственный и ужасный свой смысл, буква эта – лишь слабая тень того, что давит его собственную грудь, но даже и это носимое им алое клеймо всего только знак тех терзаний, что разрывают его сердце! Может, кто-то из стоящих здесь сомневается в суде Божьем над грешником? Так смотрите! Взирайте на ужасное свидетельство его грехов!
Судорожным движением он сорвал прикрывавшую его грудь священническую столу. Свершилось! Тайна была раскрыта! Но описывать, как это произошло, было бы нескромно. Одно мгновение пораженная ужасом толпа лицезрела чудесным образом явившееся кошмарное видение, в то время как священник стоял, а на щеках его пылал румянец торжества – так радуется человек, в жесточайшей борьбе победивший острую боль. И в следующий миг священник осел на помост! Эстер приподняла его, прижав его голову к своей груди. Старый Роджер Чиллингворт склонился над ним, встав на колени рядом. Он в оцепенении глядел на священника, и застывшие черты его ничего не выражали, словно жизнь, отлетев, вдруг покинула эти черты.
– Ты ускользнул от меня! – только и повторял он. – Ускользнул!
– Да простит тебя Господь! – произнес священник. – Ведь и твой грех тоже тяжкий и жесткий!
Отведя от старика угасающий взгляд, он обратил его на женщину и ребенка.
– Моя маленькая Перл, – произнес он слабым голосом, и лицо его озарилось тихой и нежной улыбкой, так улыбается душа перед тем, как погрузиться в глубокий и вечный покой, более того, эта душа, когда с нее был снят гнет, казалось, готова была возрадоваться и завести с ребенком шутливый разговор. – Дорогая моя малютка Перл! Ну а теперь ты поцелуешь меня? Там, в лесу, ты не хотела. А теперь? Поцелуешь?
Перл поцеловала его в губы, и колдовское заклятие спало. Необузданное дитя примкнуло к другим участникам скорбной сцены, сыграв в ней роль, отчего заложенные в нем зачатки сострадания, до времени таившиеся под спудом, пошли в рост и, встрепенувшись, выразились в слезах, каплями своими омочив щеки отца и став залогом того, что в будущем Перл предстоит познать и человеческие радости, и человеческие печали, что прекратит она свою войну с миром вокруг, что вырастет она в нем обычной женщиной, одной из многих. А миссию свою быть для матери провозвестницей страдания, вечно напоминая ей о нем, девочка тоже выполнила – сполна и до конца.
– Эстер, – произнес священник, – прощай!
– Неужели мы больше не увидимся? – прошептала она, наклоняясь к самому его лицу. – Разве в вечной жизни мы не будем вместе? Ну конечно, конечно же, будем, ведь мы выкупили это право, заплатив за него нашим общим страданием! Ты умираешь, но взор твой так блестит, будто ты прозреваешь даль вечности! Скорей скажи мне, что ты там видишь!
– Тише, Эстер, тише! – прервал он ее голосом трепетным и серьезным. – Мы с тобой нарушили закон! Ужасный грех наш теперь явлен! И пусть только этим будут заняты твои мысли! Я боюсь, боюсь, что если мы забыли о Господе, если оба мы осквернили душу друг друга, то может статься, что напрасно мы надеемся на встречу за гробом, на чистое наше соединение в вечности. Один Господь ведает, что с нами будет, и Он милостив. Милость свою он оказал прежде всего, когда дал мне в удел мои недуги. Когда даровал моей груди право гореть в огне терзавшей ее огненной муки. Когда прислал к нам сюда мрачного и страшного старика, чтобы тот поддерживал пламя этой муки и оно разгоралось бы ярче. Когда возвел меня на эшафот и подарил мне смерть на глазах всего народа в момент моего триумфа и позора. Не претерпи я хотя бы одной из этих мук, и я бы пропал, проклятый на веки вечные! Хвала Ему и Имени Его! Да сбудется Его святая воля! Прощайте!
Последнее слово священник вымолвил уже на последнем дыхании. Народ, до той поры молчавший, отозвался странным низким гулом, исполненным благоговейного удивления, ранее не умевшего найти для себя выражения, а сейчас прокатившегося тяжелыми волнами вослед отлетающей душе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































