Текст книги "Алая буква"
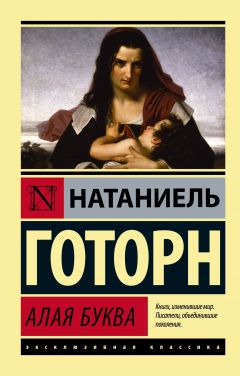
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Глава 8
Девочка-эльф и служитель церкви
Губернатор Беллингем в свободного покроя одежде и удобной шапочке – из тех, которые носили в прошлом пожилые джентльмены, по всей видимости, показывал гостям свои владения, расписывая и то, какие улучшения и нововведения в них он намерен произвести. Широкий круг пышных брыжей, который по моде, сохранившейся еще с царствования короля Якова I, подпирал его седую бороду, придавал его голове сходство с головой Иоанна Крестителя на блюде. Впечатление неуклонной строгости и суровости, которое производили его лицо и весь облик, уже тронутые морозным дыханием старости, вряд ли сочеталось с обилием приятных и удобных вещей, которыми он себя окружал и которые явственно свидетельствовали о склонности его к мирским радостям. Но было бы ошибкой полагать, что суровые наши предки, привыкшие говорить и думать о жизни человеческой как о череде испытаний в непрестанной борьбе с пороками и о необходимости превыше всего ставить долг, во имя которого следует раз и навсегда отречься от всех благ, а если придется, и от самой жизни, на самом деле считали постыдным отвергать удобства, радости жизни и даже роскошь, если на то представлялся случай. Подобные взгляды никогда не проповедовал и почтенный пастор Джон Уилсон, чья белая как снег борода колыхалась сейчас над плечом губернатора, в то время как обладатель ее рассуждал о том, что, по его мнению, груши и персики способны произрастать в климате Новой Англии и что при должном старании можно заставить виноградную лозу оплести садовую ограду с южной ее стороны и усеять ее багряными гроздьями.
Вскормленный щедрой грудью англиканской церкви престарелый священнослужитель давно воспитал в себе закономерный вкус ко всему удобному и приятному, и каким бы строгим ни выглядел он на кафедре или в своих выступлениях перед прихожанами, осуждая таких преступников, как Эстер Принн, сердечная доброта и благожелательность, которые Уилсон проявлял в частной своей жизни, снискали к нему более теплые чувства, чем те, что питала местная паства к тогдашним его собратьям.
За губернатором и мистером Уилсоном следовали еще два гостя – преподобный Артур Димсдейл, памятный читателю по той роли, которую он с такой неохотой сыграл, выступив с краткой своей речью, когда Эстер Принн стояла на позорном помосте, а рядом с ним – старый Роджер Чиллингворт, человек весьма искусный во врачевании, за два-три года до этого обосновавшийся в городе и ставший не только другом молодого священника, но и его лечащим врачом, ибо здоровье юноши в последнее время сильно ухудшилось, подорванное неумеренным и чересчур самоотверженным исполнением пасторского долга.
Губернатор, шедший впереди своих спутников, поднялся на одну-две ступеньки к двери холла и, приоткрыв створку, очутился совсем рядом с маленькой Перл. Фигура Эстер Принн оставалась в тени гардины.
– Что видим мы здесь? – воскликнул губернатор Беллингем, с удивлением глядя на возникшее перед ним алое видение. – Клянусь, не встречал ничего подобного со времен суетной моей юности, когда считал великой честью быть приглашенным ко двору короля Якова на королевский маскарад. Там в пору праздников такие видения буквально роились. Мы называли их детьми Владыки буянов. Но как проникла эта гостья ко мне в дом?
– И правда, – подхватил добрый мистер Уилсон. – Как зовется птичка со столь ярким оперением? Она похожа на солнечный лучик, огнем горящий в витражном окне, как это видится мне в воспоминаниях. Огонек этот, помнится, был так ярок, что отбрасывал блики – красные и золотые – даже на пол церкви. Но это было давно, еще на родине. Прошу тебя, девочка, поведай нам, кто ты и что за странная фантазия заставила твою матушку так необычно нарядить тебя? Да христианское ли ты дитя? Знакома ли с катехизисом? А может, ты из племени эльфов и фей, которое, как мы полагали, осталось для нас в прошлом вместе с другими папистскими реликвиями веселой старой Англии?
– Я мамина дочка, – отвечало алое видение, – меня зовут Перл.
– Перл? Жемчужина? Скорее тебе пристало бы зваться Рубин, или Коралл, или Красная Роза, на которую ты так похожа цветом, – сказал старый священник, протягивая руку в тщетной попытке потрепать Перл по щеке. – Но где же твоя мать? А-а, понятно: это же незаконное дитя, судьбу которого мы обсуждали, а вот, полюбуйтесь, и несчастная мать ребенка, Эстер Принн!
– Что я слышу! – воскликнул губернатор. – Впрочем, мы могли бы догадаться, кто мать этого ребенка. Ее тоже следовало бы обрядить в красное, как истинную блудницу вавилонскую! Однако заявилась она к нам вовремя, и мы немедля обсудим это дело.
Губернатор Беллингем, а за ним и гости через стеклянную дверь ступили в холл.
– Эстер Принн, – возгласил губернатор, вперив свой неизменно строгий взгляд в женщину с алой буквой на груди, – в последнее время нас занимает один вопрос, касающийся тебя. Обсуждению подлежит следующее: по совести ли мы, люди влиятельные и с положением, поступаем, доверяя бессмертную душу твоего ребенка воспитанию и руководству женщины оступившейся, падшей, оказавшейся в бездне греха и соблазна. Скажи же ты, мать этого ребенка: не полагаешь ли ты, что для блага твоей малышки здесь на земле и для вечного блаженства души ее было бы лучше изъять ее у тебя и, пристойно одев, воспитать в строгих правилах благочестия, преподав ей истины божеского и человеческого закона. Что можешь в этом смысле предоставить ей ты?
– Могу обучить мою маленькую Перл тому, чему научило меня вот это! – отвечала Эстер, коснувшись алого знака на груди.
– Это знак твоего позора, женщина, – возразил суровый служитель закона, – и именно из-за пятна греха, о котором вопиет эта буква, мы и собираемся изъять ребенка из рук твоих!
– И все же, – спокойно, но побледнев как полотно, произнесла женщина, – знак этот преподал мне уроки, как и продолжает делать каждый день и час, и даже в эту минуту. Для меня уроки эти бесполезны, но дочь от них может стать мудрее и лучше.
– Будем действовать осмотрительно, – заметил Беллингем, – и хорошо продумывать наши шаги. Достопочтенный отец Уилсон, я прошу вас проэкзаменовать эту Перл – если уж таково ее имя, – чтобы выяснить, в должной ли мере получает она соответствующее ее возрасту христианское воспитание.
Старый пастор уселся в кресло и хотел было притянуть к себе Перл, поставив между колен. Но девочка, не привыкшая к чужим прикосновениям, ринулась к открытой двери и через секунду стояла уже на верхней ступеньке – похожая на диковинную тропическую птичку в ярком оперении – вот-вот вспорхнет и исчезнет в вышине.
Мистер Уилсон, немало удивленный таким резким проявлением неприязни со стороны девочки, ибо по-стариковски добродушного пастора дети обычно воспринимали с симпатией, все же попытался начать экзамен.
– Перл, – с большой важностью произнес он, – тебе следует проявлять усердие в учении, чтобы в должный срок и в душе твоей засиял бесценный жемчуг. Скажи мне, дитя, известно ли тебе, кто тебя создал?
Разумеется, ответ на этот вопрос Перл был отлично известен, ибо Эстер Принн, дочь набожных родителей, едва поведав девочке о Небесном ее Отце, сразу же принялась просвещать ее, открывая основы и догматы веры, которые ум человеческий, на какой бы стадии зрелости и развития он ни находился, всегда впитывает в себя с жадностью и любопытством. В результате Перл могла показать успехи для трехлетнего ребенка значительные, показав свое знание и новоанглийского букваря, и первого столбца Вестминстерского катехизиса, хотя прославленных этих книг она никогда и в глаза не видывала. Но дух противоречия, в какой-то степени свойственный всем детям и вдесятеро больше свойственный Перл, сейчас, казалось бы в самый неподходящий момент, взыграл в ней, понуждая либо упрямо сжимать губы, либо начать молоть чепуху. Сперва она стояла, сунув палец в рот, и на вопрос доброго пастыря отвечала молчанием, а потом вдруг выпалила, что ее вообще никто не создавал, а мама сорвала с куста шиповника, что рос возле тюремной двери.
Возможно, фантазию эту девочке подсказали и розовый куст, которым она любовалась, стоя у губернаторского окна, а также куст шиповника, росший возле тюрьмы, мимо которого они проходили, направляясь к дому губернатора.
Старый Роджер Чиллингворт с улыбкой шепнул что-то на ухо молодому священнику. Эстер Принн взглянула на медицинское светило и даже в эту решающую минуту, когда судьба ее висела на волоске, не могла не поразиться ужасным переменам в чертах, столь ей знакомых, – тому, насколько уродливее он стал, насколько сильнее скрючилась фигура, каким землистым стало его лицо. На секунду взгляды их встретились, и тут же она отвела глаза.
– Ужасно! – воскликнул губернатор, не сразу придя в себя от изумления, в которое повергла его Перл своим нелепым ответом. – В три года ребенок не знает, кто его создал! Без сомнения, точно так же не ведает она ничего и о душе своей, о том, в каком прискорбном состоянии пребывает она сейчас, и о печальной ее участи в будущем.
Схватив Перл, Эстер прижала ее к груди, с вызовом и чуть ли не яростью глядя в глаза старого пуританского законника. Одинокая и отвергнутая миром, свято хранившая единственное свое сокровище, которое только и давало силы ей жить, она готова была противостоять всему миру, защищать его даже ценою собственной жизни.
– Господь подарил мне дитя! – вскричала она. – Он дал мне ее взамен всего, что было у меня отнято вами! Она мое счастье! Не меньшее, чем му́ка, которую она в себе несет! Перл – моя опора в жизни, и она же мое наказание. Разве не видите вы, что и она тоже алая буква, но буква, которую я люблю, и потому способная карать меня за мой грех в миллион раз сильнее! Вы не отнимете ее у меня! Лучше смерть!
– Бедная моя страдалица, – произнес не чуждый милосердия священник. – О твоем ребенке будут хорошо заботиться, несравненно лучше, чем способна это делать ты.
– Господь поручил ее моим заботам, – в отчаянии твердила Эстер. – Не отдам! – И тут, повинуясь внезапному порыву, она обратилась к молодому священнику мистеру Димсдейлу, которого до этого момента словно не замечала. – Скажите слово в мою защиту! Вы были моим духовником, вам была вверена душа моя, вы знаете меня лучше, чем эти люди! Ребенок останется со мной! Скажите им! Защитите! Вы знаете, потому что умеете то, чего не ведают эти люди, умеете сострадать, знаете мое сердце и знаете, что такое право матери и насколько велико оно, если все, чем владеет мать, – это ее единственный ребенок и алая буква! Помогите! Пусть ребенок останется со мной! Помогите!
Услышав эту необычную, громкую и страстную мольбу, мольбу женщины, близкой к безумию, молодой священник выступил вперед. Он был бледен и прижимал руки к груди, как делал всегда в минуты волнения, когда что-то больно ранило его чувствительное сердце. Казалось, он похудел, осунулся, выглядел более изнуренным, чем тогда на позорной церемонии, которой общество подвергло Эстер. Но в печальной глубине его глаз, возможно, из-за точившего его недуга или по другой причине, затаились печаль, смятение и боль.
– В словах этих есть правда, – начал он. Голос его, чуть дрожащий, был звучен и, эхом отдаваясь от стен, заставлял звенеть гулкую пустоту висевших на них рыцарских доспехов. – И правда не только в словах, но и в чувстве, их вызвавшем. Господь, подарив ей дитя, наделил ее и инстинктивным пониманием его характера и всей его сущности. Так понимать дитя, как понимает его мать, не дано в этом мире ни одной живой душе. Скажу больше, разве не святы узы, связывающие эту женщину и ее дитя?
– Послушайте, достопочтенный отец Димсдейл, – прервал его губернатор, – что вы имеете в виду? Прошу вас дать разъяснение!
– Да, это действительно так, – продолжал свою мысль священник. – Ибо, будь по-другому, это бы означало, что Отец наш Небесный и создатель всего, что ни есть во плоти, с легкостью прощает грехи и не видит особых различий между греховной похотью и святой любовью! Это дитя, плод отцовской вины и материнского позора, вышло из рук Творца, чтобы многообразно влиять на душу той, кто сейчас так искренне и с таким ожесточением отстаивает свое право не разлучаться с ребенком. Дитя это послано ей как благословение, единственное в жизни! И оно же – и об этом сказала она сама – послано ей во искупление, став ее мукой, болью, пронзающей вдруг неожиданно и сильно даже в минуты робкой радости, болью, повторяющейся вновь и вновь! Разве не это чувство выразила она в наряде бедняжки, так ярко и наглядно напоминающем нам об алом знаке на груди этой женщины?
– Хорошо сказано! – воскликнул добросердечный мистер Уилсон. – Я боялся, что женщина эта задумала подшутить над нами.
– О нет, нисколько! – продолжал мистер Димсдейл. – Чудо, сотворенное Господом и воплощенное в этом ребенке, она, поверьте мне, вполне осознает. Так пусть же осознает она и то, что видится мне непреложной истиной: благодеяние это прежде всего призвано сохранить ее душу, душу матери, и уберечь ее от темной бездны грехов еще более чудовищных, бездны, куда мог ввергнуть ее Сатана! Поэтому так важно, чтобы забота о бессмертной душе ребенка, существа, которому могут быть уготованы как вечное блаженство, так и вечные муки, была бы вверена попечению этой несчастной грешницы, чтобы могла она наставить свое дитя на праведный путь, в то же время ежечасно и ежеминутно помня о собственном падении и видя в этой своей миссии дарованный Господом святой залог родительского спасения, достигаемого через спасение ребенка. Насколько же счастливее грешного отца может в этом оказаться мать! Вот ради этой ее возможности, а не только ради ребенка давайте оставим все так и на тех местах, как это рассудило Провидение!
– С какой удивительной горячностью вы разъясняете свою позицию, друг мой! – сказал старый Чиллингворт, улыбнувшись молодому священнику.
– И при этом в словах моего юного собрата содержится глубокий смысл, – заметил преподобный мистер Уилсон. – Что скажете вы, достопочтенный мистер Беллингем в ответ на столь проникновенную речь в защиту бедной женщины?
– Речь и вправду была проникновенной и содержала убедительные доводы, подвигшие нас оставить это дело в его теперешнем состоянии, по крайней мере до тех пор, пока женщина эта не будет замечена в каких-либо новых скандальных поступках. Однако следует позаботиться о том, чтобы вы либо отец Димсдейл должным образом проэкзаменовали девочку в знании катехизиса и чтобы она посещала как школу, так и молитвенные собрания.
Окончив свое выступление, молодой священник отошел чуть в сторону и теперь стоял, наполовину скрытый тяжелыми складками гардины, в то время как тень, отбрасываемая на пол заливавшими его фигуру солнечными лучами, чуть подрагивала в такт отзвукам страстной его речи. Перл, этот дикий и непредсказуемый эльфоподобный ребенок, тихонько прокралась к нему и, сжав его руку, коснулась ее щекой движением еле заметным, но исполненным такой нежности и благодарности, что Эстер при виде этого не могла не задаться вопросом: «Неужели это моя Перл?» Нет, она всегда знала, что в глубине души девочки таится любовь, но проявлялось это по большей части в страстных порывах, за всю ее жизнь смягчаемых, возможно, лишь раза два, той нежностью, которую проявила она сейчас.
Священник, взволнованный – ибо, кроме долго чаемого внимания любимой женщины, ничего нет слаще предпочтения, которое внезапно и повинуясь внутреннему движению оказывает нам дитя, как будто подтверждая этим, что есть в нас нечто достойное любви, – обернулся, положил руку на детскую головку и, чуть помедлив, поцеловал девочку в лоб. Но этот порыв чувствительности, который так внезапно охватил Перл, длился недолго: она рассмеялась и запрыгала вокруг с такой легкостью, что мистеру Уилсону даже показалось, что ноги ее вообще пола не касаются.
– В ее прыжках, ей-богу, есть что-то колдовское, – поддержал такое мнение и мистер Димсдейл. – Ей не нужно помела ведьмы, чтоб летать по воздуху!
– Странный ребенок, – заметил престарелый Роджер Чиллингворт. – В ней легко угадывается мать. Интересно, способен ли вдумчивый философ, подвергнув исследованию характер девочки, по складу и особенностям его догадаться, кто мог бы быть ее отцом.
– Никоим образом не стоило бы этого делать, – возразил мистер Уилсон. – Грешно было бы искать ключ к разгадке, обращаясь к методам светской науки. Вернее искать этот ключ, постясь и моля Создателя открыть нам эту тайну. А всего лучше не пытаться в нее проникнуть, а ждать, пока Провидение само откроет нам ее. И пусть каждый добрый христианин не чуждается права проявлять отцовскую нежность к этой несчастной покинутой малютке!
Таким образом, по достижении наилучшего для них разрешения вопроса Эстер Принн и Перл оставили дом губернатора. Но когда они спускались по ступеням, решетчатое оконце вдруг распахнулось и солнце осветило лицо матушки Хиббинс, сестры губернатора Беллингема, злобной женщины, которую несколько лет спустя осудили как ведьму.
– Ц-ц-ц! – зацокала она языком, и тень злобной ее физиономии, казалось, заслонила собой залитый солнцем приветливый фасад дома. – Не хочешь к нам в компанию сегодня ночью? Будет весело в лесу, и я, считай, посулила Черному Человеку, что пригожая Эстер Принн тоже к нам присоединится.
– Передай Черному Человеку мои извинения, – отвечала с победной улыбкой Эстер, – но я должна оставаться дома и блюсти мою маленькую Перл! Если б порешили они ее от меня оторвать, я б охотно пошла с тобой в лес и расписалась в книге Черного Человека, кровью запечатлев там свое имя!
– Мы еще встретим тебя в лесу! – хмуро бросила ведьма, и голова ее скрылась в окне.
И это – если верить в то, что разговор матушки Хиббинс и Эстер Принн и вправду имел место, – является лишним доказательством в пользу мнения молодого священника, так решительно выступившего против разлучения оступившейся матери с плодом несчастной ее слабости. Уже в столь раннем возрасте ребенок сумел уберечь мать от ловушки, подстроенной Сатаной.
Глава 9
Лекарь
Под именем Роджера Чиллингворта, как это помнит читатель, скрывался человек, решивший, что истинное его имя отныне должно быть предано забвению. Уже рассказывалось о том, как в толпе, собравшейся лицезреть позор Эстер Принн, стоял этот немолодой, измученный скитаниями и чудом избежавший дикарского плена человек, глядя, как та, в ком он надеялся обрести воплощение теплого домашнего уюта, стоит перед толпой живым воплощением греха. Честь и слава ее как матери были брошены под ноги толпе и растоптаны. Ее позором гудела рыночная площадь. Если б до родных ее и товарищей ее прежних беспорочных лет могла донестись весть о ее позоре, пятно это, как зараза, непременно коснулось бы и их, каждого в той мере, в какой он некогда был с ней близок, связан святыми узами родства или дружбы. Тогда зачем же, коль от него зависел выбор, стал бы человек, связанный узами самыми крепкими и самыми святыми с женщиной, ныне падшей, выступать вперед, заявляя о своем праве на часть наследства, столь нежеланного? И он решил не подниматься на помост и не вставать рядом с ней, чтобы разделить ее позор. Неведомый никому, кроме Эстер Принн, единственный хранитель замка и ключа от ее молчания, он сделал выбор, вычеркнув свое имя из списка произносимых, отринув от себя прежние связи и интересы, исчезнув так решительно, словно и впрямь, как давно уже гласила молва, покоился в океанских глубинах. Достигнув этой цели, он поставил перед собой цель иную, более темную или даже греховную, но требующую от него напряжения всех сил и способностей.
Преследуя эту цель, он и поселился под именем Роджера Чиллингворта в пуританском городишке. Предложить при этом обществу он мог лишь свою ученость и незаурядный ум. Поскольку когда-то занятия его включали в себя изучение медицины, он был не чужд современной медицинской науки и новейших ее достижений, почему и представился врачом, в качестве которого был радушно и сердечно принят жителями городка. Опытные врачи и хирурги в колонии большая редкость. Как нам кажется, большинство медиков не обладали тем религиозным пылом, который заставил прочих колонистов пересечь Атлантику. Углубившись в изучение телесной природы человека, всех тонкостей строения и функций того удивительного механизма, который зовется человеческим телом, механизма, собранного так искусно и мастерски, что, кажется, будто действует он сам по себе, медики эти упустили из виду духовную составляющую человека и человеческой жизни, утратив к ним вкус и интерес. Так или иначе, здоровье бостонцев в той мере, в какой им обязана заниматься медицина, было до той поры отдано попечению пожилого дьякона, являвшегося также и аптекарем, человека, в пользу которого могли говорить его добродетели и благочестие, но уж никак не диплом врача. Хирургом же и зубодером приходилось изредка выступать другому горожанину, привычным и ежедневным занятием которого было благородное искусство орудовать бритвой в цирюльне.
Вхождение Роджера Чиллингворта в круг подобных профессионалов можно было счесть блистательной удачей. Очень скоро он проявил свои познания в области изготовления старинных лекарств с их сложной многосоставной рецептурой, сочетающей элементы разнородные и отдаленные в комбинациях настолько хитроумных, что казалось, будто результатом их соединения может стать самый эликсир жизни! Более того, в индейском своем пленении он обрел знание местных трав и кореньев, другими словами, простых снадобий, знание которых не стал скрывать от своих пациентов, веря в благотворность используемых дикарями природных средств не меньше, чем в действие сложных лекарств европейских фармацевтов, рецептура которых разрабатывалась учеными докторами в течение веков.
Будучи человеком образцовым во многих отношениях и уж во всяком случае в строгом соблюдении всех норм и обрядов религии, сей ученый чужеземец вскорости после прибытия выбрал себе в духовники преподобного мистера Димсдейла. Память об успехах в науках даровитого юноши сохранялась в Оксфорде, а самые страстные его поклонники, ставя его чуть ли не вровень с богоданными апостолами, утверждали, что если суждено ему прожить обычный жизненный срок, то труды его во славу еще не окрепшей новоанглийской церкви могут сыграть для нее роль не меньшую, чем роль святых отцов в становлении христианской веры в период ее младенчества. Однако пока что здоровье мистера Димсдейла обнаруживало явные признаки ухудшения. Близко знакомые с его привычками и образом жизни объясняли бледность молодого священника чрезмерным усердием в ученых трудах, чересчур ревностным исполнением пасторского долга, а более всего постами и бдениями, к которым он прибегал слишком часто, словно из страха, что плотная земная оболочка способна затмить для него лампаду духа. Иные уверяли, что, если мистер Димсдейл и вправду умрет, это будет означать, что земля более недостойна носить его. Сам же он, напротив, с характерной для него склонностью к унижению говорил, что если Провидение вознамерится оборвать его земную жизнь, то только потому, что он оказался недостойным исполнять свою скромную земную миссию. При всем различии во мнениях о причинах его недомогания сам факт этого никто не отрицал. Он худел, голос, все еще громкий и благозвучный, приобрел какие-то печальные обертоны, говорившие о близком телесном упадке, и нередко видели, как молодой человек, внезапно и как бы в испуге от чего-то неожиданного, хватается за грудь, а щеки его краснеют и тут же бледнеют, словно от боли.
Таково было состояние молодого священника, грозившее перспективой безвременной кончины, затухания только-только разгоревшейся лампады этой новой жизни, когда в городок прибыл Роджер Чиллингворт. Откуда он прибыл, известно было немногим, казалось, упал он с неба либо появился из иных миров, окруженный тайной, которую легко можно счесть и чудом. Вскоре стала известна и его профессия – многие заставали его за сбором трав, видели, как обрывает он лепестки полевых цветов, как выкапывает корешки, ломает ветки деревьев в лесу, словно знающий цену вещам, в глазах обычных людей цены не имеющим. Он говорил о сэре Кенелме Дигби[17]17
Дигби, Кенелм (1603–1665) – английский политический деятель, известный также своими трудами в области медицины.
[Закрыть] и других знаменитостях, ученые заслуги которых были не менее известны, как о своих знакомых или корреспондентах. Почему же, имея такой вес в ученых кругах, объявился он здесь? Живя в больших городах, вращаясь в высших сферах, что позабыл он в нашем диком краю? Ответом на эти резонные вопросы, согласно верным слухам, стало убеждение, при всей абсурдности своей разделяемое и многими вполне разумными людьми, состоявшее в том, что Небеса совершили чудо, перенеся выдающегося деятеля медицинской науки из германского университета непосредственно к нам на порог мистера Димсдейла, к двери его кабинета. Люди более здравомыслящие, знающие, что Небо умеет достигать своих целей, не прибегая к сценическим эффектам, которые мы называем чудесами, склонялись к тому, чтобы столь своевременное появление Роджера Чиллингворта приписать руке Провидения.
Мысль эту подкреплял и тот глубокий интерес, который врач с самого начала проявил к молодому священнику. Он избрал его своим духовником и старался всеми способами завоевать его доверие и дружбу. Он выражал глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пастора и торопился начать лечение, уверяя, что чем раньше он это сделает, тем успешнее будет результат. Старейшины, почтенные матроны и молодые девицы из паствы мистера Димсдейла наперебой уговаривали священника испробовать на себе искусство врачевания, так настойчиво ему предлагаемое. Мистер Димсдейл мягко возражал:
– Мне не нужны лекарства.
Но как мог молодой священник говорить такое, если от службы к службе впалые щеки его бледнели, а голос дрожал все жалобнее, когда хвататься за сердце стало у него уже не случайным жестом, а жестом привычным? Он устал от трудов земных? Он возжелал смерти? Так вопрошали мистера Димсдейла, сурово и с важностью, старейшие священники Бостона, так спрашивали и служители его собственной церкви, ставя ему в упрек, как они сами говорили, грех отказа от помощи, которую так явно несло Просвещение, протягивая ему руку. Он молча слушал уговоры и наконец пообещал посоветоваться с врачом.
– На все божья воля, – сказал преподобный мистер Димсдейл, во исполнение своего обещания беседуя с Роджером Чиллингвортом и обращаясь к нему за советом. – Но я был бы вполне счастлив и доволен, если б мои труды вкупе с моими скорбями, грехами и телесными страданиями в скором времени окончились вместе со мной и все, что было в них земного, оказалось бы погребено в моей могиле, а все духовное вознеслось вместе со мной к вечной жизни. Я предпочел бы это тем упражнениям в вашем искусстве, которое вы собираетесь применять ко мне ради моего блага.
– Ах, – отвечал Роджер Чиллингворт с характерным для него спокойствием, то ли естественным, то ли деланым, – только так и должен говорить молодой священник! Молодые люди, еще не успевшие глубоко укорениться в жизни, легко с ней расстаются. А люди праведные, которые топчут эту землю, имея в душе Бога, хотели бы отлететь от земли, чтоб вместе с Ним ходить по золотым дорогам Небесного Иерусалима.
– Нет, – возразил молодой священник, хватаясь за сердце и морщась от внезапного приступа боли, – будь я достоин ходить по тем дорогам, я лучше бы остался здесь потрудиться во славу Его!
– Хорошие люди всегда недооценивают себя, – заметил доктор.
Вот так таинственный старый джентльмен Роджер Чиллингворт стал пользовать преподобного мистера Димсдейла как врач. При этом интересовали его не только симптомы болезни, но и его характер, черты и особенности которого он внимательнейшим образом изучал, вглядываясь в них с таким тщанием, что постепенно эти двое, столь различные по возрасту, стали проводить много времени вместе. Дабы укрепить здоровье священника, а также для сбора лекарственных растений, они отправлялись в долгие прогулки по берегу моря, во время которых под плеск и шепот волн или торжественные трубные звуки ветра, веявшего в верхушках деревьев, вели беседы на самые разные темы. Часто один навещал другого в его уединении – месте неустанных трудов священника, его кабинете. Молодому человеку бесконечно нравилось общество человека, в котором он ясно различал ум, столь глубокий и столь развитый, отличавшийся к тому же такой широтой охвата, что, как это понимал Димсдейл, другого такого собеседника в среде собратьев-священников было не найти. Говоря по правде, он был немало удивлен и даже поражен, обнаружив такие качества во враче. Мистер Димсдейл по самой своей сути был священником и человеком истинно верующим. Все его чувства, душа, весь склад его ума развивались в соответствии с догматами веры, с годами все глубже проникаясь ею. Ни при каких обстоятельствах, ни при каком общественном устройстве мистер Димсдейл не мог бы считаться, что называется, «человеком свободных воззрений». Для спокойствия души ему необходимы были строгие рамки религиозной догмы. Эти железные рамки, сковывая его, одновременно и поддерживали, укрепляли. И в то же время с какой-то трепетной радостью и облегчением порою смотрел он на мир как бы глазами своего собеседника, человека иного мировоззрения, отличного от мировоззрения тех, с кем он обычно общался. Как будто распахнули окно и в мрачную затхлую атмосферу кабинета, где тратил он свою жизнь под тусклым светом лампы или при затемненном шторою свете дня, корпя час за часом среди духоты, буквальной и в переносном смысле, вдыхая плесень старых замшелых книг, вдруг ворвалась струя свежего воздуха. Но дышать этим новым воздухом слишком долго было опасно – он казался чересчур холодным. И священник, а с ним и врач вновь замыкались в пределах, установленных им догматами веры и церковью.
Таким образом, Роджер Чиллингворт внимательно изучил пациента, изучил всесторонне – и его поведение в обычных для него обстоятельствах, когда мысли его шли по тропам давно знакомого круга, и когда он вдруг вырвался за положенные ему пределы, оказываясь вдруг на фоне иного, нового нравственного ландшафта, по-новому обрисовывающего его характер и четче выделяющего его черты. Доктор полагал весьма существенным хорошенько узнать пациента, прежде чем пытаться поправить его здоровье. У человека, имеющего ум и сердце, ход болезни неизменно обретает особенности, порожденные их влиянием и зависимые от особенностей характера. В случае Артура Димсдейла можно было смело предполагать, что в возникновении его недуга большую роль сыграли пытливый ум, богатое воображение и тонкая чувствительность. Поэтому Роджер Чиллингворт, как искусный врач и человек добрый и благожелательный, старался проникнуть в самую глубь души пациента, разобраться в его жизненных принципах, покопаться в воспоминаниях, делая все это крайне осторожно, подобно искателю кладов, разгребающему завалы забытой пещеры. Мало секретов можно утаить от исследователя, располагающего правом и возможностью вести исследование, а также умением это делать. Тому, чья душа несет бремя тайны, более всего следует избегать тесного общения со своим врачом. Если последний наделен природной мудростью вкупе с чем-то трудно определимым, что мы именуем интуицией, если он не проявляет исследовательского высокомерия, назойливого любопытства или других неприятных черт, если он обладает природным талантом настраивать свой ум на волну, столь близкую пациенту, что последний неожиданно для себя вдруг произносит вслух то, что, как он считал, он только думает, если подобные открытия воспринимаются спокойно и ведут за собой не слова сочувствия, а лишь молчание, легкий вздох или неопределенный жест, свидетельствующий о том, что сказанное понято, если ко всем этим качествам конфиданта присовокупляются еще и достоинства признанного врача, тогда неизбежно наступит момент, когда душа страдальца раскрывается, изливаясь темным, но прозрачным потоком, вынося на свет свои тайны.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































