Текст книги "Алая буква"
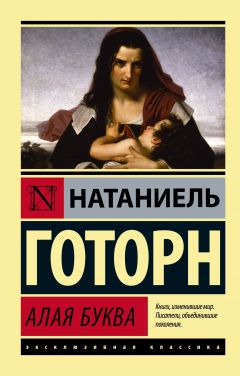
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Глава 21
Праздник в Новой Англии
Утром того дня, когда народу предстояло вручить полномочия новому губернатору, на рыночной площади появилась и Эстер Принн вместе с маленькой Перл. На площади уже толпились ремесленники и прочие простолюдины, среди которых выделялись, в частности, и люди в одеждах из оленьих шкур – косматые обитатели окрестных лесных поселений.
В этот праздничный день, как и в прочие знаменательные дни, случавшиеся за эти семь лет, Эстер Принн была одета как обычно – в платье из грубого полотна. И цвет платья, и особенности фасона делали ее неприметной, как бы уничтожая ее, в то время как алая буква, наоборот, выводила ее из сумрачной тени, блеском своим заставляя вспомнить о моральном значении этого символа. Ее лицо, столь знакомое горожанам, несло на себе мраморную маску непоколебимого спокойствия, которую также привыкли видеть на нем жители города. Эта маска была отчасти сродни застылости черт, которую мы наблюдаем на лицах покойников, и жутковатое это сходство объяснялось тем, что для всех вокруг Эстер и вправду была мертва, недоступна сочувствию и отрешена от мира, в котором продолжала жить.
Но в этот день на лице ее проглядывало и выражение, которого раньше заметно не было, да и сейчас его заметить мог бы лишь зоркий наблюдатель, умеющий к тому же читать в сердцах, – он сперва должен был бы раскрыть тайну ее сердца, после чего отыскать отражение этой тайны на ее лице и во взгляде. Такой пророчески одаренный человек, возможно, понял бы, что после семи лет страдания, когда ей пришлось сносить взгляды толпы по необходимости, как наказание, наложенное на нее суровыми правилами религии, теперь она в первый и в последний раз встречала эти взгляды свободно и охотно, радуясь тому, что может превратить мучение в свой триумф.
«Поглядите в последний раз на эту алую букву и на женщину, что носит ее на груди! – могла бы воскликнуть эта жертва, обращаясь к тем, кто считал ее своей вечной рабой. – Еще немного, и они уплывут из ваших рук и вам их не достать! Всего несколько часов – и таинственные глубины океана поглотят и навек скроют из глаз знак, которому вы предназначили жечь огнем грудь этой женщины!» И надо ли считать слишком невероятной столь свойственную человеческой природе противоречивость, если Эстер, готовясь освободиться от боли, въевшейся ей в плоть и кровь, испытывала нечто вроде сожаления? Разве не могло у нее возникнуть непреодолимого желания в последний раз одним глотком осушить до дна горькую чашу со вкусом алоэ и полыни, пропитавших собой и отравивших лучшие годы молодой ее жизни? Напиток жизни, который будет теперь поднесен к ее губам в кубке чеканного золота, должен быть крепким, насыщенным, сладким и поистине бодрящим, иначе он неизбежно возбудит в ней, одурманенной горечью, лишь бесплодное томление.
Перл резвилась без устали – легкая, брызжущая весельем. Невозможно было даже представить себе, что это сияющее солнечное существо обязано своим рождением фигуре столь сумрачной и серой или что богатую причудливую фантазию, ярко проявившуюся в создании наряда малышки, могла увлечь и совершенно иная, хотя, возможно, и более трудная задача – придать своеобразие скромному платью Эстер. Наряд девочки удивительно шел к ней; он казался неизбежным развитием и внешним проявлением ее характера, он был неотделим от нее и свойствен ей, как свойствен крылу бабочки пестрый переливчатый блеск, как свойственна живописная яркость лепесткам цветка. Как и у бабочки, как и у цветка, наряд девочки совершенно сливался с ее внутренней природой. К тому же в особенный этот день девочка была возбуждена, беспокойна и переменчива в настроениях больше обычного. Так переливается, искрится, сверкая гранями при каждом движении или вздохе, бриллиант на женской груди. Дети чутко улавливают волнение близких, в особенности отзываясь на угрозу близкой беды или каких-то перемен в их домашнем укладе. Вот и Перл, этот драгоценный бриллиант на не знающей покоя материнской груди, прихотливыми перепадами настроения выражала эмоции, которые у Эстер оставались скрытыми за мраморной маской невозмутимости. Быстрая смена разнообразных чувств заставляла девочку, вместо того чтоб идти бок о бок с матерью, то и дело покидать ее, порхая, подобно птичке. При этом она издавала дикие вопли, бормотала что-то невнятное, иногда начинала петь громко и пронзительно. Девочка стала еще беспокойнее, когда они с матерью подошли к площади и она увидала бурлящую толпу там, где обычно глазам представала картина широкая и пустынная, более похожая на обширный, заросший сорняками луг перед сельским молитвенным домом, нежели на средоточие деловой жизни города.
– Что это, мама? Почему все эти люди бросили работу? Разве сегодня общий выходной? Гляди, и кузнец здесь! Он смыл сажу с лица, надел праздничную одежду и как будто хочет сказать, что не прочь повеселиться, если только ему покажут, как это делается! А вот и старый мистер Бракет, тюремщик! Он кивает и улыбается мне. Почему он это делает, мама?
– Он помнит, как ты была еще у меня на руках, девочка!
– Все равно незачем ему мне кивать и улыбаться! Он страшный, черный урод! – заключила Перл. – Пусть он, если ему так уж хочется, тебе кивает, раз ты одета в серое и носишь эту алую букву! Но посмотри, сколько незнакомых людей! И индейцы здесь, и моряки! Зачем они все пришли сюда, на рыночную площадь?
– Хотят посмотреть шествие, – ответила Эстер. – Перед нами пройдет губернатор, пройдут судьи, и важные чиновники, и просто добрые люди тоже примут участие, а во главе колонны будут музыканты и промаршируют солдаты.
– А священник тоже там будет? – спросила Перл. – И он протянет ко мне обе руки, как сделал тогда у ручья, когда ты подвела меня к нему?
– Да, он там будет, дитя мое, – отвечала мать. – Но здороваться с тобой сегодня не станет, и ты тоже не должна с ним здороваться.
– Какой-то он странный, невеселый, – пробормотала Перл себе под нос, как бы говоря сама с собой. – Когда темно, он зовет нас к себе, держит за руку тебя и меня, как было, когда мы стояли рядом с ним вон на том помосте. И в густом лесу, когда одни только старые деревья могут это слышать, а клочок неба – видеть, он разговаривает с тобой, сидя на куче мха! Тогда он целует меня в лоб, так крепко, что даже ручью трудно смыть этот поцелуй. А днем, когда светит солнце и вокруг люди, он знать нас не знает, и мы должны делать вид, что незнакомы! Странный он, невеселый, вечно за сердце хватается!
– Тихо, Перл! Тебе этого не понять, – сказала Эстер. – Выкинь из головы мысли о священнике. Лучше погляди, какие у всех сегодня веселые лица. Дети не пошли в школу, взрослые оставили работу на полях и в мастерских, чтобы порадоваться, потому что в этот день нами начинает править новая власть, а так повелось, с тех пор еще, когда люди уговорились жить вместе, что новости этой надо радоваться и веселиться, будто и впрямь для нас, бедных, золотой век наступает!
Эстер была права: лица людей действительно были оживлены непривычной веселостью. По обычаю, сложившемуся уже тогда и бытовавшему потом без малого два столетия, именно это время года пуритане отводили общественным празднествам и выражениям веселья в той мере, какую они считали допустимой, снисходя тем самым к извечной человеческой слабости. На время рассеивая окружавший их мрак, они являлись на праздник с лицами едва ли мрачнее тех, что в других сообществах можно видеть в дни всенародных бедствий.
Впрочем, мы, возможно, преувеличиваем мрачность, несомненно, свойственную настроению и нравам той эпохи. В людях, собравшихся на рыночной площади Бостона, пуританская суровость не была врожденным качеством. Ведь родились они в Англии, где их отцы жили в солнечном изобилии Елизаветинской эпохи, несравненного времени величия, расцвета и радостных надежд. Следуй новоанглийские поселенцы вкусам своих отцов, и они отмечали бы важнейшие общественные события кострами, пышными пирами, веселыми зрелищами и карнавальными процессиями. Во время официальных церемоний они умели бы сочетать торжественность с услаждающей душу веселостью, как бы украшая причудливой яркой вышивкой строгую мантию государственности, какую в подобных случаях набрасывает на себя нация. Тенью такой попытки можно счесть и празднество, каким колония отмечала наступление нового политического года. Туманным отражением былого и все еще памятного великолепия, бесцветным слабым подражанием тому, что видели они в горделивом древнем Лондоне – нет, даже не во время коронации, а во время въезда в город лорда-мэра – являлась ежегодная церемония, учрежденная нашими предками в честь избрания нового состава судей. Отцы-основатели нашего государства – сановник, священник и солдат – считали своим долгом и в этот день сохранять вид торжественный и величавый, какой издревле считается приличествующим лицам высокого звания. Им надлежало пройти перед народом в шествии, придавая тем самым нужную меру достоинства новоиспеченной и еще столь несовершенной власти.
В этот день народу дозволялось и чуть ли не вменялось в обязанность немного отдохнуть, прервать свой тяжкий и неустанный труд в разнообразных его формах, который в другое время считался неразрывно связанным с их верой и этой верой освященным. Однако надо сказать, что ничего подобного народным увеселениям, которыми так богата была Англия времен Елизаветы или короля Якова, здесь мы бы не нашли. Не могло здесь быть ни грубых фарсовых представлений, ни бродячего певца с арфой, распевающего старинную балладу, ни потешного человека с обезьянкой, танцующей под музыку, ни фокусника с его поистине колдовским мастерством, ни забавной куклы в балагане, веселящей народ своими шутками, может быть, и столетней давности, но такими смешными и простыми, ибо черпают их из самого источника комизма. Все носители такого рода забав подверглись бы суровому осуждению, и не только во исполнение закона, осудило бы их и общественное мнение, придающее закону его действенную силу. И тем не менее простые честные лица вокруг улыбались, и настроение толпы выражала улыбка – может быть, и сдержанная, но заметная. Не были здесь обойдены вниманием и спортивные состязания, подобные тем, какие колонисты наблюдали или в которых участвовали в давние дни еще на ярмарочных площадях и зеленых лужайках сельской Англии. Такие состязания иммигранты сочли необходимым сохранить и на новой земле, так как занятие спортом воспитывает в людях храбрость и мужество. Тут и там на рыночной площади в схватку вступали борцы стиля корнуэльского или девонширского. Бились на дубинках. Особенный интерес у публики вызвало происходившее на уже известном читателю помосте у позорного столба. Там демонстрировали свое искусство владения мечом двое со щитами. Но, к большому разочарованию толпы, этот поединок был пресечен приставом, поскольку он усмотрел здесь посягательство на величие закона через осквернение одного из главнейших его святилищ.
В общем, мы могли бы смело утверждать, что в умении устраивать праздники эти люди, пребывавшие еще только на первой стадии безрадостного существования и рожденные от отцов, знавших толк в веселье, могли бы поспорить за первенство со своими потомками, жившими годы и годы спустя, вплоть до наших дней. Прямые же их потомки, поколение, следовавшее за первыми иммигрантами, отличаясь пуританством самого безрадостного свойства, так омрачили лик страны, что всех дальнейших лет не хватило, чтоб развеять эту черную тень. Нам надо заново осваивать забытое искусство веселиться.
Картина рыночной площади, в целом выдержанная в тонах серых, коричневых и черных – таковы были унылые цвета одежды английских иммигрантов, – оживлялась примесью и некоторых других красок. Группа индейцев в своих дикарских нарядах из украшенных затейливой вышивкой оленьих шкур, в ожерельях из раковин, с лицами, измазанными красной и желтой глиной, в головных уборах из перьев, вооруженные луками, стрелами и копьями с каменными наконечниками, стояла в сторонке, наблюдая происходящее с выражением такой мрачной суровости, что пуританская суровость меркла рядом с ней. Но и эти живописно раскрашенные варвары не были самой экзотической деталью празднеств. С бо́льшим правом на такое звание могли бы претендовать некоторые из присутствовавших здесь же моряков – часть экипажа судна, прибывшего из испанских владений. Моряки эти сошли на берег, чтобы разделить веселье в честь дня выборов. По виду это были отъявленные разбойники с грубыми, дочерна обожженными солнцем лицами, длиннобородые, в коротких и широких панталонах, нередко скрепленных на поясе грубой, но золотой пряжкой, за поясом неизбежно торчал длинный нож, а у некоторых – сабля. Из-под широких, сплетенных из пальмовых листьев шляп сверкали глаза, которые даже в минуты абсолютного благорасположения и веселья выражение имели просто зверское. Без малейшего страха или сомнения люди эти нарушали общепринятые и соблюдаемые всеми прочими правила – курили табак под носом у пристава, хотя горожанину каждая затяжка стоила бы шиллинг, в свое удовольствие, тянули из фляжек вино или водку, без стеснения предлагая выпить и глазевшим на них окружающим.
Подобное ясно показывает неполноту тогдашних правил, признанных крайне строгими. Однако бороздящему моря люду дозволялось не только безнаказанно предаваться всяческим безрассудствам на берегу, но и серьезно нарушать закон в сфере, непосредственно связанной с родом их занятий, – на море. Тот, кого современники именовали моряком, наш век назвал бы пиратом. Так, например, не подлежит сомнению, что матросам уже знакомого нам судна, чей экипаж был составлен из далеко не самых худших представителей морского братства, можно было бы, выражаясь юридически, вменить в вину нанесение ущерба торговле с Испанией, причем в размерах столь значительных, что современный суд счел бы преступников достойными виселицы.
Но море в те давние времена дышало, вздымало валы и пенилось, как ему заблагорассудится, повинуясь лишь буйным ветрам и противясь любым попыткам подчинить его человеческому закону. Бесчинствующий на морях головорез мог вдруг пожелать остепениться, бросить свое ремесло и осесть на суше, а там прослыть честнейшим и набожным членом общества, но даже и на пике беспутной его жизни никто не считал для себя зазорным вести с ним дела или приятельствовать. Вот почему одетые в черные плащи, в накрахмаленных брыжах, увенчанные шляпами с высокой тульей пуританские старейшины довольно благосклонно и с улыбкой воспринимали грубое и шумное поведение неунывающих морских бродяг и не выразили ни удивления, ни порицания, когда столь почтенный гражданин доктор Роджер Чиллингворт, придя на площадь, вступил в непринужденную дружескую беседу с капитаном вышеназванного судна.
Последний представлял собой фигуру в высшей степени яркую и живописную. Одежда его была украшена лентами, а шляпу с золотой с цепями оторочкой украшало перо. Он был при сабле, и саблей же был рассечен его лоб, но шрам от удара, вместо того чтоб скрыть под волосами, капитан, похоже, всячески выставлял напоказ. Горожанин, появись он в таком виде и с такой отметиной на лбу, к тому же со столь гордым и самоуверенным видом, вряд ли избег бы строгого допроса у судьи, который, вероятнее всего, его оштрафовал бы, а то и посадил в тюрьму или даже заковал в кандалы. Что же до капитана, то его вид воспринимался как естественный, свойственный ему от природы, как рыбе свойственна сверкающая чешуя.
Расставшись с доктором, капитан бристольского судна лениво прошелся по площади, а потом, приблизившись к месту, где стояла Эстер Принн, ему, по-видимому, знакомая, он тут же к ней и обратился. Как обычно, вокруг Эстер было пусто, она стояла внутри как бы магического круга, переступать окружность которого люди, даже теснясь и толкаясь рядом, не осмеливались или же не имели желания. К этой насильственной моральной изоляции женщину принудила носимая ею алая буква, и одиночество Эстер вызывалось как собственной ее сдержанностью, так и инстинктивным отчуждением ее собратьев, которые, правда, постепенно стали относиться к ней помягче. Но как раз сейчас отчуждение это в кои-то веки сыграло Эстер на руку, дав ей возможность поговорить с моряком, не будучи услышанной, причем репутация Эстер Принн к тому времени была уже такова, что беседу эту никто не счел бы поводом для скандала бо́льшим, чем если б с моряком заговорила самая строгая моралистка во всем городе.
– Только знаете, миссис, – сказал морской волк, – я должен буду предупредить судовую прислугу приготовить еще одну койку, кроме тех, что заказаны вами. А что касается цинги или там какой-нибудь морской болезни, не бойтесь. Тут мы будем в безопасности. С двумя врачами – судовым доктором и еще одним – этим, единственное, что нам грозит, – это объесться пилюлями, а их на судне теперь вволю: я целый аптечный склад на испанском корабле выторговал.
– О чем это вы? – спросила Эстер. Она встревожилась, хотя и не хотела этого показывать. – Разве будет еще пассажир?
– Неужели вы не знаете, – вскричал капитан, – что здешний доктор, этот, как его, Чиллингворт, кажется, тоже отправляется с нами? Ай-яй-яй, я думал, вы знаете, он же говорил мне, что он из вашей компании, что он близкий друг того джентльмена, о котором вы рассказывали, что его преследуют эти постные пуританские начальники.
– Да, они хорошо знакомы, – подтвердила Эстер. Внешне она казалась совершенно невозмутимой, но внутри у нее все кипело. – Они долго жили вместе.
На этом разговор Эстер Принн с моряком закончился. Но, оглянувшись, Эстер в ту же минуту увидела Роджера Чиллингворта. Стоя в дальнем углу площади, он улыбался ей. И ни шум бурлящей смехом и говором толпы, никакие мысли, никакие чаяния людей, собравшихся на праздник, не могли скрыть для Эстер тайного и зловещего смысла этой улыбки.
Глава 22
Шествие
Но прежде чем Эстер Принн успела собраться с мыслями и обдумать, как теперь ей быть, когда дело приняло новый и такой зловещий оборот, послышались звуки приближавшейся военной музыки, возвестившие о том, что процессия, состоящая из судей и достойнейших горожан, движется по ближайшей улице, направляясь к молитвенному дому, где по тогда еще установленному и до сих сохраняемому обычаю священник, то есть мистер Димсдейл, должен был произнести проповедь в честь дня выборов.
Вскоре показалась голова процессии – завернув за угол, люди медленно и торжественно ступили на рыночную площадь. Впереди шел оркестр – хотя, возможно, все инструменты его и были плохо сыграны, а музыканты не отличались мастерством, но цели своей, той цели, во имя которой барабан и рожок, сливаясь в звучании, обращаются к толпе, оркестр этот достигал, придавая происходящему перед глазами характер более героический и возвышенный. Маленькая Перл, поначалу хлопавшая в ладоши, вдруг притихла, возбужденное состояние, в котором она пребывала все утро, на секунду покинуло ее, она молча глядела на музыкантов и, казалось, готова была устремиться вверх, взмыть, как чайка, в небо, куда неслись волны музыки. Но прежняя живость тут же вернулась к ней, как только солнечные лучи заиграли на доспехах шедшего вслед за музыкантами отряда военных. Этот отряд, который до сих пор сохраняется как воинское подразделение и, овеянный древней славой, по-прежнему горделиво вышагивает на парадах, пополнялся не искателями наживы. В него вступали джентльмены, чувствовавшие в себе военную жилку и мечтавшие о создании чего-то наподобие военного колледжа, где бы они, как в старину рыцари-тамплиеры, могли бы осваивать воинскую науку и практику войны в той мере, в какой последнее представляется возможным в мирное время. То, каким уважением пользовались в то время люди военные, сказывалось в гордом шаге и выправке каждого из членов отряда. Некоторые из них действительно отличились в военных действиях в Нидерландах и на других военных театрах Европы и тем заслужили право и честь именоваться солдатами. Вид их, закованных в сверкающую сталь, в шлемах, увенчанных колышущимися плюмажами, был чрезвычайно эффектен и представлял собой зрелище, до которого далеко современным парадам.
Но шедшие непосредственно за военными высокопоставленные чиновники вдумчивому наблюдателю показались бы более достойными рассмотрения. Поступь их была столь величава, что в сравнении с ней напыщенность военных показалась бы вульгарной и даже смешной. То был век, когда качество, называемое нами талантом, ценилось не столь высоко. Явным предпочтением пользовались основательность и достоинство. Люди тогда обладали врожденной почтительностью к тем, кто имел право на уважение и почет. Но в последующих поколениях почтительность если не выродилась окончательно, то значительно ослабла, что сказывается на выборе и оценке общественных деятелей. Такая перемена, возможно, к лучшему, а может, и к худшему; впрочем, вернее всего частично правильно и то и другое.
В те давние времена осваивавший дикий край английский поселенец, отринув короля, знать и все степени сословных различий, все же сохранял способность и властную потребность кого-то почитать и сделал объектом почитания седины и благородный облик людей в летах, тех, кто многократно доказывал целостность и стойкость характера, неизменную мудрость и за плечами имел горький опыт жизни. Наши предки уважали серьезность и основательность, качества, внушавшие им идею постоянства и подпадавшие под определение респектабельности. Поэтому общественных деятелей новой формации, таких как Брэдстрит, Эндикот, Дадли, Беллингем, и их соратников, призванных к власти выбором первых избирателей, отличает, как нам кажется, не столько блеск и живость ума, сколько его надежная трезвость. Они обладали упорством и верой в себя, а в годину тяжких испытаний вставали на защиту страны и защищали благополучие ее граждан, подобно тому, как гряда утесов защищает морской берег от разрушительных штормов. Перечисленные свойства характера ярко проявлялись во внешности судей колонии, в грубоватых крупных чертах их лиц, в тяжеловесности могучих тел. Что же до естественной властности повадки, то на старой родине эти видные деятели истинной демократии не посрамили бы своим присутствием ни палату лордов, если бы их туда приняли, ни даже Тайный совет при монаршей особе.
Следом за судьями шел молодой славившийся своим талантом священник, из уст которого и должна была прозвучать проповедь в честь очередного знаменательного дня. Делом своей жизни он выбрал поприще, на котором в то время ум, воля, духовность значили и могли проявиться даже больше, нежели в политике. Ибо – оставляя в стороне мотив высшего порядка – уважение и даже благоговение общества являлось достаточным побудительным стимулом к тому, чтоб исполнять пасторский долг с особым рвением, вкладывая в это все свои способности. А как показывает пример Инкриза Мэзера, успешный священник мог стать даже фигурой политической[20]20
Мэзер, Инкриз (1639–1723) – бостонский священник и ректор Гарвардского университета, в свое время влиятельный политический деятель Массачусетса.
[Закрыть].
Наблюдательные люди могли заметить, что никогда раньше с тех пор, как нога священника ступила на берег Новой Англии, не выказывал он такой энергии и бодрости в движениях и походке, чем шагая вместе с другими в процессии. Куда делись неверные шаги, вялость! Он больше не горбился, как обычно, не хватался рукой за сердце – этот жест всегда вызывал тревогу у окружающих. Однако внимательному глазу становилось ясно, что сила, вернувшаяся к священнику, – не телесного порядка. Ее, по-видимому, питала бодрость духа, которой споспешествовали ангелы небесные. А может быть, силы его подкрепило чудодейственное сердечное снадобье, настойка, томленная на жарком огне непрестанных мучительных размышлений. Возможно, чуткую его натуру взбодрили громкие пронзительные звуки музыки, которые, устремляясь к небу, увлекли и его, и он взмыл вверх, подхваченный волной этих звуков. Однако взгляд мистера Димсдейла был сейчас так рассеян, что можно было усомниться, слышит ли он музыку вообще. Тело его с непривычной живостью двигалось вперед. Но где было его сознание? Оно находилось далеко – погруженное в себя, оно неутомимо запускало одну за другой вереницу важных мыслей, которыми предстояло поделиться с людьми, и потому он ничего не видел, не слышал и не знал, что делается вокруг, в то время как дух его двигал немощную телесную оболочку с легкостью, не ощущая груза, преображая и его в духовную субстанцию. Люди с необычайно развитым интеллектом, но слабые телесно, способны иногда на мощный рывок, усилие, подготавливаемое исподволь, долго, в течение многих дней, но, совершив это усилие, они потом на срок столь же или даже более долгий лишаются сил.
Эстер Принн не сводила глаз со священника, и ее охватывало жуткое чувство, причину и источник которого понять она не могла, а лишь чувствовала вдруг возникшую отстраненность священника от нее и полную невозможность для нее, Эстер, к нему приблизиться. Ну хоть взглянуть на нее, хотя бы мельком, он бы мог! Ей вспомнились угрюмый лес и маленькая уединенная ложбина, и любовь, ее тоска и мука, и мшистый древесный ствол, где они сидели, держась за руки, перемежая свои страстные печальные речи с грустным лепетом ручья. Как хорошо понимали они тогда друг друга! Да он ли это был? Сейчас его и не узнать! Так гордо шествует мимо, словно погруженный в музыку, вместе с этими важными почтенными отцами нации, такой недосягаемый на этой своей высокой ступени общественной лестницы, погруженный в свои недоступные холодные размышления, которыми он сейчас так занят и куда ей заказан путь. Эстер совсем пала духом при мысли, что, может быть, все это было лишь обманчивой иллюзией, пригрезившимся ей сном – ярким и правдоподобным, а на самом-то деле ее и священника ничто не соединяет. Но, будучи женщиной, Эстер едва ли могла его простить, особенно в эту минуту, когда слышна тяжелая поступь надвигающегося Рока – шаги все ближе, ближе, а он посмел удалиться из их общего мира, оставив ее плутать в темноте и тщетно тянуть к нему хладные руки.
Возможно, Перл улавливала чувства матери и откликалась на них, а может быть, и сама ощущала непроницаемую завесу, за которой скрылся священник, теперь недосягаемый. Пока шествие продолжалось, ребенок был в замешательстве и трепетал, как готовая вспорхнуть птичка. Но когда перед ними прошел последний участник процессии и все кончилось, она заглянула Эстер в глаза.
– Мама, это тот самый священник, что целовал меня у ручья?
– Тише, малышка, успокойся, – шепнула мать. – Не стоит говорить на площади о том, что было с нами в лесу.
– Да и непохоже, что это он – так странно он выглядит, – продолжала девочка. – Будь это он, я подбежала бы к нему и попросила бы поцеловать меня сейчас, при всех, как тогда в лесу, среди темных деревьев! Что бы он сказал? Схватился бы за сердце и хмуро велел бы мне убираться прочь?
– Что мог бы он сказать, Перл, – отозвалась Эстер, – кроме того, что целоваться ему некогда и что рыночная площадь не место для поцелуев? Ты молодец, глупенькая моя девочка, что не заговорила с ним.
Несколько по-другому, но тот же взгляд на мистера Димсдейла выразила женщина, чье сумасбродство или же безумие – такое слово нам кажется предпочтительнее – побудило ее на поступок, на который осмелился бы мало кто из прочих горожан, – в открытую заговорить с отмеченной алой буквой особой. Женщиной этой была матушка Хиббинс. Роскошно одетая, в платье из бархата, с пышными, тройными брыжами и вышитым корсажем, опираясь на трость с золотым набалдашником, она явилась посмотреть шествие. Поскольку престарелая дама была известна (а за известность эту ей впоследствии пришлось заплатить жизнью) важной ролью, которую она играла во всех существовавших в то время колдовских обрядах, толпа расступалась перед ней, как будто боясь даже коснуться ее платья, словно глубокие складки его могли таить в себе яд. Увидев ее рядом с Эстер Принн – к которой, правда, многие успели проникнуться добрыми чувствами, – люди испытали двойной ужас, заставивший толпу отхлынуть с того конца площади, где происходила беседа двух женщин.
– Нет, какой смертный мог бы это себе представить! – доверительно шепнула старуха. – Человек такого благочестия! Люди говорят, что святее его во всем свете не найти, – и должна признать, таким он и выглядит. И кто, глядя сейчас, как он шагает в процессии, мог бы подумать, что совсем недавно, выйдя из своего кабинета и, надо думать, все еще твердя про себя древнееврейские строки Священного Писания, он отправился погулять в лес! Ха! Уж нам-то с тобой, Эстер Принн, хорошо известно, что это значит! Но, право, трудно признать, что это один и тот же человек! Много достославных членов церкви, что идут сейчас вослед музыкантам, видала я в наших хороводах кружащимися под скрипку Сами Знаете Кого. Кто только не кружился там, рядом с нами – и индейский шаман, и колдун из Лапландии. Для женщины, которая знает жизнь, тут нет ничего удивительного. Но чтобы священник… Ты совершенно уверена, что именно этого человека встретила на лесной тропинке?
– Не пойму, о чем вы говорите, мадам, – отвечала Эстер Принн. Зная, что матушка Хиббинс слегка тронулась умом, она все-таки была напугана и странным образом смущена той уверенностью, с которой та открыто утверждала о связи столь многих людей (и ее самой в том числе) с врагом рода человеческого. – Негоже мне болтать что ни попадя о столь ученом и набожном проповеднике слова Божьего, как мистер Димсдейл!
– Фу, женщина, стыд да и только! – воскликнула старая дама, грозя пальцем Эстер. – Уж не воображаешь ли ты, что я, для кого лес как дом родной, не умею распознать, кто еще туда наведывается? Умею, и очень хорошо, даже если в волосах у них не застрянет ни листика из венков, в которых они там пляшут? Тебя-то я знаю, Эстер, потому что вижу знак, который ты носишь. Знак твой сверкает на солнце в дневную пору и горит огнем в темноте. Ты носишь его в открытую, так что с тобой все ясно. Но чтобы священник… Дай-ка я шепну тебе кое-что на ушко. Когда Черный Человек видит, что один из слуг его, поставивший подпись на договоре, подпись, скрепленную печатью, стесняется признаться в этом, он находит способ сделать так, чтобы весь мир увидел эту печать! Что этот священник все за грудь хватается, а, Эстер? Что это значит?
– Что, добрая миссис Хиббинс? – с нетерпеливым любопытством спросила маленькая Перл. – Ты сама видела, что там прячется?
– Не важно, дорогая моя, – серьезно отвечала ребенку матушка Хиббинс. – Будет время, ты увидишь это собственными глазами. Рано или поздно, но увидишь. Ты ведь, кажется, в родстве с князем воздуха, дитя? Может, поскачем с тобой как-нибудь разок, когда стемнеет, чтобы ты папашу своего там встретила? Там и узнаешь, почему священник все за грудь хватается!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































