Текст книги "Алая буква (сборник)"
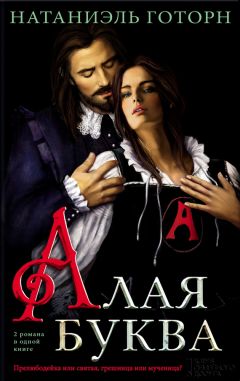
Автор книги: Натаниель Готорн
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
5
Эстер и ее игла
Срок заключения Эстер Принн подошел к концу. Дверь ее темницы рывком распахнулась, и она вышла под лучи солнца, которое светило на всех одинаково, но ее измученному страданиями сердцу казалось, что нет у солнца иной задачи, кроме как высветить алую букву у нее на груди. Пытка первых ее шагов, без сопровождения, за дверь тюрьмы, была едва ли не сильнее даже описанных мучений процессии и спектакля с ней в роли общего позора, на который все человечество призвано было показывать пальцем. Тогда ее поддерживало неестественное нервное напряжение и полная сила ее боевитого характера, который позволил ей превратить ту сцену в подобие жуткого триумфа. Более того, то было отдельное и ограниченное событие, единственное в жизни, и, чтобы встретить его, пришлось забыть о бережливости и призвать на помощь жизненные силы, которых в ином случае хватило бы ей на много спокойных лет. Сам закон, приговоривший ее, – гигант со знакомым лицом, но с силой поддержать, равно как и уничтожить своей железной рукой, – поддерживал ее в том ужасном позорном испытании. Но сейчас, без надсмотрщиков покидая тюрьму, она шагала в повседневность, и ей нужно было либо собраться с остатками отведенных ей сил, либо сломаться под бременем. Она больше не могла брать силы из будущего, чтобы справиться с нынешними бедами. День завтрашний нес в себе новые испытания, и тем же грозили следующий день, и последующий, каждый нес в себе новые злоключения, очень похожие на то, что сейчас казалось ей невыносимым. Дни далекого будущего ждали ее, и все ту же ношу ей предстояло нести без надежды избавиться, а дни будут копиться и складываться в годы, внося свою лепту в ту гору позора, что рухнула на ее плечи. И каждый день самим своим существованием она будет служить общим символом, на который могут указать священник и моралист и который они могут вложить и приукрасить свои представления о женской слабости и грешной страсти. А потому молодых и чистых будут учить глядеть на нее, на алую букву, пламенеющую у нее на груди, – на нее, дочь достойных родителей, на нее, мать ребенка, который со временем превратится в женщину, на нее, что когда-то была невинна, – как на образ, тело, реальность самого греха. И над ее могилой позор, который она должна пронести всю жизнь, станет единственным ее надгробием.
Поразительным казалось то, что весь мир лежал перед ней. Осужденная лишь в пределах пуританского поселения, такого отдаленного и ограниченного, без запрета покидать пределы общины, она была вправе вернуться в родные места или уехать в любую другую часть Европы, скрыть там свою личность и прошлое, начав новую жизнь, буквально перейдя в иное состояние бытия. При том что перед ней открыты все пути темного таинственного леса, где ее дикая природа могла бы найти себе место среди людей, чьи привычки и жизнь чужды осудившему ее закону, воистину поражало то, что эта женщина все равно считала то место своим домом, веря, что там и только там она должна служить живым примером позора. Но в ней была обреченность, чувство настолько непреодолимое и неизбежное, что оно способно обрести силу судьбы, почти неизменно оставляющей человека прикованным к точке, в которой значимое и выдающееся событие придало новый цвет его жизни, и чем темнее оттенок, тем сильнее привязанность и печальнее эта картина. Ее грех и ее позор стали корнями, которые она пустила в эту землю. То было словно новое рождение, со связями более сильными, чем прежде, превратившими этот лесной край, столь чуждый прочим пилигримам и путешественникам, в дикий и мрачный, но вечный отныне дом для Эстер Принн. Все иные места земли – даже тот поселок в далекой Англии, где прошли ее счастливое детство и непорочная юность, оставшись в материнской памяти, как детские одежды, давно отложенные в сундук, казались ей чужими. Цепь, что приковала ее к этому месту, была железной, и, как бы ни язвили ее душу холодные звенья, она не могла разорвать их.
Возможно также – точнее, несомненно, хотя она держала это втайне от самой себя и бледнела всякий раз, когда секрет поднимал голову в ее сердце, как змея, выглядывающая из норы, – что иное чувство удерживало ее в пределах и на пути, что стали для нее столь фатальны. Здесь бродили и ступали ноги того, с кем она считала себя объединенной союзом, который, будучи не признан на земле, объединит их во время последнего суда, станет их венчальным алтарем и объединит их будущее в бесконечном искуплении. Снова и снова искуситель душ подбрасывал эти мысли в сознание Эстер и хохотал над отчаянной радостью, с которой она их принимала, лишь для того, чтобы заставлять себя их отбросить. Она едва взглянула в лицо этой идее и захлопнула перед ней тюремную решетку. То, в чем она себя убедила (что решила считать своим мотивом постоянного проживания в Новой Англии), наполовину было правдой, на вторую же половину – самообманом. Здесь, говорила она себе, было место ее прегрешения, и оно же должно служить местом ее земного наказания, а потому, возможно, пытки ежедневным позором со временем очистят ее душу, породив новую чистоту взамен той, что она потеряла: чистоту более праведную, поскольку та станет результатом мученичества.
Вот почему Эстер Принн не сбежала. На окраине городка, в границах полуострова, но в отдалении от всех других обиталищ, стоял маленький коттедж, крытый тростником. Он был построен предыдущим поселенцем, затем заброшен, поскольку почва вокруг была слишком скудна для земледелия, а относительная удаленность оставляла его вне сферы общественной активности, к которой уже тогда тяготели эмигранты. Коттедж стоял на берегу, с видом на залив и покрытые лесом холмы на другой его стороне, к западу. Несколько низкорослых деревьев, которые росли только на полуострове, не слишком скрывали коттедж, а наоборот, подчеркивали, что здесь пребывает некий объект, стремящийся или, по крайней мере, желающий быть сокрытым. В этом крошечном одиноком жилище, с небольшими своими сбережениями и по разрешению магистрата, все еще пристально присматривающего за ней, Эстер Принн и осталась жить со своим ребенком. Загадочная тень подозрений сразу же окутала это место. Дети, слишком юные, чтобы осознать, почему эту женщину следовало лишить человеческого милосердия, подбирались достаточно близко, чтобы различить ее за вышивкой у окна коттеджа, или в дверях, или возделывающей свой маленький сад, или шагающей по тропинке, ведущей в город, и бросались врассыпную, заметив алую букву на ее груди, подгоняемые странным и заразным страхом.
При всем одиночестве, в котором она оказалась без единого друга, осмелившегося бы ее посетить, Эстер, однако, не подвергалась нужде. Она владела искусством, которое даже в землях, оставлявших для него предельно малое место, позволяло ей заработать на хлеб себе и своему подрастающему ребенку. То было искусство, тогда, как и ныне, принадлежащее только женскому роду, – вышивка. Она носила на груди, в фантазийно расшитой букве образчик своего тонкого и изобретательного мастерства, которым придворные дамы с удовольствием бы украсили и себя, чтобы добавить глубоко одухотворенное украшение, созданное человеческой искусностью, к платьям из золота и шелка. Здесь же, в траурной простоте, которая в целом характеризовала всю пуританскую моду в одежде, на лучшие творения ее рук спрос мог быть крайне нерегулярен. И все же вкус той эпохи, требовавший вычурности в композициях подобного рода, распространил свое влияние и на наших упрямых прародителей, отказавшихся от такого количества роскоши, что с остатками распрощаться уже не могли.
Публичные церемонии, такие как посвящение в сан, введение на должность в магистрате, – все, что могло придать величие форме, в которой новое правление представляло себя людям, традиционно отмечалось торжественным церемониалом и мрачной, но преднамеренной пышностью. Широкие брыжи, болезненно тугие завязки, великолепно вышитые перчатки были предписанной необходимостью для облеченных официальной должностью и принявших бразды правления, что вполне позволяло людям гордиться рангом или богатством в то самое время, когда законы против роскоши запрещали подобную экстравагантность плебейскому сословию. В порядке похорон тоже – шла ли речь об украшении покойного или о множестве символических изобретений в виде траурных одеяний и батистовых рукавов, подчеркивавших печаль выживших – бывал довольно частый и характерный спрос на труд того рода, что могла предложить Эстер Принн. Детские пеленки – для детей, которым затем требовалась согласно эпохе и детская одежда, – также давали возможность труда и заработка.
Постепенно, мало-помалу, ее рукоделие стало тем, что ныне назвали бы модой. От сочувствия ли женщине подобной злосчастной судьбы, или же от нездорового любопытства, что придает фальшивую ценность даже обычным и бесполезным вещам, или по любому другому неосязаемому поводу, тогда, как и сейчас, достаточному для того, чтобы даровать кому-то то, чего иные напрасно ищут; или потому, что Эстер действительно восполнила пробел, остававшийся пустым, но у нее было ровно столько заказов, на столько часов, сколько она готова была посвятить вышиванию. Тщеславие, возможно, решило смирить само себя, надевая для напыщенных церемоний платья, украшенные искусством ее грешных рук. Ее рукоделие видели на брыжах губернатора, военные носили его на шарфах, священник на поясе, вышивка украшала детские чепчики, ее закрывали в гробах, чтобы предать тлению и распаду вместе с покойными. Но ни разу не было замечено, чтобы ее искусство было призвано для украшения белой вуали, что прикрывает чистый румянец невесты. Это исключение означало, что не стихала решительность, с которой общество осуждало ее грех.
Эстер не искала способов достичь чего-то помимо поддержания самой простой и аскетичной жизни для себя и простого достатка для своего ребенка. Ее собственное платье было сшито из самых грубых тканей самых печальных оттенков, с единственным украшением – алой буквой, которое ей суждено было не снимать. Детская же одежда, напротив, отличалась затейливостью или же, можно сказать точнее, фантастической оригинальностью, наверняка подчеркивающей очарование, которое рано начало проявляться в маленькой девочке, но при этом имевшей и более глубокое значение. О нем мы будем говорить немного позже. Помимо небольших расходов на украшение своего ребенка Эстер вкладывала все дополнительные средства в благотворительность, помогая грешникам, положение которых было еще хуже, чем у нее, и которые нередко кусали кормившую их руку. Немало времени, которое она могла с удовольствием посвятить лучшим образцам своего искусства, она тратила на пошив грубых одеяний для бедняков. Возможно, в том заключалась идея епитимии, и, посвящая себя на долгие часы такой грубой работе, она жертвовала возможностью провести их себе на радость. Ее природе были присущи богатство и страстность восточных черт – и вкус к прекрасному, который, помимо изысканных ее творений, не имел в ее жизни ни одной возможности проявиться. Женщины получают удовольствие, которое мужчинам не понять, от деликатной работы тонкой иглы. Для Эстер Принн это могло быть способом выразить и тем самым слегка утишить ее страстное желание жизни. Но, как и во всех остальных радостях, она отказывалась от искусства, считая его грехом. Подобное болезненное вмешательство совести в столь тонкие материи свидетельствовало, к сожалению, не об искреннем и стойком раскаянии, а о чем-то сомнительном, о чем-то крайне искаженном в самой основе своей.
И все же в этом Эстер Принн добилась своего места в мире. При ее врожденной силе характера и редких способностях ее нельзя было полностью отсечь от общества, однако мир поставил на ней метку, для женского сердца куда более невыносимую, чем печать Каина на челе. Во всех ее взаимодействиях с обществом, однако, ничто не могло даровать ей чувства собственной независимости. Каждый жест, каждое слово, даже молчание тех, с кем ей приходилось общаться, намекали, а зачастую и открыто объявляли, что она изгнана, что столь же одинока, как обитательница иного мира, или же воспринимающая общую природу иными органами и чувствами, нежели остальное человечество. Она стояла в стороне от общественных интересов, как призрак, что приходит к знакомому камину, но никак не может проявить свое появление: ни улыбнуться домашним радостям, ни грустить о жизненных горестях, ведь стоит призраку выразить вдруг свою запретную симпатию, и она вызовет лишь ужас и жуткое отвращение. Эти эмоции, равно как и горькое презрение, остались, похоже, единственным уделом Эстер в этом мире.
То был суровый век, и ее положение, которое она слишком хорошо сознавала и не могла даже надеяться позабыть, зачастую ей приходилось ощущать слишком живо, и всякий раз мука была словно внове, как грубейшее прикосновение к самому нежному месту. Бедняки, как мы уже говорили, которых она пыталась облагодетельствовать, часто отказывались принимать протянутую ею руку помощи. Дамы ее сословия, в чьи двери она входила по пути к месту своего обитания, привыкли цедить капли горечи в ее сердце; порой посредством той алхимии тихой злобы, что женщины используют для вытяжки яда из ничтожных безделиц; а иногда и более грубыми выражениями, что проходились по сердцу беззащитной страдалицы как грубый удар по изъязвленной ране. Эстер закаляла себя долго и небезуспешно, она никогда не отвечала на подобные нападки иначе, чем румянцем, неудержимо поднимавшимся по ее бледным щекам и опускавшимся в глубины корсажа. Она была терпеливой – воистину мученицей, но не решалась молиться за своих врагов, по крайней мере пока, несмотря на попытки их простить, вымученные слова не перестанут упрямо превращаться в проклятия.
Постоянно тысячами всевозможных способов настигали ее уколы страданий, к которым приговорил ее хитроумный приговор пуританского трибунала, не знающий устали. Священники останавливались на улицах, чтобы обратиться со словами наставления, это собирало толпу, которая улыбалась и хмурилась вокруг несчастной грешницы. Если она входила в церковь, в надежде разделить воскресную улыбку Творца, зачастую она обнаруживала себя в тексте проповеди. В ней начал расти страх перед детьми, поскольку те подхватили у родителей смутную идею о том, что нечто ужасное сокрыто в этой безрадостной женщине, которая молча бродит по городу в одиночестве или в компании единственного ребенка. А потому, поначалу позволяя ей пройти, они преследовали ее в отдалении с пронзительными криками и повторениями слова, которое ничем не откликалось в их умах, но оттого не менее ужасало ее, в особенности потому, что слетало с их губ бессознательно. Слово, символизирующее ее позор, похоже, разлетелось так широко, что стало известно всему живому; ей уже не стало бы больнее, если бы листья на деревьях шептались о ее темной истории, если бы летний бриз шелестел о ней, если бы метель вопила о том во всю мощь! Еще одной особой пыткой было ощущение того, что все на нее смотрят иначе. Незнакомцы с любопытством приглядывались к алой букве, все до единого – и тем обновляли клеймо на душе Эстер, а потому она с трудом могла удержаться и все же всегда воздерживалась от попыток закрыть рукой позорный знак. Но и привычные взгляды знакомых причиняли не меньше страданий. Холодный фамильярный взгляд невозможно было вынести. И от первых, и от последних Эстер Принн всегда испытывала ужасную агонию чувств, ощутив на себе чьи-то взгляды, и чувствительность ее не только не грубела, а наоборот, с каждым днем непрерывной пытки становилась все более глубокой.
Но иногда, порой раз в несколько дней, а чаще раз в несколько месяцев, она ощущала, что взгляд, человеческий взгляд, упирается в позорное клеймо и приносит ей мгновенное облегчение, словно беря на себя половину ее страданий. А в следующий миг боль возвращалась к ней с новой силой, поскольку в те краткие моменты она грешила снова. (Но разве грешила одна Эстер?)
Ее воображение тоже играло свою роль, и, будь ее мораль и интеллект сотканы из более мягкой ткани, роль эта была бы куда большей, в одиноком страдании ее жизни. Прогуливаясь туда и назад, в одиночестве, в маленьком мире, который был опечатан снаружи, Эстер то и дело думала – точнее, ей казалось, но мысль была слишком мощной, чтобы ей противостоять, – что алая буква наделила ее новым чувством. Она содрогалась от мысли, но не могла не верить в то, что метка дала ей симпатическое знание о грехах, сокрытых в сердцах других. Она была в ужасе от озарений, посещавших ее. Что же это было? Чем это могло быть, кроме как коварными шепотками падшего ангела, который пытался убедить страдающую женщину, лишь наполовину ставшую его жертвой, в том, что внешний блеск чистоты – это ложь, а будь истина открыта повсюду, алые буквы сияли бы на корсажах столь многих помимо самой Эстер Принн? Или же те откровения – такие смутные и в то же время столь отчетливые – являлись правдой? Во всем ее горестном существовании не было ничего хуже и отвратительней этого чувства. Оно сбивало с толку и шокировало ее, выбирая самые неподходящие моменты для своего проявления. Иногда алый символ позора на ее груди начинал симпатически пульсировать, когда она проходила мимо почтенного священника или чиновника, олицетворений чистоты и справедливости, на которых обычные люди глядели как на образец, как смертные могут смотреть на ангела. «Что за грешник шагает мимо?» – думала тогда Эстер. И, неторопливо подняв глаза, понимала, что рядом нет ни единой живой души, кроме упомянутого праведника! И вновь загадочное сродство напоминало о себе, когда она встречалась с высокомерным презрительным взглядом почтенной матроны, которая, судя по слухам, всю жизнь отличалась белоснежной репутацией. Так что же могло быть общего у этого нетронутого снега и пылающего стыда Эстер Принн? О, и снова электрический ток предупреждал ее: «Смотри, Эстер, вот такая же грешница!», а подняв глаза, она замечала, как юная девушка искоса бросает застенчивый взгляд на алую букву и тут же отворачивается, покраснев, словно мимолетное зрелище могло запятнать ее чистоту. О Враг рода людского, чьим талисманом был тот фатальный символ, неужто ты готов был лишить любого, и юного, и почтенного, благоговения в душе этой грешницы? Такая утрата веры бывает самым печальным результатом греха. Но в доказательство того, что бедная жертва не была испорчена ничем, кроме собственной хрупкости и суровых людских законов, стоит сказать, что Эстер Принн все же старалась верить, что ни один смертный не был столь виновен, сколь она сама.
Мещане, которые в те мрачные старые времена всегда приписывали гротескные ужасы всему, что интересовало их воображение, рассказывали историю об алой букве, которую мы могли вполне превратить в ужасающую легенду. Они утверждали, что символ состоит не просто из алой ткани, окрашенной в земной красильне. Он покраснел от адского пламени, и отсвет геенны все еще светился, когда Эстер Принн куда-то выходила по ночам. И стоит признать, что позорная метка так жгла грудь Эстер, что, возможно, в этом слухе было больше правды, чем способны признать наши скептично настроенные современники.
6
Перл
Мы до сих пор почти не говорили о ребенке, о маленьком создании, чья невинная жизнь распустилась, по непостижимому капризу Провидения, прелестным бессмертным цветком над пышными ветвями грешной страсти. Как странно было той печальной женщине наблюдать, как по мере роста красота с каждым днем становится все ярче, а острый ум осеняет изнутри нежные черты ее ребенка! Ее Перл – именно жемчужиной назвала ее Эстер, но не потому, что это имя отражало ее красоту, ничуть не схожую со спокойным белым и бесстрастным перламутром, подобранным для сравнения. Нет, она назвала младенца Перл, как бесценное свое сокровище, за которое она отдала все, что имела, – единственное сокровище матери! Как странно воистину! Люди отметили грех этой женщины алой буквой, обладавшей такой сильной и катастрофической действенностью, что никакая человеческая милость, помимо столь же грешной, не могла бы ее достичь. Господь, как прямое последствие греха, за который люди карали так жестоко, подарил ей прелестное дитя, чье место было у той же обесчещенной груди, чтобы навсегда связать родительницу с грядущими поколениями смертных и в итоге стать благословенной душой на Небесах! Но эти мысли вселяли в Эстер Принн не столько надежду, сколько тревогу. Она знала, что содеянное было злом, и, следовательно, не могла позволить себе верить в хороший исход. День за днем она с опаской вглядывалась в растущее дитя, с ужасом ожидая найти какую-то дикую и темную деталь, которая перекликалась бы с виной, которую она заслужила своим проступком.
Но физических дефектов в девочке не было. Идеальностью форм, бодростью, естественной сноровкой, с которой дитя пользовалось непослушными еще ручками и ножками, оно вполне подходило бы райскому саду и было достойно остаться там играть с ангелами после того, как первые в мире родители были изгнаны. Дитя обладало врожденным изяществом, которое отнюдь не всегда идет об руку с безупречной красотой: любое платьице, каким бы простым оно ни было, в глазах смотрящего тут же становилось лучшим. Но маленькая Перл не носила обносков. Ее мать, с болезненным упорством, причина которого станет ясна позже, покупала самые дорогие ткани, какие могла достать, и позволяла своему воображению разыграться в полную силу при покрое и украшении платьев, которые ребенок впоследствии носил на глазах публики. Так волшебна была маленькая фигурка в своих нарядах, так роскошна была сама красота Перл, сияющая в драгоценном обрамлении, способном затмить более бледную привлекательность, что на темном полу коттеджа вокруг нее словно образовывался светящийся круг. И все же в домотканой одежде, порванной и измазанной во время детских игр, она бы выглядела не менее идеально. Внешность Перл была проникнута волшебством бесконечного разнообразия; словно в этом одном ребенке проявлялось множество иных, со всем разнообразием возможностей: от красоты дикого цветка, присущей крестьянским детям, до миниатюрной напыщенности принцессы крови. Но все эти образы пронизывала, однако, нить страсти, определенная глубина оттенков, которой она никогда не теряла, и, если бы что-то в ней изменилось, стань она чуть бледнее или тоньше, она бы перестала быть собой – это была бы больше не Перл!
Подобная внешняя изменчивость означала и выражала многообразие ее внутренней жизни. Ее природе, при всем разнообразии, была свойственна и глубина, но – если опасения Эстер не обманывали ее – ей не хватало наставника и приспособленности к миру, в котором она была рождена. Это дитя не удавалось подчинить никаким правилам. Само ее появление на свет было нарушением великого закона, а результат, чьи составляющие качества были, возможно, прекрасны и удивительны, но перепутаны или же сложены в особом порядке, который, учитывая разнообразие сочетаний, было сложно, а то и невозможно распознать.
Эстер могла объяснять этот детский характер – но объяснение даже тогда казалось расплывчатым и неполным – воспоминаниями о том, какой она сама была в тот судьбоносный период, когда душа Перл проникала в нее из мира духовного, а телесная форма сплеталась из материалов земных. Бурная страсть, овладевшая матерью, стала проводником, что передал еще нерожденному младенцу лучи добродетельной жизни; и, какими бы белыми и чистыми ни были они изначально, они впитали в себя жирные мазки алого и золотого, блеск пламени и черноту тени, и ничем не смягченный свет между ними. А помимо всего этого, Перл передалось и мятежное состояние духа ее матери. Эстер узнавала в ней свой дикий, отчаянный, дерзкий нрав, взбалмошность натуры и даже некоторые мрачные облачка уныния и отчаяния, что омрачали ее сердце. Пока что их тень смягчала утренняя радость детского нрава, но позже, в земной ее жизни, они могли породить шторма и ураганы.
Воспитание в семьях в те дни было куда суровее нынешнего. Хмурые лица, резкие упреки, частое применение розог в сочетании с авторитетностью Писания использовались не только в виде наказания за настоящие проступки, но и как полноценная система взращивания и укрепления всех детских добродетелей. Эстер Принн, несмотря на это любящая мать единственного ребенка, ничуть не рисковала переходом на сторону чрезмерной суровости. Памятуя, однако, о собственных ошибках и несчастьях, она рано пыталась установить нежный, но твердый контроль над бессмертной душой ребенка, посвященного ее опеке. Но задача оказалась ей не по силам. Испробовав поочередно улыбки и суровые взгляды и убедившись, что ни один из способов воспитания не дает ни малейшего эффекта, Эстер была вынуждена отступить и позволить ребенку действовать согласно порывам своей души. Физическое принуждение и удержание были эффективны до поры до времени. Что до иных способов воспитания, маленькая Перл могла поддаваться или не поддаваться им, в зависимости от сиюминутного каприза. Ее мать, пока Перл была еще маленькой, научилась распознавать определенный особый взгляд, предупреждающий, что просить, увещевать и настаивать будет абсолютно бесполезно.
То был взгляд настолько разумный, но при этом необъяснимый, капризный, иногда даже злой, но всегда сопровождавшийся диким порывом духа, что Эстер не могла не задумываться в эти моменты, действительно ли Перл – дитя человеческое. Она казалась похожей на духа воздуха, который, поиграв немного на полу коттеджа, с издевательской усмешкой упорхнет в окно. Когда бы знакомое выражение ни появилось в ее диких, ярких, глубоких темных глазах, оно привносило с собой странную отстраненность и неосязаемость; так, словно девочка парила в воздухе и могла исчезнуть, как блуждающий огонек, появление и пропажу которого предсказать невозможно. Замечая подобное, Эстер неслась к девочке – чтобы поймать маленького эльфа, постоянно бросающегося наутек, крепко прижать к груди и осыпать горячими поцелуями, – не столько от переполняющей ее любви, сколько чтобы убедиться: Перл состоит из плоти и крови, а не привиделась ей. Но пойманная Перл всегда смеялась, и смех ее был полон такого счастья и музыки, что сомнения охватывали мать с новой силой.
Порой сердце ее разбивалось об это смущающее и сбивающее с толку заклятие, столь часто стоящее между ней и ее единственным сокровищем, которым она неистово дорожила, которое заменило ей весь мир, и Эстер не могла сдержать отчаянных слез. Тогда, возможно, – поскольку нельзя было предугадать мимолетных ее впечатлений, – Перл хмурилась, сжимала крохотный кулачок, и личико ее обретало суровый вид полной отстраненности. Но нередко она снова смеялась, громче, чем раньше, как существо, не ведающее людской печали и неспособное на нее. Или – но это происходило куда реже – она содрогалась от ярости и горя и плакала, выражая свою любовь к матери путаными словами, и словно доказывала, что у нее есть сердце, которое также умеет рваться. Но все же Эстер едва ли могла довериться этой порывистой нежности: та исчезала столь же быстро, как и появлялась. Размышляя обо всем этом, мать чувствовала себя так, словно призвала духа, но по ошибке в этот момент не обрела хозяйского права над этим новым и непостижимым созданием. Единственными часами спокойствия были для нее те, когда дитя погружалось в сон. Тогда Эстер была уверена в ней и наслаждалась тихим, печальным, редким счастьем, до тех пор – возможно, то странное выражение сияло в те моменты под открывающимися веками – пока маленькая Перл не просыпалась.
Как скоро, с какой странной поспешностью маленькая Перл достигнет возраста, когда окажется способна на общение с чем-то помимо материнской улыбки, всегда для нее готовой, и бесполезных слов! Какое было бы счастье для Эстер Принн услышать ее чистый птичий голосок из гомона других детских криков, различать и узнавать интонации дочери в шумной детской игре. Но подобного никогда не будет. Перл была рождена парией детского мира. Злобный чертенок, эмблема и плод греха, она не имела права находиться среди крещеных детей. Ничто не могло поразить сильнее инстинкта, с которым, похоже, это дитя осознало собственное одиночество: судьба заключила ее в нерушимый круг ее особенного положения среди иных детей. Никогда, со времени выхода из тюрьмы, Эстер не появлялась на людях без дочери. В ее прогулках по городу Перл всегда была рядом: вначале младенцем на руках, затем маленькой девочкой, компаньонкой матери, обхватившей материнский палец крошечным кулачком и совершающей три-четыре шажка на один шаг Эстер. Она видела детей поселенцев на травянистых лужайках улиц или же на порогах домов, развлекающихся так, как позволяла им мрачная природа пуритан. Они играли в походы в церковь или в сожжение квакеров, а иногда снимали скальпы в игрушечной битве с индейцами или пугали друг друга, дурачась и изображая колдовство. Перл смотрела и внимательно наблюдала, но никогда не пыталась присоединиться к игре. Если с ней заговаривали, она не отвечала. Если дети собирались вокруг нее, как бывало порой, Перл становилась поистине ужасна в своем крошечном гневе. Она бросала в них камни и выкрикивала бессвязные слова, заставляя дрожать свою мать, поскольку слишком уж были похожи те звуки на колдовские проклятия на неизвестном никому языке.
Стоит отметить, что маленькие пуритане, будучи самым нетерпимым из живущих на свете племен, имели слишком смутное представление о чем-то чуждом, неземном, отличном от принятого, но чуяли это от матери и ребенка, а оттого презирали их и нередко громко выражали презрение. Перл чувствовала их отношение и отвечала на него самой горькой ненавистью, которую было способно породить ее детское сердце. Подобные проявления неистового характера мать девочки крайне ценила и даже находила их успокаивающими, поскольку, по крайней мере, в них была искренность и осмысленность вместо порывистого каприза, часто приводившего ее в замешательство. И все же это ее пугало, поскольку она вновь видела и узнавала туманное отражение зла, которое жило в ней самой. Вся эта страстность и ненависть, которую унаследовала Перл по праву своего происхождения, брала истоки в сердце Эстер. Мать и дочь вместе стояли в замкнутом круге, отрезавшем их от людского общества, и в природе ребенка, похоже, были те же неспокойные элементы, которыми отличалась Эстер Принн до рождения Перл и которые с тех пор слегка сгладились мягким влиянием материнства.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































