Текст книги "Алая буква (сборник)"
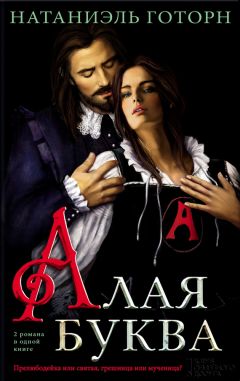
Автор книги: Натаниель Готорн
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
11
Сокрытое в сердце
После описанного нами инцидента общение лекаря и священника, внешне оставшееся прежним, приобрело совершенно иной характер. Интеллект Роджера Чиллингворса уже составил себе достойный план действий. Нет, план был вовсе не тот, который он намечал изначально. Спокойный, мягкий, бесстрастный с виду, он обладал, к сожалению, тихими глубинами злобы, доныне дремавшими, но проснувшимися в несчастном старике, заставив его представлять себе месть более тонкую, чем удостаивал врагов любой из живущих смертных. Он решил сделаться доверенным другом, которому должно поверять все страхи, все сожаления, всю боль и тщетное раскаяние, кому тщетно изливается весь поток борьбы с грешными мыслями! Вся вина и печаль, скрытые от мира, чье широкое сердце могло бы посочувствовать и простить, будут изливаться ему, Безжалостному, ему, Непрощающему! Все темные сокровища будут растрачены на того самого человека, для которого ничто иное не могло бы выплатить долг мести!
Однако застенчивая и чувствительная сдержанность священника не позволяла этому плану Роджера Чиллингворса воплотиться в полной мере, а потому он был более чем удовлетворен той стороной своих дел, которые Провидение – используя мстителя и его жертву для собственных целей и, возможно, прощая в том, что более всего требовало наказания, – открыло ему, смешав его планы. Он почти мог сказать, что ему было дано откровение. И для него не имело значения, небесной ли было оно природы или пришло из иной религии. С его помощью во всех последующих отношениях между ним и мистером Диммсдэйлом не только внешняя сторона, но и сама сокровенная душа последнего словно встала перед глазами лекаря, и он мог видеть и воспринимать каждое ее движение. С того момента он стал не просто зрителем, но главным действующим лицом во внутреннем мире несчастного священника. Он мог играть им по собственному усмотрению. Желал ли он вызывать в своей жертве агонию? Жертва отныне всегда была вздернута на его дыбе, и достаточно было лишь знать, какой источник приводит механизм в действие, а лекарь отлично это знал. Желал ли заставить священника замереть от внезапного страха? Как по мановению волшебной палочки поднимался мрачный призрак: поднимались тысячи призраков, всевозможных форм смерти или куда более страшного позора – и вились вокруг преподобного, указывая пальцами на его грудь!
Все это было достигнуто с такой идеальной тонкостью, что священник, постоянно смутно осознавая, что находится под внимательным взором некоего злого влияния, так и не мог познать истинную его природу. В действительности он взирал с сомнением и страхом – даже порой с ужасом, смешанным с горькой ненавистью, – на деформированную фигуру старого лекаря. Его жесты, его походка, его седеющая борода, его самые простые и нейтральные действия, сам фасон его платья были священнику омерзительны; что было косвенно связано с куда более глубокой антипатией, в которой, впрочем, преподобный отказывался себе признаваться. Поскольку невозможно было найти обоснования подобному недоверию и отвращению, мистер Диммсдэйл, сознавая, что яд некоей жуткой точки заразил саму суть его сердца, старался приписывать свою предвзятость иной причине. И назначил себе епитимью за плохое отношение к Роджеру Чиллингворсу, отказавшись от урока, который должен был бы извлечь из своих чувств. Он постарался эти чувства искоренить. Не в силах этого сделать, он все же из чистого принципа продолжал знакомство и общение со стариком, тем самым предоставляя ему постоянную возможность упражняться в задаче, которой – отчаявшийся и куда более порочный, чем его жертва, – мститель посвятил всего себя.
В те времена страдающий от болезни телесной и пребывающий под пыткой темной боли в душе, отданный на милость махинаций смертного своего врага, преподобный мистер Диммсдэйл заслужил огромную популярность в своей святой общине. Большей частью благодаря своим страданиям. Его интеллектуальная одаренность, его моральные принципы, сила переживаний и выражения эмоций приобрели неестественную остроту по причине страданий в его повседневной жизни. Его слава, все еще растущая, уже затенила куда более умеренные репутации его собратьев в служении, какими бы выдающимися ни были некоторые из них. Среди его собратьев были ученые богословы, которые провели в постижении знаний, связанных с этой благой профессией, больше лет, чем мистер Диммсдэйл прожил на свете, и могли, следовательно, иметь куда более основательные и ценные свойства, нежели их младший брат. Были и обладавшие более прочной структурой сознания, наделенные куда большей проницательностью, железным или даже гранитным пониманием правильности, которое, смешанное с доброй долей заученных доктрин, порождает самых респектабельных, энергичных и нелюбезных представителей клерикального сообщества. Были и третьи, поистине святые отца, чьи качества тщательно шлифовались утомительным тяжелым трудом над книгами и в терпеливых размышлениях и приобретали божественность благодаря духовным связям с лучшим миром, в который праведная жизнь почти что вписывала этих святых персонажей, пока еще отягченных смертной своей оболочкой. Им не хватало лишь одного: дара, что снисходил в языках пламени на избранных наследников в день Пятидесятницы[10]10
Деяния 2:1–4.
[Закрыть], символизирующего, похоже, не силу говорить на иноземных и неизвестных языках, а обращаться к человеческому братству на языке самого сердца. Тем святым отцам, во всем ином достойным звания апостолов, не хватало последней и самой редкой аттестации для получения места Небесного, не хватало языка пламени. Они бы тщетно искали – если бы удосужились искать – возможности выразить высшие истины посредством слабого проводника знакомых образов и слов. Их голоса из горних сфер, где они имели обыкновение пребывать, доносились слабо и неразличимо.
Вполне возможно, что именно к этому последнему типу людей по многим чертам своего характера принадлежал и мистер Диммсдэйл. Горние пики веры и святости манили его к себе, и он бы взбирался к ним, если бы не был отягощен бременем неизвестного преступления или страдания, от которого ему не суждено было избавиться. Груз удерживал его на одном уровне с самыми худшими, его, человека поистине небесных качеств, чьему голосу могли бы внимать и отвечать ангелы! Но то же бремя дарило ему столь глубокие симпатии грешного племени человеческого; ведь его сердце дрожало в унисон с их сердцами, принимало в себя их боль и посылало волны своей боли сквозь тысячи иных сердец, в порывах печального и убедительного красноречия. Чаще убедительного, но иногда пугающего! Люди не знали силы, которая могла бы так на них влиять. Они приписывали молодому священнику чудо святости. Они восхищались его красноречием, полным небесной мудрости, упреков и любви. В их глазах сама земля, по которой он ходил, очищалась от порока. Непорочные девы его церкви бледнели перед ним, становясь жертвами страсти, столь пронизанной религиозным пылом, что начинали считать ее по сути своей религиозной и открыто несли ее в своих чистых сердцах к алтарю как достойнейшую из жертв. Престарелые члены его паствы, наблюдая хрупкость здоровья мистера Диммсдэйла, при всей своей старости и немощах, считали, что он опередит их на пути в Небеса, и возлагали на детей задачу похоронить их старые кости поближе к святой могиле юного пастора – в то самое время, когда, возможно, мистер Диммсдэйл размышлял о своей могиле и задавался вопросом, вырастет ли на ней трава, выдав миру проклятие похороненного!
Невозможно представить себе, какой пыткой была для него восторженность толпы. Им двигала искренняя любовь к правде, и все иное он считал лишь тенями; ничто, лишенное божественной сути, что делает жизнь жизнью, не имело для него ни веса, ни ценности. Но чем же был он сам? Истинной сущностью – или самой смутной из всех теней? Он страстно желал подняться на свою кафедру и во всю силу своего голоса объявить людям, кто он такой. «Я, кого вы лицезреете в черных одеяниях священничества, я, что поднялся на священную кафедру и поднял бледное лицо к небу, приняв на себя ответственность говорить за вас перед Святым Престолом Божиим, я, чьей жизни вы приписываете святость самого Еноха, я, чьи шаги, как вам кажется, оставляют святой след на земле, чтобы пилигримы могли последовать за мной в обитель блаженства, я, что крестил ваших детей, я, выдыхавший последнюю молитву над вашими умирающими друзьями и слышавший их ускользающее “Аминь” из мира, в который они отошли, я, ваш пастор, которого вы так почитаете и кому верите, – я по сути своей осквернение и ложь!»
Не раз мистер Диммсдэйл поднимался на кафедру с целью не спускаться с нее, пока не произнесет подобных слов. Не раз он прочищал горло и делал долгий, глубокий, трепещущий вдох, который должен был вернуться в мир отягченный самым темным секретом его души. Не раз – да нет, куда больше сотни раз – он действительно говорил! Говорил! Но как? Он говорил своим слушателям, что он подлинная мерзость, худший из худших, самый ужасный из грешников, мерзость, сущность невообразимого беззакония и лишь благодаря чуду его гнусное тело еще не корчится перед их глазами в огне, ниспосланном яростью Всемогущего! Разве можно было бы выразиться яснее? Почему же люди не поднимались со своих скамей, повинуясь общему импульсу, и не сбрасывали его с кафедры, которую он осквернил? Но нет, они этого не делали. Они все слышали, но лишь восхищались им еще больше. И не догадывались, какая мрачная суть крылась в этих самоуничижительных словах. «Благочестивый юноша! – шептались они между собой. Святой на земле! Увы! Если он приписывает подобную грешность своей белоснежной душе, какой же жуткий спектакль являла бы ему твоя душа или моя!» Священник отлично знал – столь тонким и полным раскаяния лицемером он был! – в каком свете увидят его неясную исповедь. Он стремился обмануть себя, успокоить мятущуюся совесть фальшивым признанием вины, но лишь совершал очередной грех и осознавал свой стыд без мгновенного облегчения от подобного самообмана. Он говорил истинную правду и превращал ее в чистейшую ложь. И все же, согласно своей природе, он любил истину и презирал ложь в мере, которая свойственна лишь немногим. А, следовательно, больше всего остального он презирал самого себя.
Внутреннее беспокойство толкнуло его к практикам, больше соответствовавшим старой, испорченной вере Рима, нежели чистому свету церкви, в которой он был рожден и воспитан. В тайном чулане, запертом на ключ, хранилась окровавленная плеть. И часто этот протестантский и пуританский богослов хлестал ею собственные плечи, горько смеясь над собой в процессе и наказывая себя еще безжалостней за свой горький смех. Он привык, так же как и многие иные благочестивые пуритане, поститься – однако, в отличие от них, не для того, чтобы очистить тело и стать лучшим проводником божественного света, – со всей строгостью, пока колени не начинали дрожать от слабости. Пост был для него актом покаяния. Он проводил бдения, ночь за ночью, иногда в полной темноте, иногда при слабом свете ламы, а порой вглядываясь в собственное лицо в зеркале при самом ярком свете, который мог на себя навести. И подобным образом он постоянно проводил самонаблюдения, которыми мучился, но не мог очистить себя. В длительных бдениях разум его зачастую работал быстрее и видения словно летели перед ним, некоторые неразборчиво, слабо светясь собственным светом в дальнем сумраке комнаты, некоторые более ясно и совсем рядом с ним, в зеркале. Вот являлась толпа дьявольских форм, которые ухмылялись и насмехались над бледным священником, маня его за собой; вот группа сияющих ангелов, тяжело, словно под бременем печали, взлетавших вверх, но становившихся все более эфемерными в отдалении. Затем являлись почившие друзья его юности и его седобородый отец, который хмурился, как святой, и мать, которая отворачивалась, проходя мимо Призраком матери – эфемерной фантазией о матери, – и все же, мне кажется, она могла бы бросить полный сожаления взгляд на своего сына! А вот по комнате, которую призрачные мысли делали еще мрачнее, скользила Эстер Принн с маленькой Перл в алом платьице и указывала пальцем вначале на алую букву на своей груди, а затем на грудь самого священника.
Ни одному из этих видений не удавалось полностью его обмануть. В любой момент усилием воли он мог увидеть материальное сквозь их туманную эфемерность и убедить себя, что они по природе своей не осязаемы, как вот тот стол из резного дуба или большой квадратный том откровений, в кожаном переплете с бронзовыми застежками. Но при всем этом они были, в определенном смысле, самыми искренними и материальными мыслями, приходившими к несчастному священнику. Невозможно описать словами страдания жизни, столь лживой, ведь она крадет всю силу и суть из окружающей нас реальности, что предназначена Небесами для питания и радости духа. Для лживого человека весь мир становится фальшивым – и неосязаемым, – мир просто утекает сквозь пальцы. А сам он, если долго показывает себя в ложном свете, становится тенью или со временем перестает существовать. Единственной правдой, что продолжала дарить мистеру Диммсдэйлу ощущение реальности на земле, было страдание его души, что налагало истинную печать на всю его внешность. Если бы он хоть раз нашел в себе силы улыбнуться или нацепить лицемерную мину радости, он перестал бы существовать!
В одну из тех отвратительных ночей, на которые мы слабо намекнули (но воздержимся от подробного описания), священник поднялся со стула. Новая мысль осенила его. И в этой мысли он мог обрести мгновение покоя. Одевшись с тщательностью, которая полагалась обычно для публичных богослужений, и с точностью в той же манере, он мягко спустился по лестнице, отпер дверь и вышел.
12
Бдение священника
Шагая в некоем подобии сна, как казалось, и, возможно, действительно под влиянием некоего вида сомнамбулизма, мистер Диммсдэйл достиг места, где уже несколько лет назад Эстер Принн пережила свои первые часы публичного унижения. Та же платформа или эшафот, черная и покрытая потеками от гроз и солнца минувших лет, истертая подошвами череды грешников, что с тех пор поднимались сюда, все так же стояла под балконом молельного дома. Священник поднялся по ступеням.
Это была темная ночь в начале мая. Нетронутый покров облаков окутывал все небо от зенита до горизонта. Если бы та же толпа, стоявшая, глазея на наказание Эстер Принн, собралась сейчас, в темноте полуночи никто не смог бы различить ни лица над эшафотом, ни едва видных очертаний человеческой фигуры. Весь город спал. И не было риска разоблачения. Священник мог стоять там, если желал, пока утро не загорится на востоке, без малейшей опасности, помимо холода и сырости ночного воздуха, что пробирала до костей и могла сковать суставы ревматизмом, а горло забить кашлем и катаром, тем самым обманув аудиторию, ожидавшую завтрашних молитв и проповеди. Ни один взгляд не мог видеть его, не считая того недремлющего, что видел его в чулане с кровавой плетью. Так почему же тогда он пришел сюда? Что это, как не насмешка над покаянием? О да, то была насмешка, но душа его насмехалась сама над собой! Пародия, от которой краснели и плакали ангелы, а враги рода человечества разражались довольным смехом! Он был приведен сюда импульсом того Раскаяния, которое преследовало его повсюду и чьей сестрой и ближайшим компаньоном была Трусость, неминуемо заставлявшая его отступать, сжимая в дрожащей хватке в тот самый миг, когда иной импульс толкал его на грань разоблачения. Бедный страдающий человек! Какое право имел подобный слабый характер отягощать себя преступлением? Преступления принадлежат обладателям стальных нервов, в чьей воле либо вынести их, либо, при слишком сильном давлении, направить свою яростную дикую силу в доброе русло и сразу же искупить! А этот хрупкий и едва ли не самый чувствительный дух не мог ни того ни другого и все же постоянно пытался сделать то или иное, что переплеталось в один гордиев узел агонии, взывающей к небу вины и напрасного покаяния.
А потому, стоя на эшафоте в тщетной демонстрации искупления, мистер Диммсдэйл был охвачен великим ужасом, словно вся Вселенная пристально всматривалась в алую метку на его обнаженной груди, вырезанную над сердцем. В ту точку, воистину, уже долгое время впивался отравленный клык телесной боли. Без малейшего усилия воли и не в силах сдержать себя, он закричал; и этот вопль рванулся в ночь, отражаясь от стен домов, эхом отдаваясь в далеких холмах, словно компания дьяволов, заслышав вложенное в него страдание и ужас, решила поиграть со звуком, перебрасывая его то туда, то сюда.
– Свершилось! – пробормотал священник, закрывая лицо руками. – Весь город проснется и поспешит сюда, чтобы увидеть меня!
Но этого не случилось. Крик показался его собственному возбужденному слуху куда громче, чем это было на самом деле. Город не проснулся, или же, если проснулся, сонные горожане спутали его либо с отголоском кошмара, либо с шумом ведьм, чьи голоса в то время часто разносились над поселениями и одинокими коттеджами, когда шабаш проносился с Сатаной по воздуху. А потому священник, не услышав никакой суеты потревоженных, открыл глаза и оглянулся. В одном из окон спален губернаторской усадьбы, стоявшей в некотором отдалении на перекрестке с другой улицей, он заметил самогó старого судью – с лампой в руке, в ночном колпаке и длинной белой ночной рубашке, окутывавшей фигуру. Тот выглядел призраком, которого без причины подняли из могилы. Крик, очевидно, обеспокоил его. В другом окне того же дома возникла старая миссис Хиббинс, сестра губернатора, тоже с лампой, в свете которой даже издали было видно, насколько кислое и недовольное у нее лицо. Вдова высунула голову в окно и с беспокойством посмотрела вверх. Без сомнения, эта почтенная леди-ведьма слышала крик мистера Диммсдэйла и перепутала его, по причине множественного эха и повторений, с воплями чертей и ночных колдуний, хорошо знакомых ей по лесным похождениям.
Заметив отсвет лампы губернатора Беллингема, старая леди быстро погасила собственную и исчезла. Возможно, взмыла в грозовые небеса. Священник больше не видел ее перемещений. Судья, внимательно оглядев темноту – в которой он мог рассмотреть не больше, чем в отверстии мельничного жернова, – отошел от окна.
Священник относительно успокоился. Его глаза, однако, вскоре заметили новый мерцающий свет, поначалу далекий, но постепенно приближающийся к нему по улице. Круг света выхватывал то столб, то забор сада, то решетчатый ставень, а затем водокачку с насосом и арочную дубовую дверь с железным молоточком, крыльцом которой служило грубое бревно. Преподобный мистер Диммсдэйл замечал все эти мимолетные мелочи и сознавал, что это его злой рок приближается в звуке уже различимых шагов и что через несколько минут свет фонаря выхватит из темноты его столь тщательно скрываемый секрет. Свет приближался, и преподобный увидел в его круге своего собрата священника – или, если быть более точным, своего духовного отца и дорогого друга – преподобного мистера Уилсона, который, как догадывался мистер Диммсдэйл, возвращался с молитвы у одра умирающего. Так и было. Добрый старый священник недавно вышел из комнаты, где умирал губернатор Уинтроп, в тот самый час отправившийся в мир иной. И теперь добрый отец Уилсон шагал домой, окруженный, как подобает святым персонажам давних времен, ярким нимбом, что прославлял его во мраке ночных грехов, – словно усопший губернатор оставил ему в наследство свою благодать или же дальний свет небесного города, к вратам которого провожали пилигрима, осиял священника! Свет этого фонаря, подтолкнувший мистера Диммсдэйла к описанным выше сравнениям, заставил его улыбнуться – нет, почти рассмеяться своей фантазии – и затем задуматься, не сходит ли он с ума.
Когда преподобный мистер Уилсон проходил у эшафота, одной рукой натягивая капюшон плаща, а другой удерживая фонарь на уровне груди, священник едва сдержался, чтобы не заговорить…
– Доброго вам вечера, почтенный отец Уилсон. Подойдите сюда, прошу, и уделите мне некоторое время!
О Небо! Неужели мистер Диммсдэйл действительно заговорил? На миг он сам поверил в том, что эти слова сорвались с его губ. Но они прозвучали лишь в воображении. И почтенный отец Уилсон продолжал неторопливо шагать дальше, внимательно всматриваясь в грязную тропку под ногами, так и не повернув головы к позорному эшафоту. Когда дрожащий свет фонаря поблек вдали, священник понял, по охватившему его головокружению, что последние несколько минут стали для него кризисом жуткого волнения, хотя сознание все же невольно попыталось облегчить свои страдания самообманом.
Вскоре после этого мрачное подобие чувства юмора вновь уступило мрачным фантомам мыслей. Он чувствовал, как немеют конечности от непривычного холода ночи, и начинал сомневаться, что сможет спуститься по лестнице эшафота. Утро могло застать его здесь. Весь квартал начнет просыпаться. Самая ранняя пташка, что появится в утреннем сумраке, увидит очертания фигуры на эшафоте и, разрываясь между тревогой и любопытством, начнет стучать в одну дверь за другой, призывая всех увидеть призрака – ведь именно призраком покажется ему стоящий – какого-то покойного преступника. Сумеречная суматоха будет лететь от дома к дому. Затем, когда утренний свет станет ярче, проснутся патриархи семей в своих фланелевых пижамах и замужние дамы, не останавливаясь, чтобы сменить ночные рубашки на платья, поспешат сюда. Все племя почтенных людей, ранее не замеченных даже в растрепанности прически, предстанет на этой площади во всем беспорядке ночных кошмаров. Старый губернатор Беллингем поспешно выйдет сюда, криво застегнув свои брыжи эпохи короля Якова, а с ним и миссис Хиббинс, с лесными травами, прилипшими к подолу юбок, еще более кислая, чем обычно, потому что не сомкнула глаз после ночной скачки; и добрый отец Уилсон тоже, проведя половину ночи у постели умирающего, встревоженный и болезненный от раннего подъема, выдернувшего его из сна о горних высях. С ними наверняка придут старейшины и дьяконы из церкви мистера Диммсдэйла и юные девы, которые так восхищались своим священником, что возвели ему храмы в своих белых грудях, которые теперь, в спешке и смятении, едва ли успеют прикрыть платками. Все жители города вскоре будут спотыкаться о пороги и поворачивать пораженные и испуганные лица в сторону эшафота. Кого они увидят там, окрашенного в алый цвет лучами восходящего солнца? Кого же еще, как не преподобного Артура Диммсдэйла, замерзшего до полусмерти, оглушенного своим позором, стоящего там, где когда-то стояла Эстер Принн!
Охваченный гротескным ужасом этой картины, священник, сам того не сознавая и к собственному испугу, внезапно расхохотался. И тут же ему ответил звонкий, воздушный детский смех, в котором с сердечной дрожью – он сам не знал, от боли она родилась или от радости, – он опознал смех маленькой Перл.
– Перл! Маленькая Перл! – воскликнул он после секундной паузы и заставил себя понизить голос. – Эстер! Эстер Принн? Это вы?
– Да, это я, Эстер Принн! – ответила она с ноткой изумления, и священник услышал, как ее шаги приближаются от тротуара, по которому она шагала. – Это я, а со мной моя маленькая Перл.
– Откуда ты идешь, Эстер? – спросил священник. – Что привело тебя сюда?
– Меня пригласили к умирающему, – ответила Эстер Принн. – К губернатору Уинтропу, чтобы снять с него мерки для погребальных одежд, а теперь я возвращаюсь с ними домой.
– Подойдите же сюда, Эстер, ты и маленькая Перл, – сказал преподобный мистер Диммсдэйл. – Вы обе уже побывали здесь, но меня тогда не было с вами. Поднимитесь же сюда снова, и мы будем стоять здесь втроем.
Она молча поднялась по ступеням и встала на эшафот, держа за руку маленькую Перл. Священник потянулся ко второй руке девочки и взялся за нее. И в тот же миг он словно ощутил сильнейший прилив новой жизни, иной жизни, что потоком захлестывала его сердце и струилась затем по всем его венам, словно мать и дитя подпитывали своей жизненной теплотой его почти оцепеневшую систему. Все трое сформировали словно электрическую цепь.
– Пастор! – прошептала маленькая Перл.
– Что ты хочешь, дитя? – спросил мистер Диммсдэйл.
– А ты будешь стоять тут со мной и мамой завтра в полдень?
– Нет, не так, моя маленькая Перл, – ответил священник, поскольку новая сила того момента влилась и в ужас перед публичным разоблачением, который так долго мучил его, и теперь он дрожал от сплетения старого ужаса и некоей странной радости. – Нет, дитя мое. Я буду стоять с тобой и твоей матерью в иной день, но не завтра.
Перл рассмеялась и попыталась отдернуть руку. Но священник быстро ее поймал.
– Еще немного, дитя мое, – сказал он.
– Но ты пообещай, – попросила Перл, – что возьмешь за руки меня и маму и завтра днем?
– Не тогда, Перл, – вновь ответил священник. – В другой раз.
– А когда в другой раз? – настаивало дитя.
– В день Страшного Суда, – прошептал преподобный, и, как ни странно, ощущение того, что он был профессиональным учителем истины, заставило его ответить именно так. – Тогда и там, перед престолом Судии, твоя мать, и ты, и я должны будем стоять рядом. Но дневной свет этого мира не должен видеть наших встреч!
Перл снова рассмеялась.
Но прежде чем мистер Диммсдэйл закончил говорить, грозовое небо осенила широкая и далекая вспышка света. То был, без сомнения, один из тех метеоров, что часто предстают взорам ночных наблюдателей, сгорая дотла в верхних слоях атмосферы. Но это сияние было настолько сильным, что сумело осветить плотную тучу между небом и землей. Огромное облако стало похоже на купол мощнейшей лампы. Знакомые очертания улицы стали видны ясно, как днем, но при этом с оттенком жути, что всегда отличает знакомые предметы в непривычном ранее освещении. Деревянные дома, с их выступающими ярусами и причудливыми острыми крышами; двери и пороги с растущей рядом ранней травой; огороды, чернеющие свежевспаханной землей, и даже рыночная площадь, граничащая с зелеными насаждениями, – все стало видимым, но со своеобразным оттенком, который придавал иную моральную интерпретацию обычным вещам этого мира, словно рождавшимся заново. И в этом свете стояли священник, прижимавший руку к сердцу, и Эстер Принн, с вышитой алой буквой на груди ее платья, и маленькая Перл, сама по себе символ, была связующим звеном между ними. Они стояли в странном и мрачном свечении, словно то был свет, раскрывающий все тайны, рассвет дня, что должен был объединить всех, кто принадлежит друг другу.
В глазах маленькой Перл светилось волшебство, а на ее лице, которое она подняла к священнику, была та самая лукавая улыбка, так часто придававшая ей эльфийские черты. Она отняла руку у мистера Диммсдэйла и указала на другую сторону улицы. Но он, прижав обе ладони к сердцу, устремился взглядом в зенит.
В те дни не было ничего более привычного, нежели интерпретация всех появлений метеоритов и иных природных феноменов, что случались с регулярностью чуть меньшей, нежели восходы и закаты солнца и луны, как откровений сверхъестественного происхождения. И так сверкающее копье, меч пламени, лук или колчан стрел, будучи замечены в ночном небе, предрекали войну с индейцами. Моровым поветриям предшествовал дождь алого света. Сомнительно, чтобы любое заметное событие, доброе или злое, когда-либо заставало Новую Англию, со времен ее основания до самой революции, без того, чтобы обитатели не были заранее предупреждены каким-то явлением природы. Нередко такие знамения являлись одновременно многим. Но чаще, однако, приходилось полагаться на рассказы одинокого свидетеля, наблюдавшего чудо сквозь цветной, завораживающий и искаженный проводник своего воображения, что впоследствии формировало из увиденного нечто куда более яркое. То была поистине величественная идея – что судьба наций должна предрекаться подобными жуткими криптограммами на небесном своде. Свиток небесной ширины не казался Провидению слишком дорогим для того, чтобы писать на нем человеческие судьбы. То верование любили наши прародители, поскольку предзнаменования того, что их зарождающееся государство под божественным присмотром, делало последний крайне близким и неоспоримым. Но что можно было сказать о человеке, который вдруг решал, что откровение на столь безбрежном фоне адресовано только ему одному? В таком случае подобное могло быть лишь симптомом крайне смятенного состояния сознания человека, который так долго предавался самосозерцанию из-за долгой, сильной и тайной боли, что распространил свой эгоизм на всю окружающую природу, и даже небосвод стал казаться ему всего лишь страницей, подходящей для записей историй его души и судьбы.
А потому мы можем приписать это исключительно болезни глаз и сердца того священника, который, глядя в зенит, узрел возникновение огромной буквы – буквы «А», начертанной темным красным светом. Всего лишь метеор сгорал за мрачной вуалью тучи, не обладая той странностью формы, что придавало ему воображение виновного, или, по крайней мере, не с той отчетливостью, и чья-то еще вина вполне могла углядеть в нем иной символ.
И было одно обстоятельство, которое характеризовало психологическое состояние мистера Диммсдэйла в тот самый момент. Все то время, что он смотрел в зенит, он все же прекрасно сознавал, что маленькая Перл показывает пальчиком на старого Роджера Чиллингворса, стоявшего неподалеку от эшафота. Священник, похоже, видел его тем же взором, которым различил чудесную букву в небесах. Его чертам, как и всем иным предметам, свет метеора придал новое выражение; или же причиной перемен стало то, что лекарь не осторожничал, как в другое время, и не прятал жестокость, с которой смотрел на свою жертву. Определенно, если метеор прожигал небо и освещал землю ужасным светом, напоминавшим Эстер Принн и священнику о дне Страшного суда, то Роджер Чиллингворс вполне мог сойти рядом с ними за архидьявола, который, скалясь в усмешке, пришел на суд потребовать свое. Таким живым было то выражение и так сильно было восприятие священника, что образ остался запечатлен в темноте и после того, как метеор погас, а все остальные предметы снова скрылись из виду.
– Кто этот человек, Эстер? – ахнул мистер Диммсдэйл, охваченный ужасом. – От него меня бросает в дрожь! Ты знаешь его? Я ненавижу его, Эстер!
Она помнила свою клятву и потому молчала.
– Говорю тебе, сама моя душа содрогается от его вида! – снова пробормотал священник. – Кто он? Кто он? Разве ты ничем не можешь мне помочь? В том человеке сокрыт мой безымянный ужас!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































